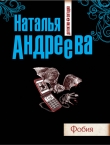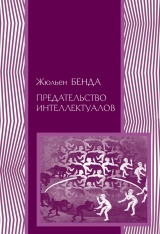
Текст книги "Предательство интеллектуалов"
Автор книги: Жюльен Бенда
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
II. Значение этого процесса. Природа политических страстей
Каково значение этого процесса? О какой человеческой склонности, элементарной и глубокой, свидетельствует отмеченный нами прогресс, а вернее, триумф? Это равносильно вопросу о том, какова природа политических страстей, какую более общую – сущностную – расположенность души они выражают, каково, изъясняясь научным языком, их психологическое основание.
Мне представляется, что политические страсти могут быть сведены к двум основным стремлениям: 1) стремление группы людей получить (или сохранить за собой) какое-то временное благо: территории, материальное благосостояние, политическую власть с доставляемыми ею временными преимуществами; 2) присущее группе людей стремление чувствовать себя особенными, отличнымиот других людей. Иначе говоря, они сводятся к двум стремлениям, из которых одно направлено на удовлетворение материального интереса, а другое – на удовлетворение гордости. Эти два стремления присутствуют в различных политических страстях в разных соотношениях. Судя по всему, расовую страсть, постольку, поскольку она не тождественна национальной страсти, составляет главным образом присущее группе людей стремление отличаться от других; то же самое можно сказать и о религиозной страсти, если рассматривать ее в чистом виде. Напротив, классовая страсть, по крайней мере у рабочего класса, состоит, очевидно, в одном стремлении завладеть временными благами; стремление отличаться, которое первыми стали внушать ему Жорж Санд и апостолы 1848 года, сегодня, кажется, уже покинуло рабочих или, во всяком случае, не находит выражения в их речах. Что касается национальной страсти, то она соединяет в себе оба фактора: патриот хочет и обладать временным благом, и сознавать свое отличие. Вот вам и причина того, почему эта страсть, когда она непритворна, имеет явное превосходство в силе над прочими политическими страстями, в том числе и над социализмом: страсть, движущая пружина которой – один интерес, не в состоянии противоборствовать другой, возбуждаемой интересом и гордостью (поэтому социализм уступает не только патриотизму, но и классовой страсти буржуазии, ведь буржуа тоже хочет и обладать временным, и чувствовать свое отличие). Добавим, что у этих двух стремлений – основанного на интересе и основанного на гордости, – думается, далеко не одинаковый коэффициент пассионарности и, как было сказано выше, сильнейшее из двух – не то, которое обусловлено интересом [158].
А теперь я задам себе вопрос, что означают, в свою очередь, эти основные стремления, кроющиеся в политических страстях. Мне они видятся двумя важнейшими составляющими стремления человека утвердиться в реальном существовании. Стремиться к реальному существованию – значит стремиться: 1) обладать некоторым временным благом; 2) чувствовать себя особенным. Всякое существование, чуждающееся этих двух желаний, всякое существование, ориентированное лишь на духовное благо или прямо утверждающее себя во всеобщем, полагает себя вне реального мира. Политические страсти, и особенно страсти национальные – соединяющие два вышеназванных стремления, – представляются мне, по сути, реалистическимистрастями.
Многие читатели тут со мною поспорят. «Да, – скажут они, – стремления, образующие политические страсти, – и вправду стремления реалистические; но стремления эти индивидуум переносит на целое, частью которого он является: рабочий стремится стать обладателем материальных благ не в своем лице, а в лице своего класса; патриот стремится владеть территориями не как отдельный, ограниченный субъект, а в составе своей нации; и именно в составе своей нации он хочет быть отличным от других людей. Разве назовете вы реалистическими страсти, заключающие в себе такое перенесение с индивидуального на коллективное?» На это я отвечу, что индивидуум, перенося свои стремления на целое, к которому он себя причисляет, тем самым отнюдь не меняет их природы. Он лишь безмерно увеличивает их масштаб. Стремиться обладать временным в составе своей нации, стремиться отличаться в составе своей нации– это опять-таки означает стремиться обладать временным, стремиться отличаться; но только для француза, к примеру, это значит стремиться владеть Бретанью, Провансом, Гиенью, Алжиром, Индокитаем, стремиться отличаться в лице Жанны д’Арк, Людовика XIV, Наполеона, Расина, Вольтера, Виктора Гюго, Пастера. Заметьте, что это значит к тому же связывать свои стремления уже не с зыбким и преходящим бытием, а с бытием «вечным» и воспринимать их соответственным образом; национальный эгоизм, оттого что он является национальным, не только не перестает быть эгоизмом [159], но и превращается в «священный» эгоизм. Дополним наше определение. Именуя политические страсти реалистическими, мы подразумеваем реализм особого свойства, немало способствующий их могуществу: это обожествляемыйреализм [160].
Итак, если мы хотим соотнести описанное мною совершенствование политических страстей с более глубоким, сущностным порядком вещей, мы можем сказать, что люди сегодня обнаруживают осознанное, как никогда прежде, стремление утвердиться в реальном, или практическом, способе существования, противополагаемом бескорыстному, или метафизическому. – Кроме того, примечательно, что в наши дни политические страсти все более открыто повинуются реализму, и только ему одному. В этом весь социализм, который сейчас сплошь и рядом заявляет, что уже не заботится обо всем человечестве и не думает о всеобщей справедливости или еще о каком-нибудь «метафизическом фантоме» [161], а только добивается временных благ для конкретного класса. Национальная душа повсюду гордится своим безраздельным реализмом; французский народ, который некогда сражался за то, чтобы передать другим народам учение, почитаемое им за счастье (я говорю «народ», поскольку его правители никогда не проявляли такой наивности), – этот самый народ теперь устыдился бы малейшего подозрения в том, что он борется «за принципы» [162]. Разве не показательно, что единственные войны, которые в прошлом до известной степени возбуждали сколько-нибудь бескорыстные страсти, т.е. войны религиозные, – это и единственные войны, которым человечество положило конец? [163]Что такие широкие идеалистические движения, какими были крестовые походы, во всяком случае для рядовых участников, вызвали бы у нашего современника улыбку, словно детские забавы? Не знаменательно ли и то, что национальные страсти – как показано выше, самые реалистические из политических страстей – в наше время, как мною же отмечено, поглощают другие политические страсти? [164]Добавим, что эти страсти, постольку, поскольку они выражают стремление группы людей отличаться от других групп, достигли небывалой степени самосознания [165]. Наконец, высший атрибут политических страстей, обожествление присущего им реализма, тоже признается откровенно как никогда: Государство, Отечество, Класс – сегодня это поистине бог [166]; можно сказать, что для многих (а некоторые этим гордятся) иного бога и не существует. Характер современных политических страстей говорит о том, что человечество становится более реалистичным, чем когда бы то ни было, – оно становится чрезвычайно, до религиозности реалистичным.
III. Интеллектуалы. Предательство интеллектуалов
Я создал его, дабы он был духовным во плоти своей; а ныне он стал плотским и в самом духе.
Боссюэ. Благочестивые размышления о таинствах, VII, 3
В предыдущих разделах моей книги речь шла только о массах, буржуазных или народных, о королях, министрах и политических руководителях, т.е. о той части рода человеческого, которую я буду называть мирской; все ее предназначение, по существу, состоит в служении временным интересам, и в общем она лишь делает то, чего от нее и следовало ожидать, показывая себя все более реалистической и возводя свой неуклонный реализм в систему.
Наряду с тем человечеством, которое поэт характеризует единой строкой:
O curvæ in terram animæ et cælestium inanes [167],
вплоть до последних пятидесяти лет распознавалось и другое, существенно отличное от него и в определенной мере его обуздывавшее. Я имею в виду тот класс людей, который я буду здесь называть интеллектуалами, обозначая этим именем всех тех, кто в своей деятельности, по существу, не преследует практических целей и, находя отраду в занятиях искусством, или наукой, или метафизическими изысканиями – словом, в обладании благом не временным, как бы говорит: «Царство мое не от мира сего»*. Действительно, обозревая более чем двухтысячелетний период истории, я вижу протянувшуюся до наших дней непрерывную череду философов, религиозных мыслителей, литераторов, художников, ученых – можно сказать, почти всех, что жили в этот период, – чьи устремления составляют полную противоположность реализму масс. Если говорить конкретно о политических страстях, то интеллектуалы противились им двояко: либо, вовсе отвратившись от этих страстей, они, как Леонардо да Винчи, Мальбранш или Гёте, являли образец совершенно бескорыстной активности ума и внушали веру в высшую ценность такой формы существования; либо, будучи собственно моралистами и наблюдая столкновение человеческих эгоизмов, они, как Эразм Роттердамский, Кант или Ренан, проповедовали под именами гуманности или справедливости некое отвлеченное начало, высшее по отношению к этим страстям и прямо им противоположное. Без сомнения, деятельность интеллектуалов – несмотря на то что они обосновали современное государство, одержавшее верх над индивидуальными эгоизмами, – оставалась преимущественно теоретической; они не воспрепятствовали мирской части человечества наполнить историю распрями и кровопролитиями, но и не позволили ей сделать из ненависти религию и вменить себе в великую заслугу совершенствование разрушительных страстей. Только благодаря таким людям можно сказать, что на протяжении двух тысячелетий человечество творило зло, но поклонялось добру. Это противоречие было гордостью человеческого рода и создавало разлом, сквозь который могла проникнуть цивилизация.
Однако в конце XIX века происходит радикальная перемена: интеллектуалы начинают потворствовать политическим страстям; накидывавшие узду на реализм народов теперь становятся его поощрителями. Этот переворот в духовно-нравственной жизнедеятельности человечества совершается несколькими путями.
1. Интеллектуалы усваивают политические страсти
Прежде всего, интеллектуалы усваивают политические страсти. Никто не будет спорить с тем, что сегодня по всей Европе огромное большинство писателей и художников и значительное число ученых, философов, «служителей Божьих» исполняют свою партию в хоре голосов расовой и политической ненависти; еще труднее отрицать, что они усваивают национальные страсти. Несомненно, имена Данте, Петрарки, д'Обинье, какого-нибудь защитника Кабоша или какого-нибудь проповедника Католической лиги достаточно красноречиво говорят о том, что некоторые интеллектуалы и в прежние времена всей душой предавались политическим страстям; но эти «интеллектуалы форума» составляли исключение, по крайней мере среди великих, и если мы приведем множество других имен: Фома Аквинский, Роджер Бэкон, Галилей, Рабле, Монтень, Декарт, Расин, Паскаль, Лейбниц, Кеплер, Гюйгенс, Ньютон, даже Вольтер, Бюффон, Монтескьё, и проч. и проч., – то, полагаем, мы можем повторить, что до наших дней люди мыслительного склада в целом либо были далеки от политических страстей и говорили вслед за Гёте: «Оставим политику дипломатам и военным», либо – если они принимали эти страсти в соображение (как, например, Вольтер) – относились к ним критически и сами их не испытывали; больше того, можно сказать, что если их и допускали в сердце, подобно Руссо, де Местру, Шатобриану, Ламартину или даже Мишле, то проявляли при этом такую широту чувства, такую приверженность отвлеченным воззрениям, такое пренебрежение сиюминутным, что наименование «страсть» было здесь, собственно, неприменимо. Сегодня достаточно назвать Моммзена, Трейчке, Оствальда, Брюнетьера, Барреса, Леметра, Пеги, Морраса, Д’Аннунцио, Киплинга, чтобы стало ясно: интеллектуалы переживают политические страсти со всеми отличительными чертами страстей: жаждой действия, желанием получить немедленный результат, заботой единственно о достижении цели, невниманием к аргументации, крайностями, ненавистью, навязчивыми идеями. Современный интеллектуал уже не уступает государственное поприще человеку мирскому; в нем проснулась душа гражданина, и он заставляет ее трудиться изо всех сил; он горд этой душой; его литература полна презрения к тому, кто замыкается в сфере искусства или науки и не разделяет страсти, кипящие в государстве [168]; в споре между Микеланджело, стыдившим Леонардо да Винчи за равнодушие к бедствиям Флоренции, и создателем «Тайной вечери», отвечавшим, что сердце его без остатка отдано изучению красоты, он решительно становится на сторону первого. Давно миновали времена, когда Платон предлагал сковывать философа цепями, чтобы принудить его заботиться о государстве. Тот, кто призван стремиться к вечному, думает, что возвышает себя гражданскими делами, – вот каков современный интеллектуал. – Что подверженность интеллектуала страстям людей мирских усиливает страсти, присущие этим последним, естественно и очевидно. Во-первых, у них перед глазами теперь уже нет тех людей особой породы, интересы которых простираются за пределы практического мира. Во-вторых (и это главное), интеллектуал, усваивая политические страсти, вносит в их развитие огромный вклад благодаря утонченности своих чувств, если он художник, благодаря своей способности убеждать, если он мыслитель, и в обоих случаях – благодаря своему нравственному авторитету [169].
Прежде чем продолжать, думаю, мне следует уточнить кое-какие детали.
1. Я говорю о мыслящих людях прошлого как о некоем целом. И когда я утверждаю, что прежние интеллектуалы противились мирскому реализму, а нынешние служат ему, я рассматриваю каждую из этих двух групп в целом, изображая ее крупным планом; я противопоставляю один общий признак другому общему признаку. Поэтому я отнюдь не считал бы себя опровергнутым, если бы кто-нибудь из читателей указал мне на то, что в первой группе такой-то был реалистом, а во второй такой-то им не является, – коль скоро этот читатель согласился бы со мной, что в целом каждая группа обладает именно тем признаком, который я отметил. Точно так же если я говорю об отдельном интеллектуале, то о творчестве его сужу по основному признаку – по его концепциям; этот признак доминирует над всеми остальными, даже если они иногда противоречат доминанте. И значит, я не должен отказываться от своего представления о Мальбранше как о предшественнике либерализма, оттого что некоторые строки его «Трактата о морали» похожи на оправдание рабства, или от своего представления о Ницше как о моралисте, проповедующем войну, оттого что в конце «Заратустры» содержится манифест братства, восходящий к Евангелию. Это тем более правомерно, что Мальбранш в качестве защитника рабства или Ницше в качестве гуманиста не оказали на меня ни малейшего влияния, а пишу я о том, какое влияние оказали интеллектуалы на общество, а не о том, чем они были сами по себе.
2. Многие нам возразят: как вы можете причислять к интеллектуалам и упрекать в забвении духа этого сословия таких людей, как, например, Баррес или Пеги? Ведь они, несомненно, являются людьми действия, чья политическая мысль со всей очевидностью занята потребностями текущего момента, стимулируется единственно вопросами, стоящими на повестке дня; первый даже и взгляды свои выразил, за редким исключением, в газетных статьях. Отвечаю: их политическая мысль, которая и в самом деле есть только форма непосредственного действия, выставляется ими как продукт в высшей степени умозрительной интеллектуальной активности, как плод подлинно философских размышлений. Никогда ни Баррес, ни Пеги не согласились бы, чтобы их, даже читая их полемические сочинения, принимали всего лишь за полемистов [170]. Эти люди, на самом деле к интеллектуалам не принадлежащие, выдают себя за интеллектуалов и почитаются таковыми (Баррес умело изображал из себя мыслителя, удостоившего вступить в борьбу), и именно в этом качестве они пользуются особым авторитетом у людей действия. Тема нашего исследования – интеллектуал, но не постольку, поскольку он является им, а поскольку он им считается и соответственно этой репутации влияет на мир.
Таким же будет и мой ответ относительно Морраса и других назидателей из «Action française», о которых мне тоже скажут, что они – люди действия и непозволительно ссылаться на них как на интеллектуалов. Эти люди притязают на то, что их деятельность развертывается на основе доктрины, подытоживающей совершенно объективное исследование истории, работу чистого научного разума; и именно этому притязанию ученых, людей, сражающихся за истину, найденную в тиши лаборатории, именно этой позиции хотя и воинствующих, но все же интеллектуаловони обязаны особым вниманием к себе со стороны людей действия.
3. Наконец, я хотел бы объясниться еще по одному вопросу. Мне думается, что, вмешиваясь в общественные конфликты, интеллектуал изменяет своему предназначению, только если он, подобно названным мною публицистам, вступает в борьбу ради того, чтобы восторжествовала реалистическая страсть класса, расы или нации. Когда Жерсон взошел на кафедру собора Нотр-Дам, чтобы заклеймить убийц Людовика Орлеанского*; когда Спиноза, рискуя жизнью, написал на дверях подстрекателей к убийству де Виттов: «Ultimi barbarorum»*; когда Вольтер боролся за Каласа; когда Золя и Дюкло принимали участие в знаменитом процессе*, – эти интеллектуалы в самом высоком смысле исполняли миссию интеллектуалов; они служили отвлеченной справедливости и не пятнали себя страстью к чему-либо мирскому [171]. Впрочем, существует надежный критерий того, совместима ли публичная деятельность интеллектуала с его призванием: мирское окружение, интересы которого он нарушает, незамедлительно обрекает его на бесчестье (Сократ, Иисус). Можно сказать наперед, что интеллектуал, снискавший похвалу мирской части общества, не верен своему предназначению. Но вернемся к подверженности современных интеллектуалов политическим страстям.
Новой, и притом чреватой последствиями, представляется мне их подверженность национальной страсти. Конечно же, человечеству не пришлось дожидаться нашего времени, чтобы интеллектуалы изведали эту страсть. Не говоря о поэтах, веками воздыхавших благолепным хором:
Nescio qua natale dulcedine solum cunctos / Ducit [172], —
и не углубляясь в Античность, когда философы – до стоиков – все были рьяными патриотами, замечу, что в истории после наступления христианской эры задолго до наших дней встречались писатели, ученые, художники, моралисты и даже служители «всеобщей» церкви, более или менее отчетливо выражавшие особую привязанность к той группе, к которой они принадлежали. Но у них это чувство имело опору в разуме; они не теряли способности судить свою нацию, громко заявлять о ее неправоте, если считали ее неправой. Напомню, что Фенелон и Массийон порицали некоторые войны Людовика XIV; Вольтер осуждал опустошение Пфальца, Ренан – насилия Наполеона, Бокль – нетерпимость Англии к Французской революции; Ницше признавал недопустимыми грубые действия Германии в отношении Франции [173]. Это только в наше время люди мыслящие или называющие себя таковыми хвалятся тем, что над их патриотизмом рассудок не властен, провозглашают: «Пусть даже отечество неправо, надо быть с ним заодно» (Баррес), объявляют изменниками нации своих соотечественников, желающих сохранить за собой духовную свободу или, по крайней мере, свободу слова. Во Франции не забыли, каким нападкам многие «мыслители» подвергали во время последней войны Ренана за его свободные суждения об истории своей страны [174]. Незадолго до этого целая плеяда молодых людей [175], считающих себя сопричастными жизни духа, взбунтовалась против одного из своих идейных наставников (Жакоба), который учил их патриотизму, не исключающему права на критику. Можно смело утверждать, что слова, сказанные немецким ученым в октябре 1914 года, после вторжения в Бельгию и других беззаконий германской нации: «Мы не должны ни в чем оправдываться» [176], были бы сказаны большинством тогдашних духовных вождей, если бы их страна находилась в аналогичных обстоятельствах, – Барресом во Франции, Д’Аннунцио в Италии, Киплингом в Англии (судя по его поведению в годы англо-бурской войны), Уильямом Джемсом в Америке (вспомним, как он расценивал оккупацию Кубы Соединенными Штатами) [177]. Впрочем, я готов признать, что именно этот слепой патриотизм делает нации сильными. Патриотизм Фенелона или Ренана – не тот, что укрепляет империи. Остается решить, призваны ли интеллектуалы укреплять империи.
Подверженность интеллектуалов национальной страсти особенно примечательна у тех, кого я назвал бы духовными людьми по преимуществу, т.е. у священнослужителей. Значительное большинство этих людей во всех странах Европы в продолжение полувека уже испытывает национальное чувство [178]и, следовательно, перестало являть миру пример сердец, безраздельно принадлежащих Богу. Мало того, духовные лица, похоже, предаются этому чувству с такой же страстью, как и писатели, и тоже поддерживают свои государства в их бесспорно неправедных деяниях. Мы ясно увидели это во время последней войны, когда у немецкого духовенства не вырвалось ни слова протеста против творимых германской нацией бесчинств, – молчание его, конечно, было вызвано не только осторожностью [179]. Совсем не так вели себя испанские теологи XVI века Бартоломе де Лас Касас и Витория, известные своим неустанным обличением жестокости конкистадоров, их соотечественников, к индейским племенам; я не утверждаю, что это побуждение было тогда показательным для служителей церкви, я только спрашиваю, есть ли сегодня хоть одна страна, где они испытывали бы такое побуждение, где они хотя бы желали, чтобы им позволили его испытывать? [180]
Отмечу еще одну черту патриотизма, свойственного современному интеллектуалу: ксенофобию. Ненависть к «человеку со стороны» ( чужаку), неприятие его, презрение к тому, что « не мое». Все эти чувства, постоянные у народов и, вероятно, необходимые для их существования, усвоили в наши дни так называемые мыслящие люди и до того серьезно, без тени наивностипретворяют в поступки, что это усвоение тем более достойно упоминания. Известно, с какой систематичностью сообщество немецких ученых вот уже пятьдесят лет провозглашает упадок всякой цивилизации, исключая созданную германской расой, и как в недавнем прошлом во Франции поклонники Ницше или Вагнера и даже Канта или Гёте третировались французами, претендовавшими на участие в духовной жизни [181]. Насколько эта форма патриотизма нова у людей мыслящих, в особенности во Франции, убеждаешься, когда подумаешь о Ламартине, Викторе Гюго, Мишле, Прудоне, Ренане, – если сослаться на интеллектуалов-патриотов эпохи, непосредственно предшествующей интересующему нас периоду. Надо ли говорить, насколько и тут оживили страсть мирских усвоившие ее интеллектуалы?
Нам растолкуют, что наблюдавшееся в последние полвека, и особенно в пять предвоенных лет, отношение других государств к нашей стране требовало от французов, которые хотели защитить свою нацию, величайшей национальной пристрастности и лишь те, кто поддался этому фанатизму, были подлинными патриотами. Мы не утверждаем обратное. Мы только говорим, что интеллектуалы, впавшие в такой фанатизм, изменили своему предназначению, ибо оно заключается в том, чтобы в противовес несправедливости, на которую обрекает народы поклонение земному, составлять корпорацию, поддерживающую единственный культ – культ истины и справедливости. Правда, эти новые интеллектуалы заявляют, что им неведомо, что такое справедливость, истина или другие «метафизические туманности»; что для них истинное определяется полезным, а справедливое – обстоятельствами. Все это высказывал еще Калликл, с тем, однако, различием, что он возбуждал негодование влиятельных мыслителей своей эпохи.
Следует признать, что в расположенности современного интеллектуала к патриотическому фанатизму первенство закрепилось за немецкими интеллектуалами. В то время, когда Лессинг, Шлегель, Фихте, Гёррес уже настраивались на безоглядное преклонение перед «всем немецким» и пренебрежение ко всему иноземному, французские интеллектуалы еще одухотворялись непреложной справедливостью к зарубежным культурам (недаром же романтики отличались космополитизмом), и это продолжалось долгие годы. Интеллектуал-националист – по существу, немецкое новоприобретение. Впрочем, мы нередко будем возвращаться к этой теме: моральные и политические позиции, занимаемые в последние пятьдесят лет европейскими интеллектуалами, имеют по большей части немецкое происхождение, и в духовной сфере Германия сейчас одержала в мире полную победу [182].
Можно сказать, что Германия, создав у себя интеллектуала-националиста и в результате получив наглядное прибавление силы, сделала этот тип необходимым и во всех других странах. В частности, неоспоримо, что Франция, как только Германия сформировала своих Моммзенов, обязана была сформировать своих Барресов, чтобы не уступать в национальном фанатизме и не ставить под угрозу собственное существование. Всякий француз, стремящийся поддержать свою нацию, должен радоваться при мысли, что за полстолетия Франция выработала литературу, националистическую до фанатизма. Но лучше бы, возвышаясь на какое-то время над своим интересом и соблюдая тем самым достоинство своей расы, французы печалились о том, что ход событий принуждает их радоваться подобным вещам.
В общем, можно считать, что реалистическая позиция была навязана современным интеллектуалам, особенно французским, внешними и внутренними политическими условиями, в которых оказались их нации. При всей важности этого факта, мы нашли бы его не столь важным, если бы видели, что интеллектуалы сожалеют о нем, чувствуют, насколько он умаляет их значимость, какую угрозу несет цивилизации, сколь обезображивает мир. Но как раз этого-то мы и не наблюдаем. Мы видим, что они, наоборот, с удовольствием погружаются в реализм; они полагают, что националистический пыл возвеличивает их, служит цивилизации, украшает человечество. И ясно, что суть этого явления – не просто трудность исполнения определенной функции в связи с текущими событиями, а крушение нравственных понятий у тех, кто призван воспитывать общество.
Я хотел бы отметить в патриотизме современных интеллектуалов еще две черты, которые представляются мне новыми и из которых вторая весьма оживляет эту страсть у народов.
Первая черта лучше всего раскрывается по контрасту с несколькими строками писателя XV века*, тем более примечательными, что автор их на деле доказал глубину своей любви к родине: «Все города, – говорит Гвиччардини, – все государства, все царства смертны; всему сущему, будь то по самой его природе или по стечению обстоятельств, рано или поздно приходит конец. Поэтому гражданин, переживающий конец своего отечества, не может скорбеть о его несчастье так же, как о собственной близкой погибели; отечество постигла участь, которая неминуемо должна была его постичь; невзгоды всецело падают на того, кому досталась мрачная доля родиться во времена, когда должно было произойти такое бедствие». Я спрашиваю себя, есть ли среди современных мыслителей хоть один, кто, будучи так же предан отчизне, как автор этого отрывка, осмелился бы составить о ней, а тем более высказать подобное суждение, поразительно свободное в своей печали. Кроме того, мы затрагиваем тут одно из главных проявлений неблагочестия современных людей: нежелание верить, что существует развитие высшего порядка, в которое их нации будут вовлечены, как и всё кругом. Древние, восторженно почитая свои города, принижали их, однако, перед Судьбою. Античный город надеялся на божественное покровительство, но не мнил себя божественным и с необходимостью вечным. Вся литература древних показывает, насколько недолговечными считали они свои государственные установления, созданные единственно по милости богов, чье благоволение бывает переменчивым [183]. Фукидид допускает, что когда-нибудь Афины исчезнут с лица земли; у Полибия победитель Карфагена, глядя на охваченный огнем город, размышляет о судьбе Рима и восклицает:
Будет некогда день, и погибнет священная Троя*;
Вергилий воспевает земледельца, которого не тревожат
res romanae et peritura regna [184].
Это только наши современники – стараниями интеллектуалов – превращают государство в башню, бросающую вызов небесам.
Другая новая черта в патриотизме современных интеллектуалов – их стремление соединить свой духовный строй с некой национальнойдуховной формой, которую они, естественно, противопоставляют иным национальным духовным формам. Известно, сколько ученых по обе стороны Рейна в последние пятьдесят лет утверждают свою мысль во имя французскойлибо немецкойнауки; как жаждут многие наши писатели ощутить в себе французскуючувствительность, французскийум, французскуюфилософию. Одни заявляют, что воплощают арийскую мысль, арийскую живопись, арийскую музыку, другие открывают, что у такого-то ученого, писателя или деятеля искусства бабушка была еврейкой, и чтят в нем семитский гений. Здесь мы не исследуем, несет ли на себе духовное достояние ученого или художника печать его национальности или расы и если да, то в какой степени; мы лишь констатируем желание современных интеллектуалов, чтобы это было так, и подчеркиваем, насколько ново такое желание. Расин и Лабрюйер не думали представлять свои сочинения ни себе самим, ни миру как проявления французской души, Гёте и Винкельман не помышляли вменять свои произведения германскому гению [185]. Тут есть весьма примечательный факт, касающийся в особенности художников. Любопытно, что люди, можно сказать, профессионально занятые утверждением индивидуальности и сто лет тому назад обретшие в романтизме ясное сознание этой истины, сегодня в некотором смысле отрешаются от столь привычного для них сознания и хотят ощущать себя выражением общего бытия, проявлением коллективной души. Правда, самоотречением индивидуума ради «великого безличного и вечного Целого» удовлетворяется другой романтизм; это побуждение художника может объясняться, кроме того, желанием – которого Баррес, например, вовсе не скрывает – умножить наслаждение самим собой, ибо сознание индивидуального «я» десятикратно углубляется сознанием «я» национального (в этом втором сознании художник черпает и новые лирические темы). Таким образом, можно допустить, что художник не глух к собственному интересу, когда объявляет себя выражением гения нации и призывает целую расу рукоплескать себе самой, а не произведению, которое он ей дарит [186]. Нет надобности говорить, что, относя по тем или иным причинам личное свое достоинство на счет своей нации – и, как известно, широко об этом вещая, – великие или будто бы великие умы обманывали ожидания, если не льстили самолюбию народов и не давали пищу высокомерию, с каким каждый народ демонстрирует перед соседями свое превосходство [187].