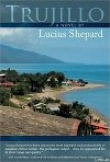Текст книги "Преступление падре Амаро"
Автор книги: Жозе Мария Эса де Кейрош
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
В один из таких дней аббат гулял с Амелией в плодовом саду; начав излагать выгоды, какие извлек бы каноник из этого участка, если бы выкорчевал и распахал сад, он кончил подвигами миссионеров в Индии и Японии, а Амелия вдруг рассказала ему о странных шумах в доме по ночам и о своих ночных страхах.
– Ай, какой стыд! – рассмеялся аббат. – Взрослая, женщина – и вдруг боится буки!
Ободренная добротой аббата, Амелия заговорила о голосах, которые угрожали ей из-за кровати.
Улыбка сошла с лица аббата.
– Милая моя барышня, это порождение вашей фантазии, с которым нужно во что бы то ни стало совладать. Не спорю, на свете бывают чудеса, но Бог не станет запросто разговаривать с кем попало, спрятавшись за кроватью, и не позволит таких шуток дьяволу… Голоса эти – если вы их действительно слышите и если грехи ваши очень тяжки – доносятся не из-за изголовья, а из глубины вашей души, вашей совести… А коли так, вы можете положить в своей комнате не одну Жертруду, а сотню Жертруд и даже целый батальон пехоты, и все равно будете их слышать… Вы слышали бы их, даже если бы были глухи. Что вам действительно необходимо – это успокоить совесть, которая просит покаяния и очищения.
Разговаривая так, они взошли на террасу. Усталая Амелия села на каменную скамью и стала смотреть вокруг; взгляд ее бродил по крышам хлевов, по длинной лавровой аллее, по гумнам и дальним полям, ровный квадратам пашен, сменявших одна другую и зеленевших ярче и влажней обычного после небольшого утреннего дождя. Теперь, к вечеру, воздух был тих и прозрачен; ветер улегся, и кучевые облака висели неподвижно, чуть окрашенные по краям розовым отсветом заката… Она размышляла о разумных словах аббата и о том, какой глубокий покой сошел бы в ее душу, если бы грехи, нависшие над ней, как каменные утесы, вдруг растаяли, развеялись силой покаяния… И ей страстно захотелось душевного мира, захотелось светлого успокоения, подобного тишине этих равнин.
Какая-то птица запела и смолкла; через минуту она снова пустила долгую трель – такую радостную, такую трепетную, что Амелия улыбнулась.
– Это соловей?…
– Соловьи в такое время не поют, – поправил аббат. – Это дрозд. Вот кто не боится привидений и не слышит голосов. Ишь заливается, мошенник!
И действительно, голос дрозда звенел и переливался таким торжеством, таким упоением жизнью, что в саду стало празднично от этого птичьего ликования.
И Амелия, потрясенная радостным щебетом птицы, уступила одному из тех неудержимых нервных порывов, какие бывают у истеричных женщин, и вдруг заплакала.
– Ну, ну, ну, что это? – всполошился аббат.
Он взял ее за руку с фамильярностью друга и старого человека и стал успокаивать.
– Как я несчастна!.. – бормотала она, борясь с рыданьями.
– Нет никакой причины, чтобы вам быть несчастной… Как ни горьки наши печали, душе христианина всегда доступно утешение. Нет греха, которого не простил бы господь, и нет страдания, которого бы он не утишил. Только не надо загонять внутрь свое горе… Это оно вас душит и заставляет плакать. Если я могу вам помочь, приходите.
– Когда? – спросила она, вся трепеща от желания поскорей отдать себя под защиту этого святого человека.
– Когда угодно, – улыбнулся аббат. – У меня нет специального часа, отведенного на утешение. Церковь всегда открыта, Бог всегда с нами…
Рано утром, задолго до того как проснулась старуха, Амелия пошла в аббатство; два полных часа она лежала ниц в маленькой исповедальне перед сосновым алтарем, который славный аббат собственноручно окрасил в синий цвет, разбросав по синему полю головки херувимов с крылышками вместо ушей – произведение церковной живописи, о котором старик говорил не без тайной гордости.
XXII
Падре Амаро кончил обедать и курил, устремив глаза на потолок, чтобы не видеть изможденное лицо коадъютора. Уже полчаса коадъютор неподвижно, точно мертвый, сидел на стуле, роняя каждые десять минут вопрос, который звучал так же уныло в пустом доме, как над городом бой соборных часов, отбивающих четверть в ночной тишине.
– Вы больше не подписываетесь на «Нацию», сеньор соборный настоятель?
– Нет, я читаю «Народную газету».
Коадъютор снова впал в молчание, медленно накапливая слова для нового вопроса. Наконец и этот вопрос с трудом вытек из него:
– Известно что-нибудь об этом негодяе, который написал заметку?
– Нет. Он уехал в Бразилию.
В этот самый миг вошла служанка и доложила: «Там пришли и спрашивают сеньора соборного настоятеля». Это была условная формула, означавшая, что Дионисия ждет на кухне.
Она не появлялась уже несколько недель, и Амаро, охваченный живейшим любопытством, вышел из столовой, плотно прикрыл за собой дверь и вызвал почтенную матрону на лестницу.
– Важная новость, сеньор настоятель! Я бежала бегом. Дело серьезное. Жоан Эдуардо здесь!
– Неужели! – вскричал Амаро. – А я только что о нем говорил! Удивительно! Какое совпадение…
– Это точно. Я видела его сегодня. Своим глазам не поверила!.. И уже все знаю. Он учит детей у этого чудака…
– У какого чудака?
– У сеньора из Пойяйса… Не знаю, живет он там постоянно или только приезжает каждый день. А только он опять здесь. Ходит этаким франтом, костюм с иголочки… Ну, я подумала, надо предупредить: как бы не встретился с Амелиазиньей в Рикосе – ведь это как раз на полдороге в Пойяйс… Что скажете?
– Вредная скотина! – злобно буркнул Амаро. – Когда его не нужно, он тут как тут. Так, значит, он не уехал в Бразилию?
– Стало быть, нет. Я видела не привидение, а его самого, во плоти… Как раз выходил из лавки Фернандеса, одет по самой последней моде… Все-таки не грех предупредить менину, сеньор настоятель, чтобы не выглядывала из окна.
Амаро сунул ей две серебряные монеты, на которые она явно рассчитывала, и через четверть часа, спровадив коадъютора, шагал по дороге в Рикосу.
Сердце его сильно забилось, когда перед ним возник желтый фасад, недавно выкрашенный охрой, широкая боковая терраса, идущая параллельно садовой стене, и благородные каменные вазы, расставленные по ее парапету. Сейчас, после стольких недель разлуки, он увидит свою Амелиазинью! И он с радостью предвкушал страстный возглас, с которым она прыгнет ему на шею.
В первом этаже при прежних владельцах усадьбы помещались конюшни. Теперь весь этот этаж, с маленькими зарешеченными окошечками, почти неразличимыми под толстым слоем паутины, зарос плесенью и грибком и был отдан в полное владенье крысам. Подъезд выходил в темный внутренний двор, в углу которого уже много лет лежали горой пустые бочки, образуя что-то вроде баррикады. Справа виднелся благородный изгиб лестницы, ведший во внутренние покои и охраняемый двумя благодушными каменными львами.
Амаро вошел в обширный, совершенно пустой зал с потолком, обшитым дубовыми панелями; пол был наполовину завален сухой фасолью. Остановившись в недоумении, Амаро несколько раз хлопнул в ладоши.
Одна из дверей приоткрылась. В проеме мелькнула Амелия, растрепанная, в нижней юбке. Она тихо ахнула, захлопнула дверь, и падре Амаро услышал ее быстро удаляющиеся шаги. Он стоял один, с зонтиком под мышкой, вспоминая, как приветливо встречали его на улице Милосердия. Казалось, двери сами распахивались ему навстречу, а обои светлели от радости при его появлении.
Уже начиная сердиться, он собирался опять хлопнуть в ладоши, когда вышла Жертруда.
– О, сеньор падре Амаро! Войдите, сеньор падре Амаро! Наконец-то! Сеньора, это сеньор падре Амаро! – суетилась она, радуясь, что в их рикосском изгнании появился наконец желанный гость, городской завсегдатай и друг.
Она повела его к доне Жозефе, в дальний конец дома: тут, на маленьком канапе, затерявшемся в одном из углов огромного зала, старушонка коротала дни; плечи ее были укутаны шалью, ноги обернуты одеялом.
– О дона Жозефа! Здравствуйте, здравствуйте! Как вам тут живется?
Она не сразу ответила, раскашлявшись от волнения.
– Как видите, сеньор настоятель, – прохрипела она наконец едва слышно. – Скриплю кое-как, старость не радость. А вы? Почему так долго не приезжали?
Амаро сослался на дела, на соборные требы; по изможденному лицу доны Жозефы, желтевшему из-под огромного чепца из черных кружев, он догадался, что Амелии приходится тут несладко. Он спросил, где Амелия: она на минуту выглянула и скрылась.
– Амелия не одета, – объяснила старуха, – сегодня у нас уборка.
Амаро спросил, что они тут поделывают, как проводят время в уединении…
– Я сижу здесь. А она у себя.
Каждое слово стоило ей неимоверных усилий; хрипение в груди делалось все сильней.
– Я вижу, переезд сюда не пошел вам на пользу, милая сеньора?
Она отрицательно качнула головой.
– Не слушайте ее, сеньор настоятель, – вмешалась Жертруда, оставшаяся возле хозяйкиного канапе, чтобы вдоволь порадоваться на сеньора соборного настоятеля, – не слушайте ее! Сеньора зря Бога гневит… Она встает каждый день, одна доходит по коридору до самой столовой, на обед кушает цыплячье крылышко… Конечно, она еще слаба, но что поделаешь?… Правду говорит аббат Ферран: здоровье убегает вскачь, а возвращается шажком.
Дверь открылась. Появилась Амелия, пунцовая от волнения, с наспех подобранными волосами, в старом лиловом халате.
– Извините, сеньор падре Амаро, – пробормотала она, – у нас сегодня такой беспорядок…
Он с серьезным видом пожал ей руку; оба стояли молча, словно разделенные пустыней. Она не поднимала глаз, теребя дрожащими пальцами кончик шерстяной шали, накинутой на плечи. Амаро находил, что она изменилась: лицо как будто немного припухло, в уголках губ пролегли старческие морщины. Чтобы прервать это странное молчание, он спросил и ее, как ей тут живется.
– Постепенно привыкаю… Здесь немного уныло. Сеньор аббат Ферран прав: этот дом слишком велик, чтобы людям было в нем уютно…
– А мы не развлекаться сюда приехали, – сказала старуха, не размыкая век, сухим и четким голосом, в котором на этот раз не чувствовалось никакой слабости.
Амелия потупила голову и побледнела.
Амаро понял, что дона Жозефа ест поедом Амелию, и заметил весьма строго:
– Это верно… Но вы также и не для того сюда приехали, чтобы отравлять друг другу жизнь. Терзать ближних плохим настроением – значит забыть о милосердии; в глазах господа это тяжкий грех… Кто так поступает, не достоин Божией милости.
Старуха захныкала в великом волнении:
– Ах, какое испытание послал мне господь под конец жизни!..
Жертруда начала ее уговаривать:
– Полно, сеньора, даже и для здоровья вредно все время расстраиваться… На что это похоже! С божьей помощью все будет хорошо. Вернется здоровье, а с ним и радость.
Амелия отошла к окну, чтобы скрыть слезы, выступившие у нее на глазах. Падре Амаро, под впечатлением этой сцены, строго указал доне Жозефе, что она не умеет переносить болезнь с христианским смирением. Ничто так не оскорбляет господа, как ропот на ниспосланные им страдания и тяготы… Ведь это значит восставать против его воли.
– Правда ваша, сеньор настоятель, правда ваша, – сипела подавленная дона Жозефа… – Порой я сама не знаю, что говорю… Это все болезнь.
– Полно, полно, милая сеньора; надо покориться и видеть все в розовом свете. Бог превыше всего ценит кротость. Я понимаю, что невесело жить в таком месте…
– Вот и аббат Ферран говорит, – вмешалась Амелия, отходя от окна, – крестная не может здесь привыкнуть. Прожив столько лет в городе…
Амаро отметил про себя, что слова аббата Феррана цитировались уже второй раз, и спросил, часто ли он посещает Рикосу.
– Ах, без него я бы совсем пропала, – отвечала Амелия, – он приходит почти ежедневно!
– Святой человек! – подхватила Жертруда.
– Разумеется, разумеется, – пробурчал Амаро, недовольный столь восторженной оценкой, – это человек весьма достойный…
– Весьма достойный, – вздохнула старуха, – но… Она умолкла, не решаясь высказать свои сомнения, и вдруг с мольбой вскричала:
– Ах, сеньор соборный настоятель, лучше бы сюда приходили вы! Вы-то сумели бы облегчить мой крест…
– Я буду приходить, милая сеньора, буду приходить. Надо развлечь вас, рассказать, что делается в городе… Кстати, вчера я получил письмо от каноника…
Он вынул из кармана письмо, прочел некоторые места. Дорогой учитель уже принял пятнадцать ванн. В Виейре полно народу, дона Мария болела – у нее вскочил фурункул, – погода великолепная, по вечерам, в час, когда убирают сети, гуляем по пляжу. Сан-Жоанейра здорова, но все время говорит о дочери…
– Бедная маменька… – всхлипнула Амелия.
Старуху все это не интересовало; ее мучил хрип в легких. Одна Амелия расспрашивала про общих знакомых, про городских друзей: падре Натарио, падре Силверио…
Стемнело. Жертруда пошла за лампой. Наконец Амаро поднялся.
– Ну-с, милая сеньора, мне пора. До скорой встречи. Я непременно буду вас навещать. А расстраиваться нельзя… Одевайтесь потеплей, кушайте с аппетитом, и Бог не оставит вас своей милостью.
– Не забывайте нас, сеньор падре Амаро! Не забывайте нас!..
Амелия протянула священнику руку, чтобы попрощаться здесь же, в комнате; но Амаро сказал как бы в шутку:
– Не откажите в любезности, менина Амелия, показать мне дорогу: я боюсь заблудиться в этом лабиринте.
Они вышли вместе. Очутившись в большом зале, где было еще довольно света от трех широких окон, он остановился и сказал:
– Старуха тебя обижает, дорогая!
– Ничего другого я и не заслужила, – ответила Амелия, опуская голову.
– Ах она дрянь такая! Ладно же, я ей покажу!.. Милая моя Амелиазинья, если бы ты знала, как я тосковал…
И он потянулся поцеловать ее в шею.
Она отступила в смятении.
– В чем дело? – удивился Амаро.
– Что?
– Как это понять? Ты не хочешь поцеловать меня, Амелия? Ты не в своем уме!
Она умоляюще подняла обе руки и сказала, вся дрожа:
– Нет, сеньор настоятель, оставьте меня! С этим покончено. Довольно мы грешили. Я хочу перед смертью заслужить у господа прощение… Не будем больше никогда говорить об этом! Я оступилась… Но теперь этому конец. Теперь мне нужно только одно: душевный покой.
– Ты не в своем уме! Кто вбил тебе в голову такую чепуху? Слушай…
Он снова потянулся к ней.
– Не трогайте меня, ради Бога! – И она попятилась к двери.
Амаро молча смотрел на нее вне себя от гнева.
– Хорошо, как вам угодно, – сказал он наконец. – Но имейте в виду: Жоан Эдуардо вернулся, он ходит тут по дороге каждый день, и потому вам не рекомендуется сидеть у окна.
– Какое мне дело до Жоана Эдуардо, до всех остальных и до всего, что было?
Он воскликнул с горькой иронией:
– Конечно! Теперь самый великий человек на свете – аббат Ферран!
– Я многим ему обязана, вот все, что я знаю…
Жертруда внесла зажженную лампу. Амаро, не простившись с Амелией, вышел вон, скрежеща зубами.
Но по дороге в город он успокоился. Все это не более чем очередной припадок добродетели и угрызений совести! Она оказалась одна в этом каменном доме, старуха ее шпыняет, Ферран читает мораль; он, Амаро, далеко – отсюда и возврат к ханжеству, отсюда страх, что будет на том свете, и тоска по утраченной невинности… Все чепуха! Если он будет наведываться в Рикосу, то за одну неделю восстановит свою былую власть. Он ли не знает Амелию! Только поманить, только свистнуть – и делай с ней что хочешь.
Однако ночью он спал неспокойно и мечтал о ней сильней, чем всегда. На другой день он опять отправился в Рикосу, с букетом роз для Амелии.
Старуха просияла от радости, увидев его. От одного вида сеньора соборного настоятеля к ней возвращается здоровье! Если бы не дальность расстояния, она упросила бы его приходить каждое утро. После вчерашнего визита она даже молилась усердней!
Амаро рассеянно улыбался, не сводя глаз с двери.
– А где менина Амелия? – спросил он наконец.
– Ушла… Теперь у нас, видите ли, прогулки каждый день, – сказала дона Жозефа с ядом, – паломничаем в аббатство, жить без этого не можем.
– А! – откликнулся Амаро с кривой улыбкой. – Новое увлечение? Достойнейший пастырь этот аббат Ферран.
– Ах, он никуда, никуда не годится! – вскричала дона Жозефа. – Он меня не понимает. И какие-то странные идеи. Нет, нет, он не дает просветления.
– Книжный человек… – объяснил Амаро.
Но старуха приподнялась на локте, лицо ее исказилось от ненависти, и она прохрипела полушепотом:
– Между нами говоря, Амелия поступила очень некрасиво! Никогда ей не прощу! Она исповедалась аббату! Это неделикатно! После вас, сеньор соборный настоятель! Она стольким обязана вам… Но она неблагодарная, она изменница!..
Амаро побледнел.
– Что вы говорите?!
– То, что есть. Она и сама не отрицает. И даже гордится своим поступком! Это дрянная, дрянная женщина! Мы столько для нее делаем!
Амаро старался скрыть свое негодование. Даже посмеялся. Не надо преувеличивать… Почему же неблагодарная? Это вопрос доверия. Если девушка считает, что аббат лучше руководит ее совестью, она права, открывшись ему… Все мы хотим одного: чтобы это бедное создание спасло свою душу. А уж кто это сделает – тот или другой, – не имеет значения. Она в хороших руках.
Затем, быстро придвинувшись со стулом к старухиному канапе, он спросил:
– Значит, теперь она каждый день ходит в аббатство?
– Почти каждый день… Скоро вернется: она уходит сразу после завтрака и к этому часу бывает дома… Ах, мне так неприятно!
Амаро нервно прошелся по комнате; потом протянул старой сеньоре руку:
– Что же, милая сеньора, я дольше задерживаться не могу, забежал к вам на минутку… До завтрашнего утра.
И, не слушая дону Жозефу, которая умоляла его остаться обедать, он торопливо сбежал с лестницы и, вне себя от ярости, зашагал в аббатство, все еще со своим букетом роз в руке.
Он надеялся встретить Амелию по дороге и действительно вскоре увидел ее возле кузницы: наклонившись около ее каменной ограды, она собирала полевые цветы.
– Что ты здесь делаешь? – повторил он.
Испуганная этим громким «ты» и раздраженным тоном Амаро, она прижала палец к губам: тише, в кузнице сеньор аббат…
– Говори! – сказал Амаро, сверкая глазами и хватая ее за руку. – Ты что, исповедалась аббату?
– А что? Да, исповедалась… Ничего плохого тут нет.
– Ты сказала ему все, все? – спросил он, стискивая от ярости зубы.
Она смутилась, но все же ответила, незаметно для себя перейдя на «ты»:
– Ты же сам сколько раз говорил… Самый тяжкий грех – утаивать что-нибудь на исповеди!
– Дура! – зарычал Амаро.
А глаза его пожирали ее всю. Сквозь пелену гнева, туманившего ему глаза и наливавшего кровью жилы на лбу, он видел, что она стала еще привлекательней; он оглядывал ее полную фигуру, алые губы, посвежевшие на деревенском воздухе, и ему хотелось поцеловать эти губы, укусить до крови.
– Ладно, – сказал он, уступая неудержимо нахлынувшему желанию, – ладно. Пусть; мне все равно. Исповедуйся хоть самому черту, если тебе так нравится… Но ты по-прежнему моя!
– Нет, нет! – решительно ответила она, уклоняясь от его рук и делая шаг к кузнице.
– Хорошо же. Ты мне за это заплатишь, дрянь! – прошипел Амаро сквозь зубы, повернулся к ней спиной и ринулся прочь, по дороге в город.
Он шагал быстрым шагом до самого города, не замечая блаженного покоя, разлитого в октябрьском воздухе; ярость подгоняла его и подсказывала планы беспощадной мести. Он пришел домой, едва переводя дух, все с тем же букетом в руке. Но, остывая в одиночестве, он постепенно проникся сознанием своего бессилия. В конце концов, что он может ей сделать? Разгласить по городу, что она беременна? Но он выдаст самого себя. Пустить слух, что она вступила в непозволительную связь с аббатом Ферраном? Кто этому поверит – почти семидесятилетний старик, карикатурно безобразный, проживший безупречную жизнь… Но лишиться ее, никогда больше не держать в объятиях это белое тело, не слышать больше невнятного лепета, исторгнутого счастьем, какого не даст и само небо… Нет, ни за что!
Но возможно ли, чтобы за шесть-семь недель она все забыла? Неужели в долгие ночи, дрожа от холода в своей одинокой кровати, она не вспоминала их утренних свиданий у дяди Эсгельяса?… Конечно, вспоминала: он стольких исповедовал, и все, все со стыдом говорили о немом, упорном искушении, никогда не покидающем раз согрешившую плоть…
Нет! Он должен продолжать свои преследования, он должен во что бы то ни стало заразить ее страстью, клокотавшей в нем сейчас сильней, чем прежде!
Всю ночь напролет он писал ей письмо – шесть бредовых страниц, полных исступленных призывов, мистической зауми, восклицательных знаков, угроз самоубийства.
Письмо это он отправил утром с Дионисией. Поздно вечером мальчуган из усадьбы принес ответ. Как жадно разорвал Амаро конверт! В записке значилось: «Прошу вас оставить меня наедине с моими грехами».
Амаро не сдавался; на другой день он снова был в Рикосе. Когда он вошел к доне Жозефе, Амелия сидела тут же. Она сильно побледнела; по глаза ее ни на миг не отрывались от работы. Амаро пробыл там полчаса, то в хмуром молчании, то рассеянно отвечая старухе, которая была, против обыкновения, в разговорчивом настроении.
На следующей неделе все его визиты протекали так же: услышав, что пришел сеньор соборный настоятель, Амелия запиралась в своей комнате и выходила лишь в том случае, если старуха посылала за ней Жертруду: сеньор падре Амаро здесь и желает ее видеть. Она появлялась, протягивала ему руку – всегда очень горячую, – брала свое неизменное шитье и садилась у окна; ее упорное молчание выводило священника из себя.
Он написал ей еще одно письмо. Она не ответила.
Он дал себе клятву более не видеть ее, отплатить Амелии презрением, но, провертевшись всю ночь без сна, все с тем же видением ее наготы, словно ввинченным в мозг, он утром снова бежал в Рикосу и краснел от стыда, когда старший из рабочих, мостивших дорогу, по которой он проходил два раза ежедневно, снимал перед ним клеенчатый берет.
Однажды вечером, явившись в Рикосу под моросящим дождем, падре Амаро столкнулся у подъезда с аббатом Ферраном; тот собирался уходить и открывал зонт.
– Ола, какими судьбами, сеньор аббат? – сказал соборный настоятель.
Аббат ответил:
– Что удивительного в моем посещении? Вы тоже ходите сюда каждый день…
Амаро воскликнул, задрожав от гнева:
– А вам что до того, сеньор аббат, хожу я сюда или не хожу? Это ваш дом?
Грубость Амаро задела старика за живое.
– Было бы лучше для всех, если бы вы сидели у себя в городе.
– А почему это, сеньор аббат? Почему? – вскрикнул Амаро вне себя.
Добрый старик спохватился; он допустил самое серьезное прегрешение для католического священника: позволил себе намекнуть на обстоятельство, которое стало ему известно в исповедальне. Выказав свое неодобрение греховному упорству коллеги, он нарушил тайну исповеди. Аббат Ферран снял шляпу и, низко поклонившись, сказал смиренно:
– Вы правы, ваше преподобие. Прошу извинить эти необдуманные слова. Добрый вечер, сеньор соборный настоятель.
– Добрый вечер, сеньор аббат.
Амаро, не заходя в дом, вернулся в город под дождем, который лил все сильнее и сильнее. Дома он написал еще одно длинное письмо, в котором описывал сцену с аббатом, обвиняя его в тяжелейших проступках и прежде всего в несоблюдении тайны исповеди. Но, как и первые два письма, оно осталось без ответа.
Тогда Амаро пришел к мысли, что такое упорство не может объясняться одним лишь раскаянием и страхом попасть в ад… «Тут замешан мужчина», – говорил он себе. Снедаемый черной ревностью, падре Амаро стал кружить по ночам вокруг дома в Рикосе, но ничего не увидел; каменное строение было погружено в сон и темноту. И все же один раз, уже поравнявшись с садовой оградой, он услышал на дороге, идущей из Пойяйса, мужской голос: кто-то с чувством напевал вальс «Два мира»; во мраке двигался огонек сигары. Испугавшись, падре Амаро юркнул в полуразрушенный сарай, темневший на другой стороне дороги. Голос смолк; Амаро, выглянув из сарая, увидел фигуру, укутанную в плед светлой расцветки; фигура остановилась и стала глядеть на окна дома в Рикосе. Охваченный вихрем ревности, Амаро хотел уже выскочить из своего убежища и наброситься на неизвестного, но тот спокойно пошел дальше, с сигарой в зубах, напевая:
Ты слышишь в горах колокольный звон —
В душе моей страх рождает он…
По голосу, по пледу, по походке падре Амаро узнал Жоана Эдуардо. Зато он убедился, что если какой-нибудь мужчина и разговаривал по ночам с Амелией или входил в усадьбу, то, несомненно, не конторщик. Но все же, боясь быть замеченным, Амаро перестал бродить по ночам вокруг рикосского дома.
Да, это был Жоан Эдуардо. Проходя мимо Рикосы, днем или ночью, он всегда останавливался на минуту и окидывал меланхоличным взглядом стены, в которых жила она. Несмотря на все разочарования, Амелия все еще была для него она, возлюбленная, самое дорогое существо на свете. Ни в Оурене, ни в Алкобасе, ни в гостиницах, по которым мотала его судьба, ни в Лиссабоне, куда его вынесло неведомой волной, как выносит на берег щепку от разбитого корабля, – нигде, никогда ее образ не покидал его сердца, не переставал мучить его тоской. В дни бедственного лиссабонского житья – самые горькие дни его жизни, – когда он служил секретарем в какой-то забытой Богом конторе, затерянный в этом огромном, словно Рим или Вавилон, городе, так беспощадно казнившем его черствым равнодушием куда-то торопящейся толпы, он особенно нежно лелеял свою любовь, которая дарила ему иллюзию сердечного тепла. Он чувствовал себя менее одиноким, ведь с ним всегда была Амелия; во время нескончаемых прогулок по набережной Содре он вел с ней долгие мысленные разговоры, упрекал ее за горе, которое пожирало его жизнь.
Привязанность к Амелии служила оправданием случившемуся, поднимала Жоана Эдуардо в собственных глазах. Он был «мучеником любви»; это его утешало, как в первые минуты отчаяния утешала мысль, что он стал жертвой религиозных преследований. Он уже не был серой, заурядной личностью, из тех, кого случай, леность, отсутствие друзей, злая судьба и заплатанный сюртук обрекают на жалкую зависимость; нет, он казался самому себе человеком больших чувств; трагическая катастрофа, отчасти любовная, а отчасти политическая, – словом, личная и социальная драма, – вынудила его после героической борьбы скитаться из конторы в контору, не расставаясь с парусиновым писарским портфелем. Волей судьбы он уподобился героям, описанным в стольких чувствительных романах… И потрепанное пальто, и обеды по четыре винтена, и дни, проведенные без курева, – все это он приписывал своей роковой любви и преследованию могущественной клики врагов; инстинкт самоуважения помогал ему видеть нечто значительное в этих банальных бедах… Встречая на улице тех, кого он называл счастливцами, – господ, разъезжающих в колясках, молодых щеголей, гуляющих под руку с красивыми женщинами, нарядных людей, спешащих в театр, – он чувствовал бы себя совсем несчастным, если бы не мысль, что он тоже обладает бесценным сокровищем, предметом духовной роскоши – таким он считал свою несчастную любовь. И когда по воле случая Жоан Эдуардо получил место в Бразилии и деньги на дорогу, он стал идеализировать даже свою заурядную эмигрантскую судьбу, твердя себе, что вынужден пересечь океан, ибо изгнан из родной страны тиранией священников и сановников за то, что любил женщину!
Мог ли он знать, укладывая свой костюм в обитый жестью баул, что через несколько недель снова окажется в полулиге от этих священников и этих сановников и будет с нежностью созерцать окно своей Амелии? Все это сделал чудак, сеньор из Пойяйса, который, кстати, вовсе не родился сеньором и не носил родового имени Пойяйсов, а был просто чудаковатым Богачом из Алкобасы: он купил родовое поместье у титулованных владельцев и, став собственником земли, унаследовал почетное звание сеньора, которым местные жители привыкли именовать помещиков из Пойяйса. Именно этот добрейший человек избавил Жоана Эдуардо от тягостей морской болезни и злоключений эмиграции, нечаянно встретив его в одной из контор, где молодой человек служил незадолго до отъезда. Сеньор из Пойяйса, старый клиент Нунеса, знал историю конторщика, был в курсе его героической публикации в «Голосе округа» и скандала на Соборной площади и уже давно воспылал горячим сочувствием к «богоборцу» Жоану Эдуардо.
Дело в том, что этот сеньор питал маниакальную ненависть к духовенству; читая, например, в газете корреспонденцию о каком-нибудь преступлении (даже если виновник был найден и уже осужден), он неизменно утверждал: «Если хорошенько покопаться в этом деле, то на дне непременно обнаружишь сутану». Ходили слухи, что причина столь глубокого отвращения к священникам коренилась в неприятностях, которые он перенес от первой своей жены, известной алкобасской святоши. Встретив Жоана Эдуардо в Лиссабоне и узнав о его близком отплытии, пойяйский сеньор загорелся новой идеей: привезти молодого человека обратно в Лейрию, поселить в Пойяйсе, сделать гувернером своих малолетних сыновей и тем нанести звонкую пощечину всему епархиальному духовенству. Он и впрямь считал Жоана Эдуардо безбожником, и это как нельзя лучше соответствовало его философическому плану воспитать своих малышей отчаянными атеистами. Жоан Эдуардо со слезами на глазах принял приглашение: оно означало прекрасное жалованье, почет, жизнь в семейном доме, полное восстановление репутации…
– О сеньор, я никогда не забуду всего, что вы для меня сделали!
– Да я же для своего удовольствия! Чтобы насолить этим негодяям! Мы завтра же едем.
В Шан-де-Масансе, не успев выйти из вагона, пойяйский сеньор радостно крикнул начальнику станции, который вовсе не знал Жоана Эдуардо и ничего не слышал о приключившейся с ним истории:
– Я везу его обратно! Он возвращается победителем! И натянет нос долгополым… И если потребуются судебные расходы, я возьму их на себя!
Начальник станции не удивился: во всем округе было известно, что сеньор из Пойяйса «немножко не того».
На другой же день после своего приезда в Пойяйс Жоан Эдуардо узнал, что Амелия и дона Жозефа живут в Рикосе.
Сообщил ему об этом аббат Ферран, единственный священник, с которым пойяйский сеньор разговаривал, которого пускал к себе в дом – «не за то, что он падре, а за то, что благородный человек».
– Я уважаю вас, сеньор Ферран, – говаривал он, – но презираю священника!
Добряк Ферран улыбался: он знал, что под маской твердолобого нечестивца скрывается человек с золотым сердцем, благодетель всех бедняков прихода…
Сеньор из Пойяйса, как и аббат Ферран, был страстным любителем книг и неутомимым спорщиком; иногда между двумя приятелями возникали громоподобные дискуссии об истории, ботанике, разных видах охоты… Когда аббат в пылу спора припирал чудака к стенке, тот грозно вопрошал:
– Вы это говорите как священник или как джентльмен?