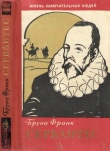Текст книги "Военный мундир, мундир академический и ночная рубашка"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
АКАДЕМИК ЛИЗАНДРО ЛЕЙТЕ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ЮРИСТ И ВЕРНЫЙ ДРУГ
Он ошибался. Это был не военный министр, и вообще не министр, и даже просто не военный. На другом конце провода потел и задыхался тучный человек с львиной гривой волос – академик, дезембаргадор[4]4
Дезембаргадор – высший судейский чиновник в Бразилии.
[Закрыть] и профессор коммерческого права Лизандро Лейте. Обладателю всех этих титулов и званий стоило большого труда раздобыть секретный номер телефона.
– Полковник, сегодня утром умер Антонио Бруно Я был в суде, поэтому узнал об этом только что.
Полковник, услыхав эту скорбную весть, открывающую перед ним широчайшие горизонты, не смог удержаться от восклицания и подавить улыбку. Но тут же спохватился, собрался, притушил улыбку, несовместимую с выражением скорби, которого требовало печальное (вовсе даже не печальное!) известие.
– Антонио Бруно? Умер?
– У нас появилось вакантное место, полковник!
– Какая потеря для нашей словесности!.. Какая невосполнимая утрата! Выдающийся талант…
– Да, да, поэт божьей милостью… – прервал Лизандро Лейте эту напыщенную надгробную речь. Он не для того терпел грубости неведомых сержантов и капралов, которые отказывались соединить его с кабинетом полковника, не для того выворачивался наизнанку, доставая номер его личного и секретного телефона, чтобы теперь выслушивать банальности. – Мы не на заседании Академии, приберегите эти красоты для своей речи, полковник.
– Какой речи?
– Открылась вакансия! – Академик произнёс эта слова с пафосом, словно дарил полковнику нечто редкое и бесценное. Нет, он предпринял все эти усилия не только для того, чтобы сообщить полковнику о смерти своего коллеги по Академии, поэта Антонио Бруно. Лизандро Лейте давал своему прославленному собрату и другу возможность стать одним из «бессмертных», членом Бразильской Академии. – Но действовать надо немедля, нельзя терять ни минуты. Ни минуты! – повторил он.
Лизандро Лейте, «просвещённейший корифей юридической литературы», состоял членом Академии уже больше десяти лет и считался крупным специалистом по выборам: как свои пять пальцев знал он все хитрости и тонкости, все тактические маневры и стратегические удары, которые неизменно приводили его протеже к победе. Прозорливый покровитель кандидатов в Академию умудрялся получать немалые барыши с каждых выборов. Злые языки – а они есть повсюду, даже и в Академии, – утверждали, что своей стремительной судейской карьерой Лейте в немалой степени обязан этим вожделенным для многих вакансиям – «он преуспевает в жизни за счет смерти». Если подобные высказывания касались его слуха, он не обращал на них внимания, невозмутимо следуя своей стезей. А сейчас он ласково, но властно наставлял нового кандидата, растолковывал, что тому надлежит предпринять:
– Нужно, чтобы члены Академии немедленно узнали о том, что вы выставляете свою кандидатуру, что освободившееся место принадлежит вам, мой славный друг…
Бестрепетного и отважного полковника, возглавляющего силы безопасности, ни разу не дрогнувшего перед лицом коварного и подлого внутреннего врага, сейчас, когда должна начаться борьба за бессмертие, внезапно охватывает странное смятение. Запинаясь, он бормочет:
– Выдвигать мою кандидатуру?.. Прямо сейчас? А тело Бруно уже перевезли туда?.. Неудобно… Может быть, дождаться похорон? Так, наверно, будет лучше?..
Круглые, растерянные глаза полковника натыкаются на журналиста – он совсем забыл про этого ненужного свидетеля. Прикрыв трубку ладонью, полковник говорит:
– Вон отсюда!
Самука – как называют Самуэла Ледермана друзья, или Сэм, как зовет его жена Да, – попытался было спорить; надежды нет, но долг требует довести дело до конца:
– Так как же с журналом, господин полковник? Вы разрешаете? («Эх, Сэм, до чего ж ты невезучий…» – чудится ему усталый голосок Да.)
Глаза-буравчики вспыхивают опасным огоньком.
– Что? Как вы смеете?.. Немедленно вон отсюда, пока я не передумал и не велел вас арестовать!
Журналист, смирившийся с поражением, собрал гранки. Личное свидание с шефом службы безопасности ожидаемых результатов не принесло; «Перспектива» запрещена окончательно и бесповоротно, а ее редактор избежал тюрьмы по счастливой случайности, и никогда отныне он не позволит в своём присутствии дурно отзываться об Академии, об этой достойнейшей корпорации.
Сунув ненужные теперь гранки в карман, маленький журналист Самуэл Ледерман идёт по сумрачным коридорам и горько скорбит о смерти поэта Антонио Бруно, с которым говорил всего один раз. Ода Парижу, занятому, немцами, песнь борьбы и надежды, так и останется ненапечатанной в настоящей типографии. Самуэл, как и многие другие, знает некоторые строфы наизусть и сейчас произносит их про себя. Поражение уже не так печалит его, мечта сильнее действительности: рано или поздно, не сейчас, так завтра, его полуподпольный, затравленный, обречённый журнальчик превратится в крупную ежедневную газету, чуткую, живую, актуальную – большие репортажи, именитые авторы, наши и иностранные, свободный обмен мнениями, публикации, не снившиеся другим газетам. Так будет, когда Париж станет свободным, а в Бразилии воцарится демократия. («Эх, Сэм, ты неисправим…»)
РАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ЛАТИНСКОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ
– Повторите, пожалуйста, сеньор Лейте, я не расслышал. Вы сказали, что…
Теперь, когда перед глазами не торчит проклятый соглядатай, когда можно не следить за выражением лица, полковник дал себе волю: он взволнованно слушает собеседника и кивает в знак согласия с мудрыми установками многоопытного академика.
– Сейчас, друг мой, настало время атак, а не соблюдения формальностей. Самое главное – не упустить момент. Атаковать, занять выгодную позицию, не дать другим упредить себя! Кандидатов будет много, прошу учесть… – Разумеется, академик разглагольствует для того, чтобы подчеркнуть значение своих советов и своего участия в этой бескровной, но ожесточенной битве, чтобы выделить свою роль: выступить как можно раньше – вот залог и основа блестящей победы, вот наилучшее тактическое решение. – А1еа jасtа еst![5]5
Жребий брошен! (лат.) – слова, приписываемые Юлию Цезарю.
[Закрыть]
Полковник покорно повторят:
– А1еа jасtа еst! Я всецело доверяю вам и признаю вашу правоту, друг мой. Я поступлю так, как вы мне советуете, и полностью предаюсь вашему опыту и знаниям.
Только того – если не считать избрания полковника в члены Академии – и надо было сеньору Лизандро. Впрочем, задача не из самых сложных. Нет претендента, который мог бы сравниться с полковником Перейрой: он занимает важный пост, он может рассчитывать на поддержку самых могущественных людей государства, он вхож на самый верх… Конечно, найдутся такие, кто будет возражать, брезгливо морщиться, говоря о политических симпатиях кандидата в академики, но дальше кукиша в кармане дело не пойдёт – поворчат-поворчат да и проглотят пилюлю, проголосуют за полковника. Выборы пройдут как по маслу. Итак, Лейте обеспечит избрание, наденет на полковника шитый золотом мундир, произнесёт речь о его заслугах на церемонии приёма. А если полковник попросит произнести эту речь кого-нибудь другого, то уж это будет с его стороны беспримерным свинством… Зал будет полон генералами, министрами, может быть, явится сам Глава Государства… Дипломатический корпус, великосветские дамы… изысканные наряды… декольте… брильянты, кружева, ордена, блеск и роскошь (не говоря уж о фотографиях в прессе), а потом…
Ах, а потом придёт время заслуженной награды: при первой же возможности Лейте станет членом Верховного федерального суда, ибо, как известно, долг платежом красен, рука руку моет. Получаешь, полковник, Академию, давай сюда Верховный суд.
Идеи и предложения так и сыплются из него, пот течёт по лицу «гнусного стряпчего» – так называют его за глаза коллеги. Медовый голос, завораживающая убедительность – намечаются перспективы, расширяются горизонты. Полковник слушает как зачарованный.
– Разумеется. Ваша кандидатура будет поддержана всеми вооруженными силами. Всеми! Министр? Министр сделает всё, что будет нужно. Что? Да-да, вы совершенно правы: вашу кандидатуру выдвигает армия – ведь до сих пор она никем не представлена в Академии. Согласитесь, что это абсурд. Вы очень правильно выразились: это послужит признанием заслуг нашей армии.
Академик говорит и говорит, приводя неотразимые аргументы из истории Академии. Какой глубокий ум! Полковник чувствует себя уже избранным.
– Именно так, сеньор Лизандро, именно так. Об этом я не подумал…
– Напрасно, напрасно, мой благородный друг. Это место в Академии принадлежит вооруженным силам. Принадлежит и принадлежало искони. Ваше избрание восстановит славный обычай, нарушенный Антонио Бруно.
Слова эти ласкают слух полковника. Он весел и возбуждён. Лизандро Лейте кончает свой монолог решительным и оптимистическим предсказанием.
– Вы в самом деле уверены, сеньор Лизандро, что других претендентов не будет? Вы думаете, это возможно?
«Полковник, не будьте наивны. Кто в Бразилии, учитывая обстановку в стране и в мире, осмелится состязаться со всемогущим начальником службы безопасности? Есть предел всякому безумству», – думает Лизандро Лейте, вытирая пот со лба и улыбаясь.
– Я со своей стороны сделаю всё возможное и невозможное для того, чтобы вы, мой благородный друг, остались единственным кандидатом. Единственный кандидат, избранный единогласно, – вот как будет!
СОВЕРШЕННО НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Есть ли в душе человеческой чувство сильнее тщеславия? Нет, отвечал Афранио Портела, и в ходе выборов мнение его подтвердилось.
Для того чтобы стать одним из сорока «бессмертных», чтобы надеть на себя расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир, положить руку на эфес шпаги, а под мышку сунуть треуголку, чтобы покоить тощее или мясистое – у кого как – седалище на бархате академических кресел, самые могущественные люди, самые славные наши сограждане пойдут на всё: грубиян станет тихоней, нахал – подлизой, скупец превратится в транжира, разбрасывающего деньги на букеты и подарки. Не поверишь, пока не увидишь собственными глазами. Обо всём этом можно пофилософствовать всласть и рассказать немало забавного, но у нас, к сожалению, нет ни времени, ни места…
Вот, к примеру, полковник Агналдо Сампайо Перейра, Этот человек, повелевающий армией и полицией, наделённый беспредельной властью, человек, перед которым трепещут министры, всё-таки не считает, что исполнил своё предназначение: ему не хватает членства в Академии. Ещё не исполнилась заветная мечта, сопровождающая полковника всю жизнь с того дня, когда он выпустил первую (и охаянную) книгу – сборник стихов.
Однажды он излил душу своему деятельному земляку Лизандро Лейте. «Нужно выждать удобный момент», – сказал тот и пустился в рассуждения о трудностях, связанных с избранием. Время от времени в беседе они затрагивали тему, так волновавшую полковника. «Зреет, зреет», – говорил академик, имея в виду благоприятную ситуацию. Шесть месяцев назад он сообщил: «Всё в порядке, лучше времени не найти, у нас на руках все козыри. Не хватает только вакансии». Полковник и Лейте принялись подводить баланс возраста и состояния здоровья академиков, и сальдо оказалось в их пользу: было ясно, что некоторым «бессмертным» уже недолго оставаться таковыми. Например, великий Персио Менезес заболел раком.
Членство в Академии! Окаменевшая химера! Свидетельство того, что даже непреклонный арийский военачальник, ведущий борьбу за мировое господство, способен мечтать так же пылко, как какой-нибудь ничтожный и неблагонадежный еврей-журналист.
ВЕСЁЛАЯ ПАНИХИДА
Хор женских голосов оживлённо звенит у гроба. Ах, Антонио Бруно, ты неисправим! Во что превратил ты важную печаль, суровую сдержанность, молчаливую скорбь, приличествующую панихиде?
Хотя академики, выйдя из автомобилей, и постарались принять надлежащий вид, но кто сможет сохранить сдержанность и серьезность, проходя вдоль фронта очаровательных дам, целуя им ручки, двусмысленно пошучивая, выслушивая и рассказывая вольные анекдоты, припоминая пылкие строки покойного поэта?!
Разве это бдение над покойником? Разумеется, усопший в гробу, установленном в зале Академии, был налицо, но красавец Бруно, которому даже академический мундир не прибавил солидности, плохо справлялся со своей скорбной ролью и был главным виновником того, что на бдении у его гроба так остро чувствовался недостаток траурной торжественности. Да-да, во всём был виноват сам Бруно: это столпотворение было провидчески воспето им в «Завещании бродяги трубадура Антонио Бруно, трижды умиравшего от избытка любви» – в этих давних, но сегодня весьма актуальных стихах поэт, издевался над смертью и предлагал устроить праздник вместо панихиды.
Именно так и произошло. На бдении лились слёзы и звучал смех, но смех, как он и просил, заглушал всхлипывания. «Ваш хрустальный хохоток я хочу услышать…» – говорил поэт – и у гроба стояли шалые, сумасбродные красавицы, «…и почувствовать опять жар грудей упругих…» – желал Бруно – и дамы явились на траурную церемонию в нарядных открытых платьях. Присутствующие дамы знали эту поэму, некоторые даже помнили ее наизусть – всю, каждую строфу. «Жду вас всех – тебя, что так мучила поэта, и тебя, что мельком мне улыбнулась где-то…» Он ждал их всех, и все пришли, и в рыданиях слышался порочный отзвук стонов любви – «нежный лепет предрассветный…» Всё было так, как завещал Бруно.
Зал был полон: члены Академии, писатели, кое-кто из правительства, актеры, дипломаты, художники, никому не известные простые люди – его читатели, Ададемик Лизандро Лейте сфотографировался у изголовья гроба, произнес несколько весьма лаконичных фраз в микрофон радиорепортёра и, увлекая за собой президента, исчез в дверях приемной. Присутствующие зашушукались.
Женская прелесть уничтожила притворную скорбь, смыла с лиц фальшивую значительность. Неприкосновенными остались только искренние чувства: любовь красавиц, строем проходивших мимо гроба, уважение коллег, среди которых были его верные друзья, восхищение читателей – многочисленных и в большинстве своем молодых. Даже запах цветов, увядших и сломанных – неизбежный на каждой панихиде предвестник скорого распада и тлена, – заглушён был пьянящим ароматом тонких духов.
СУХИЕ РАССУЖДЕНИЯ О ПОЭЗИИ
Творчество Антонио Бруно критики удостаивали самыми разнообразными определениями. Но один титул сопровождал поэта всю жизнь – с выхода его первой книги, – повторялся газетами и читающей публикой и был ему дорог. Титул этот – «поэт влюблённых». «Все влюблённые знают Бруно, каждый из нас в восемнадцать лет читает его стихи, а женщины не расстаются с ними до самой смерти», – писал один критик в пространной и сочувственной статье, посвященной выходу «Избранных стихотворений». Литературоведы, не склонные высоко ставить читательское признание, говорили, что его стихи лишены глубины, что в них слишком много от анекдота, но читателей пленяла подлинная и в то же время волшебно преображенная действительность: ничем не примечательные черты повседневности, заурядные на первый взгляд события, предметы и краски – кривой переулочек и синее небо, кот на подоконнике и цветок кактуса – обретали под пером Бруно новое измерение, окутывались дыханием тайны.
Улица, утренняя роса, облака, сумерки, незнающая рассвета ночь, пейзажи, предметы, чувства – всё в этих стихах становилось неожиданным и радостным открытием. В них были жаждущие уста и прерывистое дыхание страсти, бесстыдная прелесть нагих тел, томление, яростное желание и нежность любви. Поэзия Бруно была пронизана ощущением женщины – и Бразилии: он воспевал деревья и птиц, зверей и старинные обычаи своей родины. Любовь была главной темой его творчества, и для ненависти в сердце поэта места не оставалось.
Антонио Бруно, чиновник министерства юстиции и журналист, никогда не был богат, за всю жизнь ничего не скопил, ибо тратил всё, что получал, и даже больше, чем получал. В неполные девятнадцать лет он вместе с товарищами по факультету впервые попал на каникулах в Европу. Ему показалось нелепым пробыть в Париже неделю, и потому он остался там на три года. Чтобы заставить его вернуться, отец перестал высылать ему деньги, но жизнерадостный Бруно, жадный до всех тех удовольствий, которые так щедро предлагает Париж, выдержал это испытание. Друзьям он рассказывал по секрету, что, помимо прочих занятий, зарабатывал себе на жизнь почтенным и выгодным ремеслом жиголо: был платным партнёром по танцам – и не только по танцам – престарелых миллионерш, «восхитительных старушек». Завсегдатай литературных кафе и книжных развалов на набережной Сены, он в совершенстве научился разбираться в букетах вин и сортах сыра, а вернувшись в Бразилию, привёз в чемодане несколько экземпляров своей первой книги, «Танцор и цветок», которая имела оглушительный успех.
При первой же возможности Бруно вернулся в Париж. Когда ему было уже за сорок, он снова провёл там два года – благодаря тому, что тогдашний министр иностранных дел пристроил его в посольство, где он получил какую-то должность с весьма неопределенным кругом обязанностей. Опьянение Парижем не проходило. Бруно считал этот несравненный город высочайшим достижением человеческого гения, колыбелью гуманизма, красоты, свободы. Вскоре он посвятил Парижу целый сборник стихов, озаглавленный «Париж-любовь-Париж», и предпослал ему в качестве эпиграфа строку из стихотворения Жака Превера, с которым когда-то свёл знакомство и подружился: «Tant pis pour ceux qui n'aiment pas ni les chiens, ni la boue»[6]6
Тем хуже для тех, кто не любит ни собак, ни грязи (фр.).
[Закрыть].
Один просвещённый критик назвал Бруно «бразильским Превером» – это суждение было довольно надуманным, потому что в отличие от французского поэта наш герой был начисто лишен интереса к социальной стороне действительности и к политике. Бруно политикой не интересовался вовсе, и даже когда губернатор его штата, желая использовать в своих целях известность поэта, предложил ему место в палате депутатов, отказался. Он ничем не желал себя связывать. Диктатура Нового государства Бруно не нравилась, но своего отношения к ней он никак не высказывал. В то время он готовил свою «тронную» речь для вступления в Академию. Бруно был избран за несколько месяцев до событий 1937 года. Наголову разгромив своих соперников – красноречивого парламентского депутата и знаменитого врача, грешившего литературой, – он занял место, освободившееся после смерти одного старого генерала, пламенного автора сухих и серьёзных исследований о наречиях и обычаях бразильских индейцев.
Интеллигенты левого толка не раз упрекали Антонио Бруно за то, что в нашем несправедливом и тревожном, надвое расколотом мире он умудряется жить без чётких: политических убеждений, тогда как другие поэты поплатились за них изгнанием или жизнью.
ПОЭТ ПОКИДАЕТ СВОЮ ХРУСТАЛЬНУЮ БАШНЮ И ГИБНЕТ В ОККУПИРОВАННОМ ПАРИЖЕ
Но когда нацисты начали войну, Бруно покинул свой кокон. Он чувствовал – его миру, его цивилизации, его свободе, всему, что он любит, угрожает опасность. «Я покинул мою хрустальную башню, потому что хрусталь сделался мутным и тусклым, и сквозь него я ничего не видел» – такую самокритичную речь произнёс он в Академии. С этой минуты поэт со всё возрастающей страстностью следил за развитием событий, всей душой сочувствуя борьбе с нацистами.
Ни одной минуты не сомневался он в победе союзных войск. Даже в тот день, когда немцы вступили на территорию Франции, он продолжал утверждать, что французские солдаты непобедимы. Капитуляция поразила его как гром среди ясного неба. Всё рухнуло. Бруно увидел, что его прежний мир лежит в руинах. Надежда сменилась отчаянием. Бруно полностью – и уже навсегда – утратил уверенность в себе и вкус к жизни. После падения Парижа он свалился с инфарктом.
Он создал свою поэму ещё на больничной койке, впервые в жизни изменив привычным любовным стихам: в строфах его новой поэмы громыхало железо и лилась кровь, осмеивался, поносился и проклинался Гитлер вместе со своими приспешниками. Антонио Бруно, раздавленный унижением, которое выпало на долю его любимого города, родины цивилизации и гуманизма, погибших под немецким сапогом, нашёл в себе силы восстать с одра болезни, побороть безнадёжность и отвращение к жизни, провозгласив пришествие скорого и неизбежного часа освобождения, – часа, когда Париж, радость и любовь воскреснут из небытия.
«Песнь любви покоренному городу» оканчивалась пламенным призывом к борьбе и победе. Невозможно представить, что эти строки создал человек, изверившийся в жизни.
Нужно добавить, что финал поэмы был полностью переделан Бруно. В первом варианте герой прощался с Парижем и кончал жизнь самоубийством, потому что не мог жить в этом чудовищном мире. Но когда Антонио Бруно увидел слёзы на глазах у той, кто тайно, пренебрегая добрым именем и безопасностью, приходила навещать его, озаряла окружавшую его тьму, отгоняла прочь страдание и смерть, он понял, что готов сделать для этой женщины всё, притворился, что разделяет её воинственную и непреклонную уверенность в победе, и перечеркнул жестокие строки, проникнутые ощущением безнадёжного разочарования. На их место пришли другие слова – слова сопротивления и победы. Да, эти свободно льющиеся, наполненные горячим чувством, героические строки создал Антонио Бруно, но вдохновляла поэта его хрупкая и бесстрашная гостья, словно именно она впервые произнесла их своим нежным голосом с заморским акцентом. Бруно доверил ей экземпляр поэмы, и она тайно сделала несколько первых машинописных копий.
Поэму собирались публиковать в литературном приложении к одной из крупных газет Рио-де-Жанейро, но цензура запретила её как «оскорбительную по отношению к главе дружественного государства». Несмотря на это, поэма получила широчайшее распространение – ее передавали из рук в руки, печатали на мимеографе, разбрасывали как листовки. В кратчайшие сроки поэма стала известна в самых отдаленных уголках страны.
Но даже успех «Песни любви покоренному городу» не смог поднять дух её создателя. Строки поэмы, которые вселяли надежду в сердца тысяч бразильцев, в его усталом сердце отзвука не находили. Когда редактор «Перспективы» – о существовании этого журнальчика Бруно до той поры даже не подозревал – попросил разрешения напечатать это проклятое властями творение «завербованного» поэта, тот только пожал плечами:
– Публикуйте, если хотите и если вам разрешат. Что могут стихи против пушек и зверств? В мире нет больше места для поэзии. Нет и не будет.
Через десять дней, когда солнечный утренний свет озарил потерянную навеки парижскую мансарду, поэт Антонио Бруно погиб.