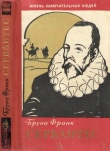Текст книги "Военный мундир, мундир академический и ночная рубашка"
Автор книги: Жоржи Амаду
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
САЛАТ-ЛАТУК
Что ж, Морейра прав: сердце у Сесилии золотое. А как она щедра и великодушна к тем, кому вверяется безоглядно, всякий раз тщетно надеясь, что уж этому избраннику она не надоест!
Почему всегда происходит одно и то же? Знакомятся, загораются, влюбляются, ухаживают, соблазняют… Готовы бросить к её ногам все сокровища царств земных… Сначала всё так хорошо: Сесилия изящна и пикантна, она любит, ничего не тая и ничего не оставляя «на потом», – ее возлюбленные проходят с ней полный курс…
Почему же интерес, который она пробуждает, так скоро слабеет, а потом и вовсе гаснет? Один из её поклонников – самый красивый и глупый – бросил ей жестокий упрек: «Ты слишком обыкновенная!» Другой – не такой красивый, но грубый, – вспоминая кульминационный момент их романа, прибегнул к такому оскорбительному сравнению: «Ты – никакая! Ты похожа на лист салата: он и пышный, и сочный, но без соли и уксуса в горло не лезет! Ты – пресная!»
Сесилия сначала плакала, потом призывала кого-нибудь из своих резервистов. Без возлюбленного она жить не могла. «В кого она такая уродилась?» – ломая голову над этим вопросом, дона Консейсан не находила ответа.
В настоящее время в списке резервистов значится только одно имя, ибо красивый стоматолог, вылитый Хосе Мухика, выбыл из игры, застукав Сесилию с Родриго, – и скоро уже долготерпение и преданность Клодинора Сабенсы будут вознаграждены. Сердце не камень: Сесилия уже позволяет взять себя под руку и украдкой посматривает на пего, поспешно отводя взгляд, если вдруг встретится с ним глазами, и слушает его стихи, вздыхает, когда он кончает читать: «Это мне посвящено?.. Дивные стихи… Я не достойна…» Час торжества близится.
Роман с Родриго был высшим взлетом Сесилии, Аристократ, богач, имя – в газетах, портреты – в журналах в сопровождении самых лестных отзывов. А какой изысканный кавалер! Даже чересчур изысканный… Уж он бы никогда не позволил себе уподобить женщину салату. Родриго – воплощенная воспитанность. Но Сесилия безошибочно чувствует, что уже приелась ему: их встречи становятся всё реже. Сначала они виделись ежедневно, потом через день, потом раз в три дня, а сейчас уже – раз в неделю, и что дальше будет – одному богу известно… В последний раз Родриго сказал, что уезжает в Петрополис, там будет встречать и рождество, и Новый год, а вернётся лишь в двадцатых числах января, чтобы проголосовать за генерала.
Сесилия вызвалась сопровождать его: она могла бы остановиться в какой-нибудь маленькой гостинице… Однако Родриго с деликатностью, столь ему свойственной, отклонил это предложение: краткая разлука лишь усилит радость новой встречи. Но Сесилия знает, что новой встречи не будет.
Он, впрочем, ещё не завтра уезжает. Родриго будет присутствовать на представлении пьесы Антонио Бруно, главную роль в которой играет Мария-Жоан. На следующей неделе – «сейчас буквально ни минуты свободной» – он завезёт билеты ей, генералу и доне Консейсан. В своей вступительной речи генерал обязательно должен упомянуть об этой комедии в стихах. Вот что значит воспитание: какой замечательно благовидный предлог для того, чтобы пригласить её родственников на премьеру! «На будущей неделе…» – сказал он. «В последний раз…» – догадывается Сесилия. Обидно до слёз: такой изысканный, утончённый и элегантный… А уж какой любовник!..
Вот тогда-то в первый раз Сесилия и назвала Клодинора Сабенсу нежно – Кло-кло, и в порыве страсти он ответил: Сиса, любимая моя Сиса!
НЕОБХОДИМЫЙ ВИЗИТ
– Визит совершенно обязателен! Ни один кандидат ни под каким видом не смеет уклониться от посещения того или иного академика. А вот академик имеет право отложить приём кандидата или вовсе отказать ему. Дело кандидата – почтительно испросить разрешения навестить члена Академии в удобном тому месте и в удобное для того время.
Старый Франселино, развалившись в кресле в библиотеке Академии, излагает свою точку зрения коллегам, обсуждавшим этот вопрос перед его приходом. Коллеги безмолвно внимают старейшине Академии, одному из её основателей, «бессмертному» с сорокатрехлетним стажем, непререкаемому авторитету в области устава, правил и традиций этого учреждения.
– Да, я знаю, что в уставе ни слова не сказано о предвыборном визите. Тем не менее этот неписаный закон значит больше, чем любой параграф устава Академии. Это conditio sine qua non[24]24
Необходимое условие (лат.).
[Закрыть] для того, чтобы кандидат прошел на выборах. И боже упаси кандидата сказать, что кто-то из академиков ему не нравится или не вызывает у него уважения. В этих стенах нет места антипатии или вражде: здесь все равноуважаемы.
Он может распространяться об этом часами, поскольку главная его задача защитить незыблемость иерархии и авторитет Академии.
– Если академик публично заявил о своём намерении поддержать того или иного претендента, это не освобождает остальных претендентов от необходимости наносить ему визит. Напротив, в этом случае визит делается ещё более обязательным.
Франселино с наслаждением затягивается сигаретой – он выкуривает в день только пять штук, чтобы уберечься от катара и бронхита, – и продолжает:
– Наша Академия – учреждение единственное в своём роде и не имеющее себе равных. К ней должно относиться с восхищением и трепетом. А поскольку Академия состоит из академиков, логично предположить, что и мы вправе претендовать на восхищение и трепет. Что стало бы с нами без предвыборных визитов?!
Одобрительные восклицания коллег встречают риторический вопрос престарелого дипломата. А он сурово выносит приговор:
– Заявив, что не пойдет к Лизандро с визитом, генерал совершил серьезную и непростительную ошибку. На каком основании он позволил себе такое пренебрежение? Лизандро поддерживал кандидатуру полковника Перейры? Ну и что? Он имел на это право и этим правом воспользовался. А вот генералу права нарушать одну из самых чтимых традиций нашей Академии никто не давал. Он поступил дурно.
Вывод Франселино находит единодушную поддержку среди коллег. Один из них добавляет:
– Этот Мажино не только самодур, но и утомительный болтун. Не знаю, что хуже.
Можно было бы сказать, что генерал Морейра не только самодур и болтун, но еще и сущий младенец в академических делах: он доверительно рассказал двум-трем «бессмертным», что не станет наносить визит Лизандро Лейте, который был так любезен с ним во все время предвыборной кампании и который до сих пор не сложил оружия, подговаривая бывших сторонников Перейры не голосовать за генерала. Генерал счел, что его генеральское достоинство ущемлено, и стал в позу: единственный претендент, по его мнению, может рассчитывать на некоторые вольности и поблажки.
Доверительный разговор перед выборами в Академию смело уподоблю шилу в мешке, особенно если разговор этот обнаружил, что кандидат непочтителен и забывает свое место. Никто ему таких вольностей не позволял и поблажек не давал.
Дом Лизандро Лейте был единственным местом, которое не посетил генерал во время своего предвыборного паломничества. Он трясся в вагоне на пути в Минас-Жерайс, но зато получил обещание полупарализованного новеллиста. В Сан-Пауло генерал отправился самолетом и был самым сердечным образом принят автором «Романсеро бандейрантов»[25]25
Бандейранты – завоеватели внутренних районов Бразилии в XVI – XVIII вв.
[Закрыть]. Они вспомнили эпизоды революции 1932 года – поэт в ту пору состоял при штабе полковника Эуклидеса де Фигейредо. Вместо положенных двадцати минут визит продолжался чуть ли не весь вечер. Свой голос творец «Книги псалмов» по укоренившейся привычке обещал отправить прямо в Академию. Путешествие обошлось недешево, но в Рио генерал Морейра вернулся как на крыльях. Не вызывало сомнений, что этот маститый писатель проголосовал бы за генерала, даже если бы тот был не единственным претендентом на место в Академии, а оставался соперником подлеца полковника. Поэт Марио Буэно был генералу собратом по оружию и по лире.
ПРЕДШЕСТВЕННИК
Однако выяснилось, что братство по лире этому человеку дороже. За несколько дней до генерала у него побывал «неистовый партизан» Эвандро Нунес дос Сантос (так стал называть его Афранио Портела). Он прибыл с единственной целью: обнять Буэно и обсудить с ним предстоящие выборы. Они дружили с незапамятных времён и даже были дальними родственниками: жена поэта приходилась покойной Аните двоюродной сестрой. В свои нечастые наезды в Рио Буэно всегда останавливался в гостеприимном доме на Санта-Терезе.
Вакансия в Академию заставила Эвандро дважды навестить потомка бандейрантов: в первый раз, чтобы уговорить его проголосовать за генерала. Это было нетрудно. Сампайо Перейра – тогда еще майор – после поражения революции 1932 года возглавлял армейскую контрразведку и попортил побежденным много крови, обвиняя их в сепаратизме.
– Да это же форменный «лесной капитан»[26]26
«Лесной капитан» – в колониальной Бразилии – прозвище охотника за беглыми неграми.
[Закрыть]. Как ты мог подумать, что я проголосую за него? Забыл, кто я? Он приезжал ко мне, я принял его любезно и обещал поддержку – я всем обещаю поддержку, потому что хорошо воспитан. Но ясно, что голосовать я буду за генерала: он по крайней мере участник эпопеи тридцать второго года.
Когда же Эвандро приехал к Марио во второй раз и стал просить его не голосовать за Морейру, эта же эпопея 32-го года оказалась серьезным препятствием.
– Может быть, он самодур, бездарность и зануда. Может быть. Не спорю. Но я так редко бываю в Академии, что мне нет никакого дела до его надоедливости!
Это возражение было предусмотрено Эвандро, который знал: всё, что имеет отношение к событиям 32-го года, священно для Марио, написавшего героическую песнь «Вперёд, за Сан-Пауло!» – единственное по-настоящему скверное произведение из всего его необозримого творческого наследия. Поэтому он выложил свой верный козырь:
– А я-то думал, ты хочешь, чтобы Жозе Фелисиано стал академиком… – Он снял пенсне, тщательно протер его и снова надел. – Помнишь, когда я сообщил тебе о смерти Бруно, мы с тобой в один голос сказали, что только Фелисиано может стать его достойным преемником. Ведь это ты первым назвал его имя. Большой поэт, славный человек и, кроме того, уроженец Сан-Пауло, твой земляк…
– Да разве я спорю! Фелисиано подходит, как никто другой… Но тут вмешались эти вояки…
– Я сразу хотел выдвинуть его кандидатуру, по Афранио убедил меня, что с полковником Перейрой может сладить только генерал. Он был совершенно прав, хотя, скажу тебе по секрету, никакой генерал не свалил бы этого фашистика. К счастью, Перейра не выдержал битвы и походных передряг и приказал долго жить. Так на черта нам теперь генерал? Ты когда-нибудь слышал, чтобы места в Академии занимали по традиции?! Одно место принадлежит армии! Другое – флоту! Третье – авиации, так, что ли? Завтра явятся полицейские, а за ними пожарники и тоже потребуют себе место в Бразильской Академии! Вот что, Марио: надо провалить на выборах этого зануду, а когда освободится вакансия, выдвинем Фелисиано.
– А… это возможно?
– По моим расчётам, всё зависит от тебя.
Марио Буэно любил Жозе Фелисиано как родного брата. Они дружили с юности: вместе околачивались в редакциях, веселились с одними и теми же уличными девчонками, ухаживали за барышнями из хороших семейств, вместе устраивали разгульные празднества в залах, расписанных Лазарем Сегаллом, вместе принимали участие в «Неделе современного искусства» и вместе писали яростные манифесты против Бразильской Академии. В 1932 году Жозе Фелисиано находился в туберкулёзном санатории, где ему делали пневмоторакс. Не колеблясь ни минуты, он добровольцем пошел на войну: его чуть ли не силой прогнали продолжать лечение.
– Ладно, старый анархист, твоя взяла! Против генерала я голосовать не буду – он в тридцать втором сражался за нас. Я воздержусь. Результат один, а разница есть.
– Знаю.
– Свой голос приберегу для Жозе. Если он не был тогда вместе с нами, то не по своей вине: врачи вытащили его из окопа. Какой он замечательный поэт, Эвандро! – Буэно обладал редким даром: умел восхищаться другими. – Первый поэт Сан-Пауло!
– Он талантлив, не спорю, но первый поэт Сан-Пауло – это ты.
Буэно умел восхищаться другими, но при этом обладал ещё одним даром, не столь редким вообще, а среди литераторов распространенным особенно, он умел восхищаться и самим собой.
– Нет, старина. Тут ты не прав. Я не первый поэт Сан-Пауло. Я первый поэт Бразилии.
СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ СПЕКТАКЛЮ
За неделю до рождества на сцене театра «Феникс» Мария-Жоан представила на суд нетерпеливой и благосклонной публики комедию в стихах «Мери-Джон», которая была написана Антонио Бруно и снова увидела свет рампы через восемнадцать лет после премьеры. Несмотря на бешеные цены, в зале не было ни одного свободного места: люди стояли вдоль стен и сидели на полу в проходах. Пока не поднялся занавес, жаждавшие продолжали осаждать кассу, объявление над которой извещало: «Все билеты проданы».
В зале был «весь Рио-де-Жанейро», все сколько-нибудь заметные люди бразильской столицы, начиная с министра иностранных дел Араньи – своим присутствием он бросал вызов лицемерию правителей Нового государства – и кончая Стенио Баррето, которому Мария-Жоан послала три билета в ложу, содрав с него за это чудовищную сумму.
Интерес к спектаклю усиленно подогревался в газетах и по радио. Гала-представление, посвящённое двадцатилетию сценической деятельности Марии-Жоан – отсчёт вели с её первых маленьких ролей в тех ревю, где блистала Маргарита Вилар, – должно было стать гвоздём сезона, крупнейшим событием в театральной жизни столицы.
В течение нескольких дней газеты сообщали, что весь сбор поступит в пользу «Свободной Франции». Об этом проговорился журнал «Дон Казмурро», заранее напечатавший программу, сочиненную Фигейредо Жуниором: «Свой двадцатилетний сценический юбилей Мария-Жоан решила посвятить непокорённой Франции, которую сегодня топчет нацистский сапог, и её гражданам, борющимся с кровавым захватчиком. Выручка от спектакля будет передана борцам Сопротивления. Все, кто причастен к этому спектаклю, – от владельцев театра «Феникс» до машинистов и плотников – будут в этот вечер работать безвозмездно в знак солидарности с первой актрисой бразильского театра, героической борьбой французского народа, потому что это и наша борьба. Комедия Антонио Бруно «Мери-Джон», написанная специально для дебюта Марии-Жоан в драматическом театре и поставленная Леополдо Фроэсом, как нельзя лучше подходит к этому празднику в честь выдающейся актрисы и непокоренной Франции. Автор пьесы – великий, незабвенный Антонио Бруно – считал Францию своей второй родиной. Он долго жил там и воспринял все достижения французской культуры. Сердце его не выдержало зрелища униженной, порабощённой Франции. Антонио Бруно стал одной из первых жертв падения Парижа».
Номер еженедельника «Дон Казмурро» не был ни запрещен, ни задержан цензурой, и в пробитую им брешь устремилась вся остальная пресса. Газеты превозносили благородное начинание Марии-Жоан. Высокопарные эпитеты и замысловатые сравнения потоком низвергались на читателей. Стало известно, что начальник ДПП – личность весьма загадочная – собственноручно поставил жирную разрешающую закорючку на корректуре статьи Фигейредо. Впрочем, в этой либеральной позе он пробыл недолго: из того самого кабинета в министерстве обороны, где раньше сидел полковник Перейра, последовал начальственный окрик. Статью объявили крамольной, и ДПП тут же запретил любое упоминание в печати о спектакле, о Франции – оккупированной или сражающейся, всё равно, – о нацистах и о маки. Кроме того, запретили перепечатывать программу спектакля.
Но принятые меры не достигли цели. В Рио говорили только о программе Фигейредо и о спектакле «Мери-Джон», билеты добывались чуть ли не в рукопашной. Цена за билет достигла нескольких тысяч, за программу предлагали ещё больше.
Стало известно, что в правительстве разыгралась схватка куда более ожесточённая, чем у театральных касс. Наиболее радикальные министры Нового государства требовали запретить спектакль; сторонники сближения с союзниками отстаивали его. Ходили слухи, высказывались предположения, росла напряженность. Рассказывали, будто владельцев «Феникса» Гинлесов пытались запугать и вынудить к расторжению контракта – ничего из этого не вышло. Устроители поклялись сыграть спектакль, даже если цензура его запретит: в назначенный час двери «Феникса» откроются для зрителей и поднимется занавес. Актёры будут играть, рискуя попасть в тюрьму и под суд. Передавали, что дочь диктатора Алзира пообещала отцу, что, если спектакль запретят, она явится в театр и будет рукоплескать артистам.
В конце концов спектакль был разрешён с одним непременным условием: нигде – а уж на сцене и подавно – не должно прозвучать и намека на какую-то его связь с антинацистскими организациями Франции. Юбилейный вечер Марии-Жоан «Двадцать лет на сцене» – и всё.
Можно сказать, что постановка «Мери-Джон» переросла рамки своего первоначального замысла и привела к столкновению между бразильскими нацистами и интеллигенцией, решившей ещё раз отстоять свободу. Так уж повелось в нашей стране ещё со времен колоний и стихов баиянского мулата Грегорио Матоса.
МАРИЯ-ЖОАН, МЕРИ-ДЖОН, МАРИАННА
Первый шквал рукоплесканий потряс стены театра «Феникс», как только поднялся занавес и зрители увидели декорации Санта-Розы. Это была революция в истории бразильской сценографии, новая эра. Появление каждого актера встречалось аплодисментами, которые перешли в овацию, когда на сцену вышел Прокопио Феррейра. Он играл роль мошенника, выдающего себя за американского киноактера. Преодолевая волнение, Прокопио произнёс первые слова ещё до того, как стихли рукоплескания. Когда же на сцену вышла Мария-Жо-ан – мисс Мери-Джон, шалая восемнадцатилетняя сумасбродка, помешавшаяся на американских фильмах, – спектакль пришлось приостановить – овация продолжалась не меньше минуты.
После такого бурного начала публика мало-помалу успокоилась, и первые два акта этой пьесы – драматургически рыхловатой, но написанной великолепными звучными стихами, на которые вдохновила Антонио Бруно красота и бешеный нрав Марии-Жоан – были встречены с весёлым одобрением – впрочем, к нему примешивалась лёгкая тревога: никто не удивился бы, если бы в дверях появились полицейские и потребовали очистить зал.
Когда же начался третий и последний акт, пораженные зрители увидели на сцене, у задника, не только всех занятых в спектакле актёров, но и всех рабочих сцены, электриков, машинистов, суфлёра, Фигейредо Жуниора, режиссера Алваро Морейру – словом, всех, кто принимал участие в постановке. Не хватало лишь Марии-Жоан.
В центре стояла неимоверных размеров корзина с синими, белыми и красными – как французский флаг – цветами. Зрители снова захлопали, и волна аплодисментов достигла своей высшей точки, когда из-за кулис вышла Мария-Жоан в костюме Марианны: трехцветная юбка и блузка, фригийский колпак. Прижав ладонь к груди, она постояла, ожидая, когда стихнет овация. Потом ее хрипловатый голос, в котором всегда чудился отзвук какой-то тайны, голос, который не забудешь, если слышал хоть раз, произнес:
– «Песнь любви покорённому городу». Стихотворение Антонио Бруно. Написано после падения Парижа, незадолго до смерти поэта.
Я не берусь описать состояние зрителей. Никто не думал, что со сцены театра «Феникс» прозвучат строфы преданного анафеме стихотворения. Словно электрический разряд ударил в зал: кто-то вскочил, за ним поднялись ещё несколько человек, и вот уже все были на ногах и рукоплескали. Пока она читала, никто не сел. Воцарилась такая мёртвая тишина, что на миг показалось, будто огненные, окровавленные, горькие от слез и прерывающиеся от ярости слова, в которых бились унижение, гнев, ненависть и любовь, всплыли откуда-то из глубин времени, прилетели, проломив степы театра, со всех четырех сторон света.
Первые четверостишия оплакивали город, преданный огню и мечу: напевный голос великой актрисы говорил о грязной реке, бывшей некогда Сеной, о трупах мучеников, о грохоте солдатских сапог, о скорби и безмолвии, об отчаянии и смерти. А потом, будто звонкий зов боевой трубы, зазвучали слова, поднимавшие людей на борьбу за освобождение, возвещавшие пришествие нового, светлого дня, воскрешение жизни и любви. Каждую строфу зрители встречали неистовыми рукоплесканиями – такого никто ещё не видал.
…Португалка Мария Мануэла, сидя в партере между доной Розариньей и местре Афранио, улыбаясь сквозь слёзы, шепотом повторяет стихи Бруно – это и её стихи. На следующий день она уезжает в Каракас и, быть может, никогда больше не увидит Рио, но след её пребывания остался тут; это ради неё Бруно призвал людей на борьбу за свободу. Что ж, возможно, Мария Мануэла снимет теперь траур, утешится в своём вдовстве, думает местре Афранио. Это сделали стихи Бруно.
Слёзы текут и по щекам Марии-Жоан, но голос её по-прежнему звучен и твёрд. Финал стихотворения обращён к убийцам и палачам народов: каждое слово – как разрыв гранаты. Над Парижем занимается рассвет, эту зарю зажгла Мария-Жоан, девчонка из предместья Рио, ставшая теперь Марианной – символом свободной Франции.
Париж, Париж, Париж! Твой факел негасим! Весь зал стоит, и Марианна всё громче повторяет имя города, которое Бруно написал на бумаге кровью сердца… Те, кто был в тот вечер в театре, поняли раз и навсегда, что угнетение, насилие, смерть не могут победить человека, свободу, жизнь.
Париж! – в последний раз повторила Мария-Жоан, и зал точно взорвался рукоплесканиями: шквал аплодисментов накатывал волна за волной, сотрясал своды театра «Феникс».
В конце третьего действия, когда зрители проводили овацией Мери-Джон, её партнеров и режиссёра, ещё раз поставившего комедию Бруно, какая-то женщина в партере – многие узнали поэтессу Беатрис Рейналь – запела «Марсельезу».
Мария-Жоан стала вторить ей со сцены, публика подхватила. Да, это был не просто парадный спектакль в честь юбилея: праздник Марии-Жоан стал победоносной операцией французских партизан.