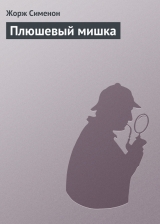
Текст книги "Плюшевый мишка"
Автор книги: Жорж Сименон
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Глава 5
Посещение Версаля и картежник с фиолетовым лицом
За тридцать лет улица едва ли изменилась, серые дома старели не спеша. Он еще издали заметил бензоколонку, возможно, рядом был и гараж. А вместо бакалейной лавки, куда он бегал за конфетами, появилась витрина холодильников и электроприборов.
Раньше на дверях дома висела эмалевая табличка с надписью: «Аристид Тилькен, дипломированный переводчик» – и то ли из-за непонятного слова «дипломированный», то ли из-за того, что у жильца были остроконечные усы, Шабо долго боялся его. Теперь была другая табличка, около звонка, где на меди было выгравировано: «М-ль Мулон, профессор сольфеджио».
Мадмуазель Мулон сменила Тилькена на втором этаже, а владельцы дома, или их дети, по-прежнему жили на первом. Его квартира, квартира его родителей, находилась на третьем, их окна в этот вечер были освещены, как в прежние времена, скудным печальным светом, этот свет удручал его каждый раз, когда он возвращался домой затемно.
Он чуть было не дернул за ручку звонка, совершенно позабыв, что теперь это всего лишь украшение, что выше расположены кнопки электрических звонков с именами жильцов. Он заколебался – стоит ли вынуждать мать спускаться вниз по лестнице ради его совершенно бессмысленного прихода.
Он ничего не принес с собой. И не надеялся ничего найти для себя здесь, потому что в этом месте шансов обрести поддержку у него меньше, чем в каком угодно другом. С чувством стыда он оставил машину за углом улицы.
Наконец он решился и надавил на кнопку звонка, знакомым, пришедшим из детства движением задрал голову. Прежде чем спуститься, мать бесшумно и настороженно открыла окно и выглянула, стараясь в темноте разглядеть посетителя.
– Кто там? – спросила она наконец.
– Это я, мама.
– Сейчас иду.
И он, по старой памяти:
– Брось мне ключ.
Она пошла за тряпкой, чтобы завернуть ключ, и через мгновение ключ упал у его ног. Он поднялся по лестнице, ориентируясь на полоску света под дверью второго этажа. Дверь на третьем открылась. Мать перегнулась через перила:
– Что-нибудь случилось? Ты с дурной вестью?
– Нет. С чего ты взяла?
Ступив на площадку, он нагнулся, чтобы расцеловать ее в обе щеки, она от природы была маленькая и с годами все уменьшалась. Его приход скорее встревожил ее, чем обрадовал.
– Входи. Раздевайся. У меня жарко. Чем больше старею, тем больше зябну. Каким это ветром тебя занесло?
Он солгал – то ли из жалости, то ли для простоты:
– Я проезжал через Версаль.
– Один?
– Да.
– А как же секретарша? Разве не она возит тебя?
Однажды мать заметила из окна Вивиану, ожидающую его в машине.
– А это кто? – спросила она тогда.
– Моя секретарша.
– Ты что, всюду берешь ее с собой, и она так и торчит в машине? Даже когда ты посещаешь своих клиенток?
– Как правило, я не езжу к больным на дом.
Он пытался объяснить ей, что, когда устает, ему делается как-то не по себе за рулем и он избегает вести машину сам. Но мать ему не поверила, чего он, собственно, и ждал.
– Знаешь, мне это не интересно. Это твое дело, разве не так? Лишь бы это устраивало твою жену.
Может быть, ему захотелось побыть в прежней обстановке? Здесь было еще меньше перемен, чем на улице. Все осталось так, как после смерти отца: у окна вольтеровское кресло, стойка для трубок, трубки – одна пенковая, с длинным чубуком из дикой вишни, две гнутые, и еще одна, глиняная, изображающая зуава, – эту отец не курил никогда…
Ворчала угольная печь, тихонько наигрывало радио над неоконченным письмом, рядом – флакончик фиолетовых чернил, пара очков в металлической оправе: раньше очки принадлежали отцу, а впоследствии ими стала пользоваться мать.
– Ты пообедал?
Он опять солгал.
– Знаешь, – продолжала она, – я ведь, как всегда, обедаю рано, и когда большинство людей садятся за стол – все позже и позже, не понимаю, что это за привычка, – у меня к этому времени уже и посуда перемыта.
Он твердо знал, что в кухне, дверь в которую была открыта, но свет из экономии не горел, все убрано на свои места.
– Твой отец, когда еще выходил из дому, думал, что я нарочно устраиваю ранний обед, чтобы он не засиживался в кафе с друзьями. А как поживают дети?
– Хорошо, спасибо.
– А жена?
– У нее тоже все хорошо.
– Налить тебе рюмочку?
Она бы обиделась, если бы он отказался. Достала из буфета графин с водкой, знакомый ему с давних пор.
В те времена, когда она еще варила варенья, в водку обмакивали кружки тонкой прозрачной бумаги – она называлась «ангельская кожа» – и ими закрывали банки, а сверху накладывали пергамент и обвязывали горлышко шпагатом. Эту часть работы обычно делал он, и ему живо вспомнился особенный запах водки, которую открывали также в тех редких случаях, когда отец приводил в дом приятеля или когда рабочие приходили что-нибудь чинить.
Стопки были крохотные и такие тонкие, что просто чудо, как им удалось уцелеть после стольких лет.
– Ты плохо выглядишь, сынок.
И она туда же! Впрочем, он так и думал, что она заметит.
Она разглядывала его острым, почти медицинским взглядом, пытаясь распознать, что он скрывает от нее.
Он был самым обыкновенным ребенком, она – самой обыкновенной матерью.
И все же в этом доме, так же как много лет спустя на улице Королевского Брата, он был несчастлив, ему было как-то не по себе. Никогда он не чувствовал, что это его дом. Конечно, он жалел отца, не встающего с кресла. Мать говорила ему:
– Твой отец болен.
А когда он хотел побольше узнать об отцовской болезни, таинственно добавляла:
– Это у него с головой. Ты не поймешь. Врачи и те не понимают.
Но врачи не ходили к нему. Ни один. Разве что перед самой смертью.
Может быть, она консультировалась у них? И поскольку отец тяжело болел, мальчик не должен был шуметь, должен был всегда молчать, не противоречить больному, быть первым учеником в классе, есть что дают, даже телячью голову – блюдо, вызывавшее у него отвращение, но отец требовал, чтобы его готовили не реже двух раз в неделю.
Мать посвятила свою жизнь инвалиду, и благодаря этому ее считали чуть ли не святой, и все продавцы квартала твердили ему об этом, покачивая головами с восхищением и сочувствием.
– Где у него болит, мама?
– Повсюду и нигде.
– Он и в самом деле не может ходить?
– Он пошел бы, если б прошла голова.
Странная болезнь отца беспокоила его. Отец одного из товарищей по классу лечился в санатории; у другого – погиб в уличной аварии. Он был единственным, у кого отец, с виду совершенно здоровый человек, неподвижно сидел в кресле.
Позже он много думал об этом, может быть, из-за этой семейной тайны он и выбрал медицину, а не юриспруденцию, хотя в те времена при виде крови ему делалось дурно.
Отец умер, когда Жан поступил на медицинский факультет. И если сначала он хотел изучать психиатрию, то, может быть, именно потому, что намеревался объяснить загадку последних лет жизни отца?
Он так и остался бы в психиатрии, если б не узнал, что открывается вакансия практиканта на акушерском отделении в больнице Брока. Он только что женился. Семья еле сводила концы с концами. Он подготовил конкурсную работу в рекордный срок.
– Твоя клиника по-прежнему процветает?
С тех пор как од приобрел клинику, мать упорно притворялась, будто думает, что его деятельность ограничивается одной работой в клинике. Он, со своей стороны, также наблюдал за матерью, пытаясь проанализировать их отношения.
Когда он был маленьким, она, вероятно, любила его, как всякая мать, и если почти не выказывала своей любви, то это можно объяснить тем, что ее муж также требовал к себе внимания, и хотя неподвижно пребывал в своем кресле, тем не менее заполнил собой всю квартиру.
Не этого ли Огюст Шабо и добивался? Мир изгнал его. Друзья предали.
Чтобы покарать их и уязвить своим презрением, он укрылся в четырех стенах и стал мучеником.
Вместо того чтобы возмущаться или озлобиться, мать неожиданно приняла несчастье как удачу. Наконец-то целиком в ее распоряжении находился человек, который ничего уже больше не мог делать сам и полностью от нее зависел. Разумеется, преданность ее была вне сомнения. В глазах всего квартала она была святой женщиной, да и сама считала себя таковой.
Поскольку они были бедны, то бедность превратилась в добродетель. И если ее муж боролся ради несчастных – угнетенных, как тогда говорили, то сама она исповедовала все возрастающую ненависть ко всем богачам без исключения:
– Невозможно разбогатеть и при этом сохранить чистую совесть.
Сотни раз слышал он эти слова и все-таки предал веру своей матери, все-таки стал богачом. По ее глубокому убеждению, всякий человек, если он живет в определенном квартале и ведет определенный образ жизни, имеет слуг и определенным образом одевается, – уже богач.
Она мечтала, что, когда ее сын станет врачом, он поселится в Версале, как доктор Бенуа, который прежде жил на их улице; его видели часто, он всегда куда-то спешил с коричневым докторским саквояжем.
Когда у него с Кристиной была одна-единственная комната на улице Королевского Брата, мать навещала их каждую неделю и всегда приносила маленький пакет – кофе, сахар, шоколад, несколько ломтиков ветчины.
В доме у сквера Круазик она еще бывала довольно часто, но тогда она уже приносила только лакомства для детей. Пенсия, которую она получала от правительства, была довольно скромной. Как только представилась возможность, Шабо стал давать ей ежемесячную дотацию – в конце концов она согласилась, так как это не шло вразрез с ее принципами.
– Ты ведь знаешь, что мне ничего не нужно, а у тебя дети, и тебе надо еще обзавестись своей клиентурой…
На худой конец, она еще могла смириться с тем, что в угоду своему честолюбию он стал профессором. Но простить ему клинику на Липовой улице и квартиру на Анри-Мартэн не смогла; туда она зашла всего раз и за все время своего посещения почти не разжимала рта, с презрением разглядывая шелковые шторы, ковры, обстановку и картины.
– Ну что ж, дети мои! Что бы там ни было, желаю вам счастья!
Иногда Кристина, пока девочки еще не выросли, возила их в Версаль. С Давидом туда ездили уже не так часто, потому что жизнь усложнилась.
– Как было бы хорошо, мама, если бы вы сами приезжали к нам, – говорила Кристина.
– Не хочу позорить вас, доченька. Если ваши друзья увидят меня, они примут меня за одну из ваших служанок. Нет уж, я свое место знаю и ставлю его выше вашего.
Жан Шабо был уверен, что она никогда не оставит старую квартиру; она сохраняла все на старых местах, как в музее. Он умолял ее, чтобы она позволила ему внести хоть какие-нибудь улучшения, например оборудовать ванную, установить электропечь, позднее он заговорил о телевизоре.
– До сих пор я жила без всякой этой механики и намерена обходиться без нее до самой смерти.
С тем же успехом он настаивал, чтобы она наняла служанку. Она не согласилась даже на телефон:
– На что он мне? Я никому не собираюсь звонить, да и мне никто звонить не станет.
– Ну, а вдруг тебе станет плохо…
– Тогда я постучу в потолок палкой твоего отца.
Соседка сверху сообразит, в чем дело.
Радио на столе, которое она только что выключила, не было его подарком. Да она ничего от него и не взяла бы. Она открыла для себя одно семейство, родственников по матери, ему неизвестных, он только изредка краем уха слышал обо всех этих Нику, Папе и Варнье. Одни из них жили в Версале и в Париже, другие, молодые, обосновались в Северной Африке.
Все они зарабатывали жалкие крохи, и мать сильнее всего привязалась к тем, кого судьба особенно преследовала. Она знала все их семейные драмы, знала, кто потерял работу, знала, что у одной из внучатых племянниц рак, а у другой – преждевременные роды и ребенок-инвалид.
Она навещала тех, кто жил не слишком далеко от нее, теперь она им приносила маленькие пакеты, а остальным писала длинные письма; вот и сейчас у нее на столе лежало неоконченное письмо.
– Еще стопочку… Пей, пей! Твой отец всегда выпивал две…
– Разве папа пил?
Она разом посуровела:
– Уж не воображаешь ли ты, что твой отец был пьяницей? Ни разу за всю нашу совместную жизнь – слышишь: ни разу! – не пришел он домой пьяным.
Да я бы этого и не допустила. Он выпивал одну рюмку в кафе, в дружеской компании, да и заходил он туда не столько ради игры в карты, а потому что любил поговорить о политике. Он был апостолом истины! Ради своих идей он пожертвовал всем.
Пронзительным взглядом она дала ему понять, как огромна разница между его отцом и им самим.
– Немного вина за обедом, как у всех принято, а вечером, За чтением газет – две рюмочки…
Он не решился попросить у нее разрешения зайти в свою бывшую комнату – он знал, что и там ничего не изменилось: те же обои в розовых и голубых цветах, та же этажерка, на которой все в том же строгом порядке стоят его школьные учебники и призы.
Зачем он пришел сюда в этот вечер? Только что, сидя за рулем, он не понимал зачем, даже не задавался таким вопросом. Но теперь, когда вроде бы нашел ответ, у него перехватило горло.
Разве его приход – не прощальный?
– Знаешь, мама…
Старуха бесстрастно смотрела на него в упор. Он боролся с желанием сказать ей. Лучше было бы оставить письмо.
– Ну, что ты хотел мне сказать?
Казалось, она смягчилась. Может быть, она ждала, что он наконец-то признается в том, что, несмотря на видимые успехи и деньги, он несчастен? И тогда она пожалела бы его.
Нет, в этом он не способен сплутовать, даже ради того чтобы его пожалели. Да и не жалость ему нужна. Он написал бы ей совсем о другом, но вот о чем – уже улетучилось из головы. При всем желании он не мог уловить свою мысль.
Его осенило, когда он глядел на отцовское кресло, на стойку с трубками, на книги в потрепанных переплетах, когда он думал о своей детской комнате и видел перед собой стол с очками, служившими по очереди обоим супругам.
На какой-то миг мысль блеснула и проявилась, уплотнилась, обрела форму. Ему казалось, будто он сам видел, как отец вернулся с улицы в последний раз, но в действительности сцена разыгралась без него: он был в школе.
Он собрал обрывки истины, прошлое и настоящее, и каким-то чудом, как это бывает при вынесении сложного диагноза, все сложилось в одну картину. Он был настолько близок к открытию, что уже, казалось, ухватился за путеводную нить, не отдавая себе отчета в том, какая горестная гримаса исказила его лицо.
– Да что с тобой, Жан? Ты болен?
– Нет.
– Ты уверен, что это не сердце? Сколько врачей умирает от сердца, сплошь и рядом…
– Да нет же, мама.
Она была раздосадована, что исповедь не состоялась:
– Ты в самом деле чувствуешь себя нормально?
– Уверяю тебя.
– Может быть, какие-нибудь неприятности дома? Или неладно с работой?
Ему удалось выдавить из себя улыбку. Все его трудности ничего не стоят, в глазах матери, по сравнению с несчастьями, которые так и сыплются на головы ее внучатых племянников и племянниц: еще бы – безработица, рак, ненормальные дети…
– Кристина не заходила к тебе в последнее время?
– Нет, с Нового года не заходила. Давид прислал мне открытку на день рождения.
Это удивило его – ему казалось, что сын и не подозревает о существовании бабушки.
– Мне пора…
Он вытащил из кармана бумажник.
– Нет-нет, сын… Мне хватает с избытком, ты ведь и так присылаешь мне каждый месяц…
Он не сам посылал ей деньги, этим занималась Вивиана, одновременно уплачивая по чекам всем поставщикам. И мать знала об этом, видя чужой почерк на переводе.
Тем не менее он положил на стол несколько кредиток:
– У тебя ведь есть внучатые племянники, которым это может пригодиться…
Может быть, зря он так делает? Но он поступал так каждый раз, и до сих пор ее это не задевало; напротив, несмотря на все свои протесты, она казалась скорее довольной. Он заметил, что она слегка побледнела. Но, может быть, деньги здесь ни при чем. Устал он ужасно. Никогда еще не чувствовал себя таким усталым, должно быть, это видно по нему, ведь недаром в этот день, с самого утра, все беспокоятся о его здоровье, даже мать.
– Наверное, я тебе уже говорила об этом, – прошептала она, – но людям моего возраста часто случается повторять одно и то же, а я не хочу, чтобы ты забыл, не хочу, чтобы ты допустил распродажу на аукционе этих документов; я говорю о бумагах твоего отца. Они в верхнем ящике комода.
Там же его военный билет и фотография в форме драгунского унтер-офицера.
Помнишь ее? Ты всегда просил, чтобы я тебе ее показала, а однажды ты захотел к Новому году кавалерийскую трубу…
– Спокойной ночи, мама…
– Спокойно ночи, сынок.
Он не посмел обнять ее за плечи, ведь раньше он никогда этого не делал, он только расцеловал ее в обе щеки и стал спускаться по лестнице.
Наклонясь через перила, она не забыла напомнить ему, как сорок лет назад, когда он уходил в школу:
– Осторожно, не хлопай дверью.
И он, задрав голову, прошептал:
– Хорошо…
Не надо было ему приходить. Это его взволновало – нет, не то, что он навестил мать, а то, что ему пришло в голову зайти к ней. Он снова попытался восстановить ход своих мыслей – тех, что перебирал, когда ехал с улицы Анри-Мартэн по Булонскому лесу. Не напал ли он случайно на след?
Неужели он и вправду обнаружил нечто тайное – ну хотя бы отправную точку для дальнейших открытий? На какой-то миг он, казалось, уловил неуловимое, и, может быть, его еще озарит. После водки во рту остался неприятный привкус. Хотелось коньяку. И, поскольку он себе в этом признался, он уже искал для себя оправданий, припоминал кафе на соседней улице, название он позабыл, где его отец встречался с друзьями.
Он заметил его издали, оно было так же скудно освещено, как и в давние времена, и поскольку в этот вечер он совершал своего рода паломничество, то почему бы ему не пойти до конца?
Он поставил машину и отправился туда пешком, хотя после стольких лет никто не узнал бы его. Он толкнул дверь и сразу попал в духоту, в нос ударил табачный дым и запах пива, давно забытый.
Он сразу пожалел, что пришел, потому что атмосфера здесь была такая же душная и гнетущая, как в его кабинете к концу дня.
Кафе осталось прежним, с теми же мраморными столиками и скамейками грязно-красного цвета, по стенам шла полоса зеркал, в металлическом шаре – тряпки.
В углу, у стойки, четверо играли в карты, и официант, стоя с полотенцем через руку, следил за партией, в то время как довольно молодая полногрудая женщина, хозяйка или кассирша, читала газету около пивного насоса. Во втором зале двое посетителей медленно кружили вокруг биллиардного стола и слышался стук шаров.
Было слишком поздно отступать, поздно искать другое место, где можно выпить. Он сел у входа и заказал коньяку.
– Пробную?
Он сказал «да» и в ожидании стал разглядывать лица присутствующих. У игрока, сидевшего напротив него, тучного человека, был двойной подбородок, похожий на зоб, и фиолетовое лицо. Временами он недобро поглядывал на Шабо.
Что скажет он, если ему придется свидетельствовать?
И остальные, которые тоже наблюдали за непрошеным гостем?
Их спокойствие и уверенность в себе, то, как серьезно изучали они свои карты, прежде чем решительно выложить их на стол, – все это пугало его. Не сходя с места, просто глядя на них издали, он мог бы поставить каждому игроку поистине удручающий диагноз.
Но вопросы-то будут задавать им. Именно их и таких, как они, принято считать нормальными людьми.
И разве не станет самым страшным свидетельством, пусть даже бессловесным, свидетельство его матери? Да ей достаточно предстать перед следователем и показаться ему такой, как она есть – изглоданная годами, безутешная героическая старуха!
– Мадам, ваш сын…
Ей будет довольно взгляда, выражения лица. Возможно, она добавит, склонив голову набок – как четверть часа назад, когда она сверлила его проницательным взглядом:
– Знаю… Я всегда этого ожидала…
Надо немедленно пресечь эти мысли. Он подозвал официанта:
– Еще раз то же самое…
Он слишком далеко зашел по этой страшной дороге. Завтра утром он сначала отправится в Пор-Рояль – осведомиться о состоянии луноликой девицы.
В принципе, внутримышечное введение кортизона при ее заболевании безвредно. Нужно только внимательно наблюдать за реакцией. В этом он вполне может положиться на свою ассистентку Николь Жиро.
А вдруг она ему звонила? Или звонили из клиники? Всегда может случиться непредвиденное. А он не сказал, где будет. Обычно этим ведает Вивиана, и все знают, где его можно найти.
– У вас есть телефон?
– В глубине биллиардной, налево, у туалетов. Вам надо позвонить в Париж? Дать вам жетон?
Он позвонил сначала домой. Ему ответила кухарка:
– Ах, это вы, месье… Жанины нет… Я одна…
– Никто не звонил?
– Только мадам. Она хотела знать, дома ли вы, и я ей сказала, что вы вышли. Я сделала что-то не так?
Он взял в кассе еще два жетона. Он редко сам набирал номер и теперь проделывал это очень неловко. Ему не хватало Вивианы, и он пожалел, что не взял ее с собой. Ему хотелось убедиться, что все в порядке, и он позвонил в клинику.
– Все идет хорошо, профессор. Мадам Рош провела больше часа с мужем и деверем и ничуть не утомилась. Затем съела все, что ей подали, и уснула.
Только что я перевела пациентку из двадцать четвертой в гинекологию, вы назначили ее на операцию завтра вечером.
– Никто меня не спрашивал?
– Никто. Все спокойно.
Он предпочел бы срочный вызов. Конечно, он боялся бы сплоховать, но работа вернула бы ему власть над собой. Он чувствовал, что катится по наклонной плоскости, и позвонил в Институт материнства, втайне надеясь, что там он окажется нужен:
– Мадам Жиро еще здесь?
– Нет, профессор. Дежурство принял доктор Берто.
Это его второй ассистент.
– Передайте ему трубку.
Он хотел бы быть на его месте, в белом халате, нести ответственность за эти ряды коек, где одни женщины спали, а другие молча страдали с открытыми глазами.
– Все хорошо, профессор… Да, я видел больную…
Доктор Жиро передала мне предписания… До сих пор она очень хорошо реагирует на лечение… Нет, больше ничего. Ночью ожидается трое родов, и все по прогнозу нормальные… Кесарево как раз сейчас делает доктор Вейл…
Нет, никто не протянул ему спасительной доски. Никто не нуждается в нем – ни дети, ни мать, ни больные.
– Все нормально…
Не в этот ли час молодая эльзаска устремилась к набережной, еще не будучи уверена, совершит ли она то, что задумала? Разве не пыталась она сначала уцепиться хоть за что-нибудь? Может быть, тогда она снова пробовала пробиться к нему в клинику на Липовой улице или долго стояла на улице Анри-Мартэн, глядя на освещенные окна и надеясь перехватить его у входа?
Плюшевый Мишка! Какой убийственной иронией обернулось прозвище, рожденное, казалось, самой нежностью!
Сознавала ли Вивиана, что она ответственна за это несчастье? Казалось, ее ничто не тяготит. Но чувствовалось, что она не спокойна; не потому ли, что он мог потребовать от нее объяснений? Или осыпать упреками?
Или даже выставить ее за дверь в порыве гнева?
Она оберегала его! Все вокруг только и делали, что оберегали его! Он не должен разбрасываться. Он всем нужен таким, какой он есть, таким, каким ему предписывалось быть по их настоянию, чтобы они могли превозносить его.
У всех у них были свои трудности, но разрешать их должен был он один.
Сам же он не имел права уклоняться в сторону от предусмотренного для него пути.
Даже хозяйка кафе, а может быть, кассирша, ну, та самая грудастая женщина, оторвалась от своей газеты и не без тревоги взглянула на него, словно опасаясь – а вдруг он пошел в кабинку не затем, чтобы поговорить по телефону, а чтобы там выблеваться?
– Официант, сколько с меня?
Он возьмет лист бумаги – нет, не сегодня, а в какой-нибудь вечер, когда будет один, у себя в кабинете, и чтобы никого рядом; тогда он будет искать, углубляясь год за годом в прошлое, так глубоко, как только позволит память, отмечая малейшие симптомы: его издавна приучили к методичности, и он сам приучал к ней своих учеников.
Ничего не упускать! Не довольствоваться ни приблизительным ответом, ни верным на первый взгляд признаком. Вычеркивать сомнительные факты.
Остальные – подытожить. Но и тогда не доверять решению, пусть даже очевидному.
Выйдя на улицу, он рассмеялся: знаменитый профессор, как назвал его Давид во время завтрака, а не может поставить себе диагноз! Но он не первый и не последний. Знавал он одного тоже знаменитого на весь мир психиатра, который стучался в двери всех своих коллег, чтобы проконсультироваться с ними на свой счет.
Потом он всех их обвинял в том, что они лгали ему, подвергал сомнению даже рентгеновские снимки и данные лабораторных анализов.
Кончилось тем, что он умер; отчего – Шабо не знал, потому что его это не интересовало. Это был подлинный случай, один из тех, о которых рассказывают друг другу на медицинских конгрессах и, как правило, больше всего смеются над несчастными чудаками отнюдь не самые уверенные в своем здоровье.
Он поискал ключ от машины в кармане, совершенно Забыв о том, что оставил его а щитке. Он выбрал дорогу с менее оживленным движением, потому что боялся ослепляющих фар встречных машин. На бульваре Курсель его ждали мадам и месье Филипп Ванакер – именно так они себя называли, – а также очень важное лицо – месье Ламбер со своей новой женой.
Г-н Ламбер рассчитывал с ним увидеться, и Филипп настоял, чтобы Кристина позвонила мужу.
Но из-за этого все же не стоит спешить, рискуя попасть в аварию. В сущности, они должны быть довольны, если он приедет к кофе. Они хотят видеть его и говорить с ним, очевидно, по делу, возможно, хотят попросить его, чтобы он протолкнул сына какого-нибудь приятеля, подвизающегося в медицине. Люди воображают, что стоит профессору замолвить словечко – и любой идиот сразу выдержит свои экзамены. Ну а если бы и так? Неужели он претендует на то, чтобы Ламбер вознаградил его запасом своего паршивого вина?
В сущности, нет никаких причин терзаться. Он исходил из ложного посыла, убеждая себя в том, что виновен, но в действительности виновны они, а не он.
С этой позиции все казалось ясным, даже скорее забавным. Он не обязан переделывать мир, в том числе и того толстого фиолетового болвана, который осуждающе смотрел, как Шабо выпил одну за другой две рюмки коньяка.
Ему остается только одно – как можно лучше делать свое дело. Правда, он неверный муж, но пусть ему сначала покажут хоть одного верного, а Кристина и так вполне счастлива, бегая по модным парикмахерским и магазинам предместья Сент-Оноре вместе с этой дурищей Мод.
Может быть, он мало занимался детьми? Но кто требовал от него дорогих игрушек, потом – платьев, каникул в Сен-Тропез, катания на лыжах в горах, а там уже и собственную машину? И кто, как не дети, требовал еще и полной свободы?
Пусть из них получится все что угодно. Это его больше не касается.
Пусть Жан-Поль Карон станет его зятем. Пусть Элиана занимается театром или кино, и пусть Кристина гордится ею, если дочери суждено стать звездой. И какая разница, с кем спит его дочь – со своим преподавателем или с кем попало из своих дружков. Бог знает где и как?
Ну а что касается Давида – почему бы сыну не сделать так, как он решил, независимо от того, сдаст он на бакалавра или нет? Вот Филипп – тому даже предрекали тюрьму, а он взял да и стал богатым человеком, так сказать, счастливцем, и может вызвать к себе, когда ему заблагорассудится, своего шурина-профессора.
И профессор явится как миленький! А вот и я! К вашим услугам, господа владельцы винных промыслов, телевидения и хорошеньких женщин!
Нужно быть очень внимательным с велосипедистами. Это его постоянная забота. Когда машина едет навстречу, очень трудно в блеске фар различить красный огонек на заднем колесе велосипеда. Так он и попал в аварию три года назад. Он был тогда совершенно трезв. А велосипедист, напротив, был пьян, ехал зигзагами, да еще без сигнальных огней. Долгие минуты этот человек лет пятидесяти, с усами, как у отца Шабо, казался ему мертвым.
А теперь у него на совести смерть молодой девушки. И не только ее самой – но и ребенка, которого она носила.
А что было бы, если б она не утопилась, а сумела добраться до него и поговорить с ним? Он даже не успел задать себе этот вопрос, но Вивиана та продумала все заранее.
А если бы пришлось решать Кристине, а не Вивиане? Если бы девушка решилась позвонить в дверь его дома, на улице Анри-Мартэн, если бы жена говорила с ней и все узнала?
Может быть, она тоже поступила бы так, как секретарша? Захотела бы защитить своего мужа? Попыталась бы откупиться деньгами или потребовала бы, угрожая ему разводом, чтобы он избавился от ребенка? И, разумеется, во имя блага их собственных детей… А также во имя его репутации, его карьеры и, конечно, во имя его клиники, которая отчасти является семейным имуществом.
И что же? Разве они обе не правы? Это та, третья, имя которой не сразу вспомнилось ему… ах да, Эмма! – так вот, не права была Эмма, и в конце концов она сама это поняла…
Значит, от него ждали, что он именно так и должен повести себя? Значит, он стал с виду вполне рассудительным человеком? Неужели теперь, прожив сорок восемь лет, он стал таким, как все?
В таком случае все превосходно. К вашим услугам, господа и дамы! Я еду к вам, вполне благоразумный, вполне у-рав-но-ве-шен-ный. А в награду вы мне поднесете вместе с кофе большой бокал того самого коньяка 1843 года, который пьют только у вас…
Он разговаривал сам с собой, но ему перехватило горло и он уже не мог вымолвить ни слова, потому что, сидя за рулем в темной машине, он плакал, как последний дурак.





