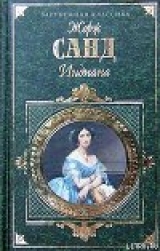
Текст книги "Индиана"
Автор книги: Жорж Санд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
23
Письмо госпожи Дельмар господину де Рамьеру Остров Бурбон, 3 июня 18…
«Я решила не напоминать вам больше о себе, но, приехав сюда и прочитав письмо, которое вы передали мне накануне моего отъезда из Парижа, почувствовала, что должна вам ответить: в том состоянии отчаяния и горя, в каком я находилась тогда, я зашла слишком далеко, я заблуждалась на ваш счет и теперь хотела бы загладить перед вами свою вину – не как перед возлюбленным, а как перед человеком.
Простите меня, Реймон, в ту ужасную минуту моей жизни вы показались мне чудовищем. Одним вашим словом, одним вашим взглядом вы лишили меня навсегда надежды и веры. Я знаю, что теперь уже никогда не буду счастлива, но все же надеюсь, что мне не придется презирать вас, – это было бы для меня последним ударом.
Да, я сочла вас негодяем, хуже того – эгоистом. Я почувствовала к вам отвращение. Я пожалела, что остров Бурбон находится недостаточно далеко, мне хотелось бы скрыться от вас еще дальше, и негодование дало мне силы испить чашу горя до дна.
Но когда я прочла ваше письмо, мне стало легче. Я не сожалею о вас, но и не чувствую к вам больше ненависти, и я не хочу, чтобы вы упрекали себя в том, что погубили мою жизнь. Будьте счастливы и беспечны, забудьте меня. Я еще жива и, может быть, проживу долго!..
В самом деле, вы ни в чем не виноваты: это я лишилась рассудка. У вас есть сердце – только я не нашла дороги к нему. Вы не лгали мне – я сама себя обманывала. Вы не были клятвопреступником или черствым человеком – вы просто не любили меня.
О боже, вы не любили меня! А я? Неужели я мало вас любила? Но я не унижусь до жалоб, я пишу вам не для того, чтобы отравить тяжелыми воспоминаниями покой вашей теперешней жизни. Я не прошу у вас и сочувствия к моим страданиям, – у меня хватит сил перенести их одной. Теперь я лучше знаю, какая роль вам к лицу, и потому хочу вас оправдать и простить.
Я не стану опровергать то, что вы мне пишете, – сделать это очень нетрудно. Не буду отвечать и на ваши рассуждения о том, в чем состоит мой долг. Успокойтесь, Реймон, я знаю, в чем он заключается: я любила вас слишком сильно, чтобы нарушить его необдуманным поступком. Незачем указывать мне, что люди стали бы презирать меня за мою ошибку, – все это было мне хорошо известно. Я знала, что навсегда запятнаю свою честь, знала, что все отвернутся от меня, проклянут, обольют грязью и что я не найду никого, кто бы пожалел и утешил меня. Да, я все это знала! Единственное мое заблуждение – это вера в вас, вера в то, что вы раскроете мне свои объятия и что на вашей груди я забуду горе, одиночество и людское презрение. Только одного я не ожидала – что вы откажетесь от моей жертвы уже после того, как я ее принесла. Я не представляла себе, что это может случиться. Когда я шла к вам, я предвидела, что сначала, повинуясь принципам и чувству долга, вы оттолкнете меня, но я была твердо уверена, что потом, узнав о неизбежных последствиях моего поступка, вы сочтете себя обязанным мне помочь. Нет, я никогда, никогда не думала, что вы предоставите мне одной пожинать горькие плоды и расплачиваться за все последствия моего опасного шага, вместо того чтобы открыть мне свои объятия и оградить своей любовью.
Как смело бросила бы я тогда вызов всему свету, не убоялась бы его молвы, безразличной для меня и бессильной мне повредить! Уверенная в вашем чувстве, с каким презрением отнеслась бы я к людской ненависти! Моя страстная любовь к вам заглушила бы слабый голос совести! Живя только для вас, я забыла бы о себе! Я гордилась бы тем, что завоевала ваше сердце, и совсем не думала бы о своем позоре. Одного вашего слова, взгляда, поцелуя было бы достаточно, чтобы я почувствовала себя правой. Для людей с их законами не осталось бы места в нашей жизни. Да, я была безумна, да, я знала жизнь, как вы цинично выразились, по романам для горничных, по этим веселым и наивным выдумкам, увлекающим нас удачным завершением рискованных авантюр и возможностью несбыточного счастья. Вы сказали тогда ужасную правду, Реймон! Меня приводит в отчаяние и убивает то, что это действительно так.
Одно только я недостаточно хорошо уясняю себе: почему мы столь различно отнеслись к преодолению непреодолимого? Почему я, слабая женщина, почерпнула в своем восторженном чувстве столько силы, что не побоялась поставить себя в невероятное, взятое из романов, положение, – а вы, сильный мужчина, не нашли в себе решимости последовать моему примеру? А между тем вы разделяли мои мечты о будущем, вы соглашались с моими безумными планами и поддерживали во мне несбыточную надежду. Вы выслушивали с улыбкой на лице и радостью в глазах мои детские фантазии, мои тщеславные и глупые замыслы и отвечали на них словами любви и признательности. Ведь и вы были слепы, непредусмотрительны и храбры на словах. Почему же вы стали благоразумны только в минуту опасности? Я всегда думала, что опасность привлекает человека, возбуждает в нем мужество, заставляет забыть о страхе, – вы же испугались в решительную минуту! Неужели вам, мужчинам, свойственна только физическая храбрость, которая бросает вызов смерти? Неужели вы неспособны на нравственную храбрость, которая может вынести любое несчастье? Вы так превосходно умеете объяснять все, – объясните же мне это, прошу вас.
Может быть, все дело в том, что мы мечтали о разных вещах? Ведь я черпала храбрость в своей любви к вам, а вы – вы только вообразили, что любите меня, и поняли свою ошибку в тот день, когда я, уверенная в вашем чувстве, в свою очередь совершила ошибку, придя к вам. Великий боже! Каким странным заблуждением была ваша любовь, раз вы не предвидели всех препятствий и с ужасом осознали их лишь в ту минуту, когда настало время действовать, раз вы впервые заговорили о них, когда было уже поздно!
К чему упрекать вас теперь? Разве вы вольны в своих чувствах? Разве от вас зависело любить меня вечно? Без сомнения, нет! Моя вина в том, что я не сумела внушить вам более прочную, настоящую любовь. Я ищу причину этому и не нахожу ее в своем сердце. Но, очевидно, она все же существует. Может быть, я слишком любила вас; может быть, моя нежность наскучила вам или утомила вас… Вы мужчина и, следовательно, любите свободу и наслаждения. Я была вам в тягость. Я пыталась иногда подчинить вас себе. Увы, все это небольшие грехи, и я не заслужила того, чтобы вы так жестоко покинули меня!
Наслаждайтесь же свободой, купленной ценой моей жизни, – я больше не потревожу вас. Почему вы не преподали мне раньше этого жестокого урока? Я бы меньше страдала, и вы, вероятно, тоже.
Будьте счастливы – это последнее желание моего разбитого сердца. Не призывайте меня к мыслям о боге, предоставьте нравоучения священникам, это их удел смягчать сердца грешников. Моя вера глубже вашей, я служу другому богу, но служу ему чище и лучше. Ваш бог – бог людей, он царь, основатель и поддержка вашей касты. Мой бог – бог вселенной, создатель, надежда и опора всего живущего. Ваш бог создал все только для вас одних; мой же сотворил все живые создания на пользу друг другу. Вы считаете себя хозяевами мира, а я думаю, что вы просто тираны. Вы уверены, что бог покровительствует вам, что он разрешил вам захватить всю власть на земле,
– по-моему, он терпит это до поры до времени, и настанет день, когда вы все, как песчинки, будете сметены его дыханием. Нет, Реймон, вы не знаете бога, или, лучше, позвольте мне повторить вам то, что вам сказал однажды Ральф в Ланьи: «Вы ни во что не верите». Ваше воспитание и потребность в неограниченной власти, которую вы противопоставляете «грубой силе народа», побудили вас слепо принять верования ваших отцов; но сердцем вы не верите в существование бога и, должно быть, никогда не молились ему. У меня же есть вера, какой у вас, безусловно, нет: я верю в бога, но я отвергаю придуманную вами религию; все ваши правила морали, все ваши заповеди отражают интересы вашего общества; вы возвели их в законы и утверждаете, будто они исходят от самого бога, уподобляясь тем самым священнослужителям, которые создали религиозные обряды, чтобы упрочить свое богатство и власть над народами. Но все это обман и нечестие. Я верю в бога и понимаю его, и я прекрасно знаю, что между ним и вами нет ничего общего; поклоняясь ему всей душой, я не могу быть с теми, кто постоянно стремится уничтожить его деяния и осквернить его дары. Не подобает злоупотреблять именем бога для того, чтобы сломить сопротивление слабой женщины, заглушить жалобу ее разбитого сердца. Бог не хочет, чтобы угнетали и губили творения рук его. Если бы он по благости своей вмешался в наши жалкие дела, он сломил бы сильного и поддержал бы слабого; он поднял бы свою могучую десницу и уравнял бы всех нас, как воды морей. Он сказал бы рабу: «Сбрось оковы и беги на холмы, где я создал для тебя воды, цветы и солнце». Он сказал бы королям: «Отдайте свою багряницу нищим, дабы послужила она им подстилкою, и идите спать в долины, где я разостлал для вас ковер из мха и вереска». Он сказал бы сильным: «Преклоните колена и переложите на плечи свои бремя ваших слабых братьев; отныне вы будете нуждаться в них, ибо я наделю их силой и мужеством». Вот каковы мои мечты. Они принадлежат другой жизни, другому миру, где закон сильного не будет угнетать слабого, где сопротивление и бегство не будут преступлением, где человека, если он, подобно антилопе, ускользнувшей от пантеры, сумел вырваться из-под власти другого человека, не закуют в цепи властью закона и не бросят к ногам врага; где его не будут оскорблять, уступая голосу предрассудков, и непрестанно попрекать: «Ты подлец и негодяй! Как посмел ты не смириться и не раболепствовать?».
Нет, не говорите мне о боге, в особенности вы, Реймон. Не прибегайте к его имени для того, чтобы послать меня в изгнание и заставить молчать. Подчиняясь, я уступаю только власти людей. Если бы я послушалась голоса моего сердца и того благородного инстинктивного чувства, которое и является, быть может, истинной совестью у смелых и сильных натур, я убежала бы в пустыню, сумела бы обойтись без помощи, без защиты и любви. Я поселилась бы одна среди наших прекрасных гор, забыла бы о тиранах, о несправедливых и неблагодарных людях. Но, увы! Человек не может обойтись без себе подобных, и даже Ральф не может жить один.
Прощайте, Реймон! Постарайтесь быть счастливым без меня. Я прощаю вам то зло, которое вы причинили мне. Вспоминайте меня иногда вместе с вашей матушкой – это самая лучшая женщина из всех, кого я знала. Помните, что в моем сердце нет ни горечи, ни чувства мести. Моя печаль достойна моей былой любви к вам.
Индиана».
Несчастная Индиана слишком много брала на себя. Чувство собственного достоинства продиктовало ей эти слова глубокой и спокойной печали. Оставаясь наедине с собой, она предавалась самому бурному отчаянию. Порою, впрочем, луч необъяснимой надежды загорался перед ее затуманенным взором. Может быть, она еще не потеряла окончательно веры в любовь Реймона, несмотря на жестокий урок, полученный ею, несмотря на ужасные мысли, ежедневно напоминавшие ей о том, каким холодным и равнодушным становился этот человек, когда дело не касалось его личных выгод или удовольствий. Мне кажется, если бы Индиана не закрывала глаза на горькую правду, она не могла бы влачить дальше свою изломанную, жалкую жизнь.
Женщины неразумны по самой своей природе. Как будто для того, чтобы уравновесить их явное превосходство над мужчинами в тонкости душевных восприятий, небо намеренно вложило в их сердца слепую суетность и глупое легковерие. И, чтобы овладеть этими нежными существами, такими податливыми и трогательными, быть может, нужно лишь умело их превозносить и льстить их самолюбию. Иногда мужчины, совершенно не имеющие влияния на своих собратьев, приобретают безграничную власть над женской душой. Лесть – это ярмо, под которое женщины сами подставляют свои легкомысленные и пылкие головки. Горе мужчине, желающему быть искренним в любви: его постигнет судьба Ральфа!
Вот мой ответ тому, кто стал бы говорить, что Индиана – натура исключительная и что заурядная женщина не проявляет в своем сопротивлении мужу ни такого хладнокровного упорства, ни такой удручающей покорности. Я напомнил бы ему об оборотной стороне медали и указал бы на жалкую слабость, которую Индиана питала к Реймону, на ее безрассудное ослепление. Я спросил бы его, где он найдет женщину, которая не умела бы с равной легкостью обманывать других и обманываться сама; которая не могла бы в продолжение десяти лет хранить в своем сердце надежду и потом в минуту безумия опрометчиво поставить все на карту, которая не была бы столь же покорной в объятиях своего избранника, сколь неприступной и сильной – перед человеком, ею не любимым.
24
Между тем семейная жизнь госпожи Дельмар протекала теперь гораздо спокойнее. Вместе с мнимыми друзьями исчезли и многие неприятности, которые только усугублялись стараниями этих ретивых и услужливых посредников. Сэр Ральф, молчаливый и с виду ко всему безучастный, лучше их всех умел сглаживать мелкие недоразумения, которые так легко раздуть в ссору при помощи сплетен. Впрочем, Индиана проводила почти все время в одиночестве. Дом их был расположен в горах над городом, и каждое утро господин Дельмар, державший свои товары на складе в порту, уходил туда на весь день заниматься торговыми делами, которые он вел с Индией и Францией.
Сэр Ральф, поселившийся вместе с ними, всячески скрашивал им жизнь и делал это так деликатно, что они даже не замечали его благодеяний. Он изучал естественные науки и наблюдал за работами на плантации. Индиана вернулась к своим прежним привычкам и в ленивом безделье, столь свойственном креолкам, проводила знойные часы дня в гамаке, а длинные вечера – в уединении гор.
Остров Бурбон представляет собой огромный конус, основание которого занимает площадь размером около сорока лье, а гигантские вершины поднимаются на высоту тысячи шестисот туазов. Почти со всех точек этой огромной горы, за острыми скалами, узкими долинами и высокими лесами, взору открывается голубое море, сливающееся на горизонте с небом. Из окна своей спальни, сквозь расщелину поросшей лесом горы, покатый склон которой находился как раз напротив их жилища, Индиане видны были белые паруса, скользившие по Индийскому океану. В продолжение тихих дневных часов это зрелище привлекало ее взоры и превращало ее печаль в какое-то беспросветное и безысходное отчаяние. Чудесный пейзаж совсем не вызывал в ней поэтического восторга, наоборот – при виде этих красот природы ее мысли становились еще мрачнее и безотраднее. Она опускала соломенную штору на окне и, стараясь скрыться даже от дневного света, проливала наедине жгучие и горькие слезы.
По вечерам, когда ветерок с гор приносил ей запах цветущих рисовых полей, она уходила в саванну и оставляла Дельмара и Ральфа наслаждаться на веранде ароматным настоем фахама и курить сигареты. Она взбиралась на вершину какой-нибудь доступной для подъема скалы – кратера потухшего вулкана – и смотрела оттуда на заходящее солнце, зажигавшее ярким пламенем облака и рассыпавшее золотую и рубиновую пыль на шелестящие верхушки сахарного тростника и на сверкающую поверхность выступающих из воды рифов. Она редко спускалась в ущелье реки Сен-Жиль, потому что вид моря причинял ей страдания, и в то же время оно неотразимо притягивало ее своими обманчивыми миражами. Ей казалось, что за волнами и туманной далью перед ее взором предстанет волшебное видение иной земли. И действительно, порой скользящие облака принимали фантастические контуры: то ей мерещилось, что на поверхности моря встает гигантская белая волна, похожая по очертаниям на фасад Лувра; то два квадратных паруса выплывали внезапно из тумана и представлялись ей башнями собора Парижской богоматери в тот час, когда над Сеною поднимается густой туман, окутывающий основание собора и башни кажутся повисшими в воздухе; или же клочья розовых облаков своей изменчивой формой напоминали ей причудливую архитектуру огромного города.
Индиана все еще находилась во власти прошлого и вся трепетала от радости при виде воображаемого Парижа, хотя в действительности время, проведенное в этом городе, было самой тяжелой порой ее жизни. Странное состояние овладевало ею тогда. Она находилась на головокружительной высоте над землей, у ног ее извивались ущелья, отделявшие ее от океана, и при взгляде на них ей казалось, что она – стрела, выпущенная в воздушное пространство и с необычайной быстротой приближающаяся к чудесному городу, который создало ее воображение. Вся во власти своей мечты, она машинально цеплялась за скалу, служившую ей опорой. И если бы кто-нибудь увидел тогда ее жадный взор, высоко вздымавшуюся грудь и дикую радость, которая озаряла ее лицо, он подумал бы, что перед ним безумная. А между тем это были единственные часы радости, единственные отрадные минуты, о которых она мечтала в продолжение целого дня. Если бы мужу вздумалось запретить ей эти одинокие прогулки, я не знаю, чем бы она заполнила свое существование, потому что она жила только своими иллюзиями, пламенным стремлением к тому, что нельзя было назвать, ни воспоминанием, ни ожиданием, ни надеждой, ни сожалением, а только страстным, пламенным желанием. Так проводила она под небом тропиков целые недели и месяцы, предаваясь пустой мечте, любя и лаская лишь тень.
Ральф также выбирал для своих прогулок мрачные и тенистые места, куда не долетало дыхание морского ветра, ибо вид океана стал ему ненавистен, равно как и мысль о новом путешествии.
В его воспоминаниях Франция была каким-то проклятым местом. Там он был так несчастен, что подчас терял мужество, несмотря на то, что привык к горю и терпеливо переносил страдания. Он всеми силами старался забыть об этой стране. Хоть он и разочаровался в жизни, ему все же хотелось жить, пока он чувствовал, что кому-то нужен. Итак, он всячески избегал говорить о своем пребывании во Франции. Чего бы он ни дал, чтобы вырвать из памяти госпожи Дельмар это ужасное воспоминание! Но он мало надеялся на успех: он знал, что неловок и некрасноречив, и потому избегал Индианы и не пытался чем-нибудь развлечь ее. Из-за своей чрезмерной сдержанности и деликатности он по-прежнему казался холодным и эгоистичным. Он уходил один со своими страданиями как можно дальше от людей, и, видя, как он целыми днями блуждает по лесам и горам в погоне за птицами или насекомыми, можно было подумать, что это охотник или натуралист, всецело поглощенный своей невинной страстью и нисколько не интересующийся сердечными делами, волнующими окружающих. На самом же деле охота и занятия науками были для него только предлогом, помогавшим ему скрывать свои горькие и тягостные думы.
Конусообразный остров Бурбон на всем своем протяжении изрезан узкими ущельями, на дне которых горные речки катят свои прозрачные бурные воды; одно из таких ущелий носит название Берника. Это очень живописное место – глубокая и узкая долина, зажатая между двумя рядами отвесных скал, склоны которых покрыты цепляющимся за камни кустарником и зарослями папоротника.
В расщелине между двумя скалами течет ручеек. У края расщелины ручей низвергается с огромной высоты и образует на месте своего падения небольшое озеро, заросшее тростником. Водяная пыль стоит над ним. По его берегам и по берегам ручейка, вытекающего из полноводного озера, растут бананы, личи и померанцевые деревья, покрывающие все ущелье своей темной пышной зеленью. Сюда-то и скрывался Ральф от жары и людей. Все его прогулки кончались у этого излюбленного им места. Однообразный шум прохладного водопада успокаивал его. Когда его сердце сжималось от тайных и никем не понятых мук, он приходил сюда и здесь в никому не ведомых слезах и молчаливых жалобах изливал свое горе и нерастраченную силу своей души и молодости.
Чтобы вам стал понятнее характер Ральфа, следует, может быть, сказать, что по крайней мере половина его жизни прошла в глубине этого ущелья. Сюда приходил он в своем раннем детстве, здесь учился стойко переносить несправедливость родителей, здесь набирался душевных сил для борьбы с жестокой судьбой и здесь же выработал в себе твердость, ставшую впоследствии его второй натурой. Сюда, будучи уже подростком, он приносил на плечах крошку Индиану, укладывал ее спать на прибрежную траву, а сам удил рыбу в прозрачной воде или лазил по скалам в поисках птичьих гнезд.
Одиночество его нарушали только чайки, буревестники, водяные курочки и морские ласточки. Эти береговые птицы, гнездившиеся в расселинах неприступных скал, то и дело взмывали вверх или камнем падали вниз, парили и кружились над пропастью. К вечеру они собирались беспокойными стаями и наполняли гулкое ущелье своими резкими, хриплыми криками. Ральфу доставляло удовольствие следить за их величественным полетом, слушать их тоскливые голоса. Он называл их своей маленькой ученице, рассказывал об их жизни, обращал ее внимание на красивую мадагаскарскую уточку с оранжевым брюшком и изумрудной спинкой, вместе с ней восхищался полетом фаэтона, который иногда залетал на эти берега. Эта птица с алыми перьями, похожими на соломинки, может за несколько часов перелететь с острова Маврикия на остров Родригес, куда она всегда возвращается на ночь к своему выводку, пролетев над морем двести миль. Буревестники также прилетали сюда, чтобы посидеть на скалах, распустив заостренные крылья, оглашая воздух громкими жалобными криками; прилетал сюда и царь морей – большой фрегат с раздвоенным хвостом, свинцовым оперением и изогнутым клювом; птица эта так редко опускается на землю, точно воздух – ее единственная стихия, а движение – естественное состояние. Пернатые обитатели скал, по-видимому, привыкли к двум детям, постоянно вертевшимся около их гнезд, и почти не пугались при их приближении. Когда Ральф влезал на скалу, где они только что расположились, они взлетали черной стаей и, как бы назло ему, садились немного выше. Индиана смеялась, следя за ними, а затем осторожно уносила в своей соломенной шляпе яйца, добытые для нее Ральфом зачастую с большим трудом, так как ему приходилось смело отвоевывать их у крупных морских птиц, защищавших их своими сильными крыльями.
Воспоминания возникали, проносились в голове Ральфа и наполняли его душу горечью, так как времена изменились и маленькая девочка – его всегдашняя спутница – перестала быть его другом или, во всяком случае, не была с ним так откровенна и доверчива, как прежде. Хотя он вновь обрел ее привязанность и она окружала его вниманием и заботами, между ними еще стояло что-то, мешавшее им быть откровенными, – это было воспоминание, которое владело всеми их помыслами. Ральф знал, что не может коснуться этого вопроса. Однажды – в минуту опасности – он осмелился это сделать, но его мужественная попытка ни к чему не привела. Повторить ее теперь было бы бесполезной жестокостью, и Ральф скорее решился бы оправдать Реймона, этого светского человека, к которому он чувствовал сильнейшее презрение, чем вынести ему справедливый приговор и тем увеличить горе Индианы.
Итак, он молчал и даже избегал ее. Хотя они жили под одной крышей, он ухитрялся видеться с нею только за столом; и все же, словно провидение, он тайно оберегал ее. Он покидал плантацию только в те часы, когда жара удерживала ее в гамаке; вечером, когда она уходила на прогулку, он под разными предлогами оставлял Дельмара одного на веранде, а сам отправлялся к подножию скал и ждал ее в том месте, где, как ему было известно, она имела обыкновение сидеть. Он проводил там целые часы, поглядывая на нее сквозь ветви деревьев, слабо освещенных восходящей луной, но никогда не приближался к ней и не осмеливался нарушить хотя бы на мгновение ее печальную задумчивость. Когда она спускалась в долину, она всегда встречала его на берегу быстрого ручья, вдоль которого шла тропинка к их дому. Он ждал ее обычно, сидя на одном из огромных валунов, омываемых серебристыми струйками журчащей воды. Когда белое платье Индианы показывалось на берегу, Ральф молча поднимался, предлагал ей руку и доводил до двери, не произнося ни слова, если только она сама, чувствуя себя более грустной и подавленной, чем обычно, не начинала какой-нибудь разговор. Потом, расставшись с ней, он уходил к себе в спальню, но не ложился, пока все в доме не засыпали. Если Дельмар повышал голос, Ральф, воспользовавшись первым попавшимся предлогом, шел к нему и старался успокоить или отвлечь его, ни в коем случае не давая понять, что делает это намеренно. Их жилище по сравнению с домами наших краев можно было бы назвать прозрачным, и, чувствуя себя постоянно на виду, полковник невольно обуздывал свой нрав. Вечное присутствие Ральфа, при малейшем шуме появлявшегося в качестве третьего лица между ним и его женой, принуждало господина Дельмара сдерживаться, ибо полковник был достаточно самолюбив и умел взять себя в руки при этом молчаливом, но суровом свидетеле. Для того чтобы сорвать дурное настроение, накопившееся за день и вызванное различными неприятностями делового характера, полковник ждал, когда его строгий судья отправится спать. Но напрасно – тайное око, казалось, постоянно наблюдало за ним: стоило ему произнести резкое слово, стоило громко крикнуть, как тотчас же из спальни Ральфа доносился звук передвигаемой мебели или шарканье ног, и полковник умолкал, поняв, что осторожный и терпеливый покровитель его жены не дремлет.








