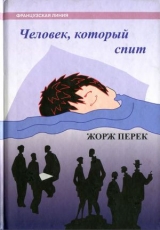
Текст книги "Человек, который спит"
Автор книги: Жорж Перек
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Иногда, полулежа на своей узкой кушетке, довольствуясь бледным и рассеянным светом, который падает от окна и почти регулярно подсвечивается красным огоньком твоей сигареты, ты весь вечер слушаешь шаги своего соседа. Стенка, разделяющая ваши комнаты, настолько тонка, что ты почти слышишь его дыхание, ты слышишь его шаги, даже когда он ходит в тапочках. Ты часто пытаешься представить себе, как он выглядит: его лицо, руки; его занятия, возраст, мысли. Ты ничего о нем не знаешь, ты даже никогда его не видел, быть может, лишь только однажды, когда столкнулся с ним на лестнице и прижался к стене, чтобы дать ему пройти, но ты не знал, не мог быть уверенным, что это именно он. Впрочем, ты не ищешь возможности с ним увидеться, ты не приотворяешь свою дверь, когда слышишь, как он выходит из комнаты и подходит к крану в коридоре, чтобы налить воды в чайник, ты предпочитаешь его слушать и создавать его образ по своему усмотрению. Ты только знаешь, что его комната намного больше, чем твоя, поскольку он может по ней передвигаться, поскольку он должен по ней передвигаться, чтобы дойти до окна, кровати, двери или шкафов, тогда как ты, стоя в центре своей комнаты – две трети которой занимает кушетка, – можешь, не отрывая пяток, дотянуться руками до любой точки: окна, двери, маленькой раковины, вешалки в углу, розового пластмассового таза, этажерки.
Если судить по чуть хриплому кашлю, сипению и шаркающим шагам, сосед, должно быть, стар, хотя возраст не может служить объяснением его одиночеству: как и ты, он никогда никого не принимает у себя в комнате, словно последний этаж здания – чьими единственными, насколько тебе известно, жильцами вы являетесь – представляет опасность для всякого, кто задумал бы сюда дойти. Возраст не объясняет и более чем ритуальную пунктуальность в распорядке дня; второй момент скорее говорит о том, что он, опять же как и ты, человек привычек, но наверняка более уравновешенный. Он уходит из дома каждый день, даже по воскресеньям, поздним утром и неизменно возвращается поздним вечером, как если бы его деятельность, будь она прибыльной или нет, регламентировалась дневным светом и не зависела от расписаний по часам: до Рождества он возвращался чуть раньше, теперь он возвращается каждый день чуть позже.
Ты думаешь, что он уличный торговец, продавец галстуков, привязанных внутри зонта, или демонстратор каких-нибудь чудодейственных средств против мозолей, пятен, бородавок, расширения вен, или скорее мелкий галантерейщик, устанавливающий на четырех раздвижных металлических ножках свой прилавок – открытый чемодан – и предлагающий зевакам с Больших бульваров расчески, зажигалки, пилки для ногтей, солнечные очки, футляры, брелки для ключей. Твое предположение строится исключительно на том, что основная деятельность соседа, когда он дома, сводится к тому, что он, как утром, так и вечером, выдвигает или задвигает или выдвигает и задвигает ящики, словно там хранится значительное количество товаров, которые он должен доставать каждое утро перед выходом и убирать каждый вечер в конце рабочего дня.
Возможно, этот открытый чемодан ему необходим и он пользуется им как тумбочкой, письменным или обеденным столом; ты представляешь соседа несколько церемонным, комичным персонажем, который разворачивает на своем чемодане вышитую скатерть, сохранившуюся от былой роскоши, ставит жалкий подсвечник для дешевых свечей, сервиз – возможно, подобный тем, которые он продает, а именно розовый пластмассовый стаканчик, тарелка и набор алюминиевых приборов, которые складываются один в другой следующим образом: ложка имеет углубление для вилки, вилка – для ножа, и все удерживается защелкой в форме пуговицы для ложного воротника, приделанной к ложке и проходящей насквозь вилку и нож, к которому привязано кожаное кольцо, – и в твоем причудливом воображении этот чемодан, существование которого еще никак не подтверждено, может служить прилавком галантерейщика днем и корзиной для пикника вечером. Но нет никакой уверенности даже в том, что твой сосед ужинает дома, ты никогда не слышал шипения, ты никогда не чувствовал запаха жарящихся потрохов, почек, которые были бы его излюбленной пищей. Более или менее точно ты знаешь только то, что за водой он выходит в коридор (пусть его комната больше твоей, но в ней нет водопроводного крана), а чайник ставит на плитку, чей принцип работы тебе неизвестен, но наверняка довольно прост, если судить по времени, которое требуется для того, чтобы чайник засвистел, то есть вода закипела.
Напрасно ты слушаешь, прислушиваешься, прикладываешь ухо к стенке, все равно ты почти ничего не знаешь. Кажется, что с обострением твоего восприятия уверенность твоих интерпретаций уменьшается. Несомненно, он постоянно выдвигает и задвигает ящики, хотя и это еще не окончательно доказано, поскольку ему ничто не мешает, например, тереть одной доской о другую с неизвестной тебе целью или просто чтобы ввести тебя в заблуждение; с другой стороны, он может на самом деле выдвигать или задвигать один или несколько ящиков просто так, то есть ничто туда не укладывая, ничто оттуда не выкладывая, лишь для того, чтобы поскрипеть, потому что ему нравится скрип выдвигаемых или задвигаемых ящиков. Несомненно, он каждый день выходит поздним утром, но ты не всегда бываешь дома, чтобы в этом убедиться; иногда ты уходишь с наступлением вечера, еще до того, как он возвращается; быть может, он даже способен сделать вид, что уходит, спуститься на несколько ступенек и снова подняться, но так тихо, что, несмотря на все свои усилия, ты уже не можешь удостовериться в его присутствии. Несомненно, он набирает воду в коридоре; несомненно, его чайник свистит, когда закипает вода, но как знать, а вдруг свистит он сам?
Однако временами его жизнь начинает принадлежать тебе, его звуки становятся твоими, поскольку ты их слушаешь, ждешь, поскольку они поддерживают в тебе жизнь, как капля воды, колокола Сен-Рок, шум улицы, гул города. Тебе не так важно, что ты заблуждаешься, интерпретируя или выдумывая. Достаточно того, что ты сделал его галантерейщиком, и он им действительно стал; со своим раскладывающимся чемоданом, своими расческами, зажигалками, солнечными очками. Он проживает эфемерную жизнь, которую ты позволяешь ему проживать; будучи приговоренным в оставшееся время наполнять водой свой чайник, кашлять, волочить ноги, задвигать и выдвигать свои ящики, он исчезает, не успев выйти из поля твоего восприятия, и умирает, едва тебя одолевает сон.
Но быть может, сам того не зная, ты в некоем молчаливом симбиозе также принадлежишь ему? Быть может, когда ты подстерегаешь его кашель, свист, скрип ящиков, он занят тем же самым; быть может, точно так же стук, с которым ты ставишь чашку на этажерку, шелест газет, которые ты берешь и откладываешь, шуршание карт, которые ты раскладываешь на своей узкой кушетке, плеск используемой тобой воды, твое дыхание являются для него – вместе с капанием воды, колоколами, шумами улицы, города – плотной тканью утекающего времени и непрекращающейся жизни. Быть может, он безнадежно пытается с тобой познакомиться, быть может, он не перестает интерпретировать каждый знак: кто ты, что ты делаешь, ты, шелестящий газетами, ты, в течение нескольких дней не выходящий из дома или выходящий из дома и отсутствующий в течение нескольких дней?
Но ты издаешь так мало звуков! Он может выявить лишь твое присутствие, и если он обращает на это внимание, значит, опасается; значит, ты его тревожишь: он подобен старому, вечно переживающему за безопасность своей норы барсуку, что слышит неподалеку какой-то звук и никак не может установить его источник; звук, который никогда не усиливается, никогда не ослабевает и, самое главное, никогда не прекращается. Он старается защититься, он пытается неумело ставить перед тобой ловушки, пытается убедить тебя в том, что он силен, что не боится, что не дрожит от страха: но он такой старый! У него остаются силы только на то, чтобы беспрерывно пересчитывать и постоянно перепрятывать свое богатство.
Тебе, глупцу, даже нравится иногда считать, что ты его завораживаешь, что ты его действительно запугиваешь: ты стараешься как можно дольше сохранять полную тишину или принимаешься скрести щепкой, пилкой, карандашом разделяющую ваши комнаты перегородку и выцарапывать из нее слабый противный звук.
Или наоборот, почувствовав внезапную симпатию, тебе уже хочется отправить ему спасительное сообщение, стуча в стенку: один стук – А, два стука – Б…
Отныне тебе уже негде скрыться. Ты боишься, ты ждешь, что все закончится, дождь, часы, поток машин, жизнь, люди, мир; что все обвалится, стены, башни, полы и потолки; что мужчины и женщины, старики и дети, собаки, лошади, птицы, одни за другими, падут на землю, пораженные параличом, чумой, эпилепсией; что мрамор раскрошится, дерево превратится в труху, дома бесшумно рухнут; что проливные дожди размоют штукатурку, расшатают шпунты столетних шкафов, разорвут ткани, растворят типографскую краску газет; что огонь без пламени будет пожирать ступени лестниц; что улицы начнут проваливаться прямо посередине, открывая зияющий лабиринт канализационных труб; что весь город погрузится в ржавое марево.
Порой тебе снится, что сон, это медленно подступающая к тебе смерть, одновременно легкая и ужасная анестезия, счастливый некроз: холод поднимается вдоль твоих ног, вдоль твоих рук, поднимается медленно, сковывает, парализует. Большой палец твоей ноги – далекая гора, твоя нога – река, твоя щека – подушка, ты целиком умещаешься в одном большом пальце на руке, ты плавишься, ты рассыпаешься как песок, растекаешься как ртуть. И вот ты всего лишь песчинка, скорчившийся гомункул, мелкая выхолощенная тварь – без мышц, без костей, без ног, без рук, без шеи, со сросшимися ступнями и ладонями, – которую всасывают огромные губы.
Ты безмерно увеличиваешься, ты взрываешься, ты умираешь, расколовшись и окаменев: твои колени – булыжники, твои берцовые кости – стальные прутья, твой живот – льдина, твой член – сушильная печь, твое сердце – раскаленный котел. Твоя голова – равнина, заволакиваемая туманом, легкая дымка, плотная пелена, тяжелый покров…
Твои брови поднимаются, сводятся; твой лоб морщится, твои глаза не отрываясь смотрят на тебя. Твой рот открывается и закрывается.
Ты внимательно смотришь на себя в зеркало и, разглядывая пристально, даже находишь себя привлекательнее (правда, это происходит почти в сумерках, а источник света находится за твоей спиной, так что, по сути, освещен лишь пух, покрывающий края твоих ушей), чем ты есть, как тебе кажется, на самом деле. Тебе видится лицо чистое, гармонично вылепленное, почти красиво очерченное. Копна черных волос, брови и темные глазницы вылезают, словно живые существа, из выжидающей массы лица. Во взгляде нет никакой опустошенности, даже намека, но нет и переполняющей наивности; он скорее кажется невероятно энергичным, а может, просто наблюдательным, поскольку ты как раз наблюдаешь за собой и хочешь самого себя напугать.
Какие тайны ты выискиваешь в расколотом зеркале? Какую истину – в отражении лика? Круглое, слегка припухлое, чуть ли не одутловатое лицо, сросшиеся брови, крохотный шрам над губой, глаза немного навыкате, неровно посаженные зубы, покрытые желтоватым налетом, многочисленные бугорки, прыщи, черные точки, бородавки, угри, черноватые или коричневатые родимые пятна, из которых вылезает по нескольку волосков, под глазами, на носу, на висках. Приблизившись, ты можешь обнаружить, что твоя кожа удивительным образом испещрена полосками, морщинками, пятнышками. Ты можешь увидеть каждую пору, каждое вздутие. Ты смотришь, всматриваешься в крылья носа, в трещины на губах, в корни волос, в лопнувшие сосуды, пометившие красными прожилками белки глаз.
Иногда ты похож на корову. Твои выпученные глаза не выражают никакого интереса к тому, на что они смотрят. Ты видишь себя в зеркале, и это не вызывает у тебя никакого чувства, даже того, что могло бы родиться просто по привычке. Это говяжье отражение – которое ты по опыту уже научился идентифицировать как самый верный образ твоего лица, – кажется, не испытывает к тебе ни симпатии, ни признательности, как если бы оно не признавало тебя вовсе или, скорее, как если бы, признав, старалось не выказывать никакого удивления. Ты не можешь всерьез полагать, что оно на тебя обижено, ни даже предполагать, что оно думает о чем-то другом. Подобно корове, камню или воде, ему просто нечего тебе сказать. Оно смотрит на тебя из вежливости, только потому, что ты смотришь на него.
Ты оттягиваешь уголки глаз, чтобы выглядеть как китаец, ты таращишь глаза, примеряешь гримасы: одноглазый со скошенным ртом, обезьяна с языком, заведенным под верхнюю или нижнюю губу, втянутые щеки, надутые щеки; косоглазая или криворожая, корова в расколотом зеркале позволяет делать с собой все, что угодно, и ни на что не реагирует. Ее покорность до такой степени очевидна, что сначала это тебя успокаивает, затем беспокоит, а под конец чуть ли не тревожит. Ты можешь потупить взор перед человеком или перед кошкой, потому что человек или кошка на тебя смотрят и их взгляд – оружие (возможно, доброжелательность во взгляде – оружие самое страшное, ибо она способна тебя обезоружить, тогда как ненависти это было бы не под силу); нет ничего нелепее, чем взор, потупленный перед деревом, перед коровой или перед своим отражением в зеркале.
Некогда в Нью-Йорке, в нескольких сотнях метров от молов, о которые разбиваются последние волны Атлантики, один человек довел себя до смерти. Он был писцом в нотариальной конторе. Скрытый перегородкой, он сидел за своим столом и не двигался. Он питался имбирными сухарями. Он смотрел в окно на почерневшую кирпичную стену, до которой мог почти дотянуться рукой. Было бесполезно требовать от него чего бы то ни было, перечитать текст или сходить на почту. На него не действовали ни угрозы, ни мольбы. Под конец он почти ослеп. Его пришлось выгнать. Он обосновался на лестничной площадке. Его посадили в тюрьму, он уселся посреди тюремного двора и отказался от пищи.
Ты не умер, но и не стал мудрее.
Ты не подставлял свои глаза палящему солнцу.
Два старых отставных актера [13]13
Скрытая цитата из романа Ф. Кафки «Процесс».
[Закрыть]не приходили к тебе, не приставали к тебе, не сливались с тобой в единое целое так, что было невозможно погубить одного из вас, не уничтожив двух остальных.
Над тобой не нависали сострадательные вулканы.
Какое чудесное изобретение – человек! Он может дышать на свои руки, чтобы их согреть, и дуть на суп, чтобы его остудить. Он может бережно, если не чувствует сильного отвращения, ухватить большим и указательным пальцем любое жесткокрылое насекомое. Он может выращивать растения и получать из них пищу, одежду, наркотические средства и даже духи, которые будут перебивать его неприятный запах. Он может отливать металлы и делать из них кастрюли (что не под силу обезьяне).
Сколько образцовых историй превозносят твое величие, твое страдание! Сколько Робинзонов, Рокентенов, Мерсо и Леверкунов! [14]14
Рокентен – герой романа Ж.-П. Сартра «Тошнота» (1938); Мерсо – герой романа А. Камю «Чужой» (1942); Леверкун – герой романа Т. Манна «Доктор Фаустус» (1947).
[Закрыть]Заработанные баллы, красивые образы, лживые заверения: все это неправда. Ты ничего не познал, ты не смог бы ни о чем свидетельствовать. Все это неправда, не верь им, не верь мученикам, героям, авантюристам!
Лишь глупцы все еще говорят всерьез о Человеке, о Животном, о Хаосе. Ради выживания даже самое ничтожное насекомое тратит столько же, если не больше, энергии, чем это потребовалось какому-то авиатору – причем горделиво принадлежавшему какой-то Компании, навязавшей ему непосильный график полетов, – для того, чтобы перелететь далеко не самую высокую гору на планете.
В своем лабиринте крыса способна на настоящие достижения: если к клавиатуре пианино или к пюпитру органа хитроумно подключить педали, на которые она должна нажимать для получения своей пищи, можно добиться, чтобы животное пристойно исполнило «Иисус, укрепи меня в радости», и совсем не возбраняется верить, что от этого оно получит высшее наслаждение.
Но ведь перед тобой, жалким Дедалом, не было никакого лабиринта. Ложный пленник, твоя дверь оставалась открытой. Не было ни стража перед дверью, ни начальника охраны в конце коридора, ни Великого Инквизитора у калитки в сад.
Выражение «опуститься на самое дно» ничего не значит. Оно вовсе не значит дно отчаяния, ненависти, алкогольного упадка, горделивого одиночества. Слишком красивый образ ныряльщика, сильно отталкивающегося ногой и всплывающего на поверхность, может – если потребуется – напомнить тебе, что павший имеет право на все почести: Божественное милосердие осеняет его точно так же, как небожителей, которым Он дает пищу. Грешники, как и ныряльщики, призваны для отпущения грехов.
Но никакая блуждающая «Рахиль» не подбирала тебя с чудом сохранившегося обломка «Пекода» [15]15
«Рахиль» и «Пекод» – названия судов в романе Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит» (1851).
[Закрыть]для того, чтобы ты, еще один сирота, в свою очередь смог свидетельствовать.
Твоя мать не зашивала твою одежду. Ты не собираешься в тысячный раз поверять опыт реальностью, ты не берешься выковывать в кузнице своей души так и не сформированное сознание своей расы.
Никакой античный пращур, никакой античный ремесленник не поможет тебе сегодня, как не поможет тебе никогда.
Ты ничему не научился и понял лишь то, что одиночество и безразличие ничему не учат: это было обманом, чарующей и увлекающей в ловушку иллюзией. Ты был одинок, вот и все, и ты хотел защититься; ты хотел, чтобы между миром и тобой все пути были отрезаны. Но ты – такая малость, а мир – такое громкое слово: все это время ты лишь бродил по большому городу, проходил километры вдоль фасадов, витрин, парков и набережных.
Безразличие бесполезно. Ты можешь хотеть или не хотеть, это не важно! Играть или не играть в электрический бильярд; все равно кто-то просунет монетку в двадцать сантимов в щель автомата. Ты можешь верить, что, поглощая каждый день одну и ту же пищу, ты совершаешь решительный поступок. Но твой отказ бесполезен. Твоя нейтральность ничего не значит. Твоя инертность так же тщетна, как и твой гнев.
Ты думаешь, что безразлично проходишь вдоль проспектов, плывешь по течению внутри города, бредешь вслед толпе, прерываешь игру теней и трещин.
Но ничего не произошло: никакого чуда, никакого взрыва.
Каждый, в свою очередь, отжитый день лишь еще больше разъедал твое терпение, лишь еще больнее обнажал лживость твоих смехотворных усилий. Чтобы что-то произошло, время должно было бы остановиться окончательно, но ни у кого нет сил бороться со временем. Ты мог мошенничать, выигрывать какие-то крохи, секунды: но колокола Сен-Рок, смена огней светофора на углу улиц Пирамид и Сент-Оноре, ожидаемое падение капли воды из крана в коридоре никогда не переставали отмерять часы, минуты, дни и времена года. Ты мог делать вид, что забыл о времени, ты мог бродить ночью, спать днем. Ты так никогда и не сумел обмануть его по-настоящему.
Долгое время ты строил и разрушал свои убежища: порядок или бездействие, движение по течению или сон, ночные обходы, пустые мгновения, ускользание тени и света. Вероятно, ты смог бы еще долго продолжать себе лгать, себя обманывать, себя отуплять. Но окончена игра, большой праздник, мнимое опьянение зависшей жизни. Мир не сдвинулся, и ты не изменился. Безразличие не сделало тебя другим.
Ты не умер. Ты не сошел с ума.
На твоих глазах не происходили катастрофы, они тебя миновали. Возможно, для твоего спасения было бы достаточно самого мелкого бедствия: ты рисковал бы все потерять, тебе следовало бы что-то защищать, говорить какие-то слова, чтобы убедить или растрогать. Но ты даже не болен. Твои ночи и твои дни вне опасности. Твои глаза видят, твоя рука не дрожит, у тебя ровный пульс, у тебя бьется сердце. Если бы ты был уродливым, возможно, твое уродство было бы завораживающим, но ты даже не уродлив, ты не горбун и не заика, ты не однорукий, не безногий и даже не хромой.
Никакое проклятие не тяготеет на твоих плечах. Быть может, ты и чудовище, но чудовище не из Ада. Тебе не надо извиваться, выть. Тебя не ожидает никакое испытание, никакая скала Сизифа, тебе не протянут, чтобы тотчас отобрать, полную чашу; никакой ворон не зарится на твои глазные яблоки, никакому коршуну не предписана повинность клевать утром, днем и вечером твою неудобоваримую печень. Тебе нечего простираться перед судьями, взывая к жалости, умоляя о помиловании. Никто тебя не осуждает, ты не совершил проступка. Никто, взглянув на тебя, не отворачивается в ужасе.
Время, которое следит за всем, нашло решение, несмотря на тебя.
Время, которое знает ответ, продолжало течь.
В какой-то день, подобный этому, чуть позже, чуть раньше, все начинается сначала, все начинается, все продолжается.
Не уподобляйся тем, кто грезит наяву.
Посмотри! Посмотри на них. Вот они, тысячи и тысячи молчаливых часовых, неподвижных землян; они замерли вдоль берегов и набережных, вдоль залитых дождем тротуаров на площади Клиши, они погружены в океанические грезы, они ожидают водяную пыль, бушующие приливы, хриплый клич морских птиц.
Нет. Ты не анонимный властелин мира, против которого история была бессильна, кто не чувствовал, как идет дождь, кто не видел, как наступает ночь. Ты уже не тот, кто был недоступным, ясным, прозрачным. Ты боишься, ты ждешь. Стоя на площади Клиши, ты ждешь, когда закончится дождь.








