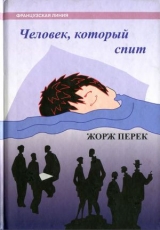
Текст книги "Человек, который спит"
Автор книги: Жорж Перек
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Человек, который спит
Посвящается Полетте
In memoriam J. P.
Тебе не надо выходить из дому. Оставайся за своим столом и слушай. Даже не слушай, только жди. Даже не жди, просто молчи и будь в одиночестве. Вселенная сама начнет напрашиваться на разоблачение, она не может иначе, она будет упоенно корчиться перед тобой. [1]1
Перевод С. Апта. Ф. Кафка. «Размышления об истинном пути» // «Замок. Афоризмы. Письма Милене. Завещание». СПб, 1999, стр. 327 (Здесь и далее примечания переводчика).
[Закрыть]ФРАНЦ КАФКА, «Размышления о грехе, страдании, надежде и истинном пути»
Стоит тебе закрыть глаза, как начинаются приключения сна. Через какое-то время, на смену знакомому полумраку комнаты, – темному объему, разбитому на отдельные детали, где твоя память без труда узнает многократно исхоженные тобою пути, прочерчивая их от мутного квадрата окна, воссоздавая раковину по отблеску, а этажерку – по чуть бледноватому корешку книги, выделяя более темную массу висящей одежды, – приходит двумерное пространство подобное картине без четких границ, что образуется под очень острым углом к линии твоих глаз, словно ее почти перпендикулярно поставили на косточку твоего носа, причем картине, которая сначала может казаться тебе однообразно серой или, скорее, нейтральной, бесцветной и бесформенной, но затем довольно быстро оказывается обладательницей по меньшей мере двух свойств: во-первых, она становится более или менее темной в зависимости от того, как сильно ты сжимаешь веки, или, точнее, как если бы при закрытых глазах давление на линию твоих бровей изменяло наклон плоскости по отношению к твоему телу, как если бы линия твоих бровей оказывалась на их стыке, и, следовательно, – хотя доказать это следствие можно лишь его очевидностью, – изменяло качество, то есть плотность темноты, которую ты замечаешь; во-вторых, поверхность этого пространства совершенно неправильна, точнее, расположение, распределение сумрачности происходит неравномерно: верхняя зона – явно темнее, нижняя зона, кажущаяся тебе ближе, – хотя теперь уже очевидно, что понятия «близко» и «далеко», «наверху» и «внизу», «спереди» и «сзади» напрочь утратили точность определения, – с одной стороны, выглядит намного серее, то есть ненамного нейтральнее, как тебе казалось вначале, а именно намного белее, а с другой стороны, содержит или поддерживает некие подобия мешочков или капсул (приблизительно так ты представляешь себе слезные железы) с тонкими и реснитчатыми краями, внутри которых дрожат, трясутся и скручиваются белые-пребелые проблески, иногда очень маленькие, словно тончайшие полоски, иногда довольно крупные, почти жирные, словно червяки. Эти проблески – хотя термин «проблеск» к ним совсем не подходит – обладают любопытной особенностью ускользать от взгляда. Стоит лишь задержать на них внимание – не делать это почти невозможно, так как они танцуют перед твоими глазами, а все остальное едва существует, поскольку на самом деле по-настоящему различаются лишь стык твоих бровей да с трудом воспринимаемое расплывчатое двумерное пространство, где неравномерно растекается мрак, – итак, стоит лишь всмотреться – хотя, разумеется, это слово отныне уже ничто не означает, – стоит лишь попробовать приблизительно определить их форму, фактуру или какую-нибудь отличительную черту, как сразу же – можешь не сомневаться – окажешься с открытыми глазами напротив окна, мутного прямоугольника, вновь ставшего квадратным и ничуть не похожим на тот или те мешочки. Впрочем, через некоторое время после того, как ты снова закрыл глаза, они – а вместе с ними и слегка скошенное пространство, закрепленное на твоих бровях, – появляются вновь, и, похоже, никак не изменившись с прошлого раза. Однако и в этом ты не можешь быть окончательно уверен, так как по истечении с трудом определяемого времени – хотя пока еще ничто не позволяет тебе убедиться в их действительном исчезновении – ты уже можешь отметить, что они стали значительно бледнее. Отныне ты имеешь дело с неким подобием полосатой серости, которая по-прежнему принадлежит все тому же пространству, кое-как продлевающему плоскость твоих ресниц, но, похоже, деформированному так, что оно постоянно заваливается влево; ты можешь его разглядывать, изучать, не нарушая всей картины, не вызывая немедленного пробуждения, но это не представляет никакого интереса. Если что-то и проявляется, то справа, а именно доска полки, более или менее сзади, более или менее сверху, более или менее справа.
Разумеется, сама полка не видна. Ты только знаешь, что она твердая, хотя ты лежишь не на ней, а как раз на чем-то очень мягком: а именно на своем собственном теле. И тут происходит совершенно удивительное явление; вначале пред тобою оказываются три пространства, которые никак невозможно спутать: твое мягкое, горизонтальное и белое тело-постель, затем серое, тусклое скошенное пространство, направляемое линией твоих бровей, и, наконец, неподвижная и очень твердая сверху, параллельная тебе и, вероятно, доступная твоей руке полка. На самом деле ясно – даже если ясно только это, – что если ты перебираешься на полку, то это тебе снится, а сама полка – всего лишь сон. Принцип операции невероятно прост, хотя все свидетельствует о том, что на это тебе понадобится немало времени: следовало бы собрать постель-тело так, чтобы оно превратилось в точку, в шар, либо – что, в принципе, то же самое – уменьшить вялость тела, сконцентрировать его где-нибудь, например, в поясничном позвонке. Но в этот момент тело уже не представляет совершенной цельности, которой обладало только что; оно фактически растекается во все стороны. Ты задумываешь подтянуть к центру ступню, ладонь или колено, но каждый раз забываешь одно и то же правило: никогда нельзя упускать из виду твердость полки; следовало действовать хитрее, подтягивать тело так, чтобы оно ни о чем не подозревало, чтобы ты сам не знал об этом наверняка, но теперь уже поздно, в который уже раз слишком поздно, и вот – эффект и впрямь любопытен – линия твоих бровей разламывается надвое, а по центру, между твоими глазами, как если бы всю конструкцию удерживал стык и вся его сила концентрировалась в этой точке, внезапно возникает точная, определенно осознанная резь, в которой ты сразу узнаешь самую обычную головную боль.
Голый по пояс, в пижаме, ты сидишь в своей каморке на узкой кушетке, которая служит тебе кроватью, а у тебя на коленях – книга Рэймона Арона «Об индустриальном обществе», открытая на странице сто двенадцать.
Все начинается с некоей томности, усталости, как если бы ты внезапно осознал, что уже долгое время, в течение многих часов ты – жертва скрытого сковывающего, пусть почти неболезненного, однако невыносимого недомогания, и почувствовал вялое и приторное ощущение, что ты – существо без мышц и костей, что ты – мешок с гипсом среди других мешков с гипсом.
Солнце жарит по цинковым листам крыши. Напротив тебя, на уровне твоих глаз, на белой деревянной этажерке – грязная чашка с недопитым растворимым кофе «Нескафе», коробка с заканчивающимся сахаром и дымящаяся сигарета в рекламной пепельнице из белесой пластмассы, имитирующей опал.
В соседней комнате кто-то ходит, кашляет, шаркает ногами, передвигает мебель, выдвигает ящики. В коридоре из водопроводного крана капает вода. Издали, снизу, доносятся звуки улицы Сент-Оноре.
На колокольне Сен-Рок пробило два часа. Ты поднимаешь глаза, прерываешь чтение, хотя на самом деле уже давно не читаешь. Ты кладешь раскрытую книгу рядом, на кушетку. Протягиваешь руку, тушишь дымящуюся в пепельнице сигарету, допиваешь остатки «Нескафе»: кофе едва теплый, слишком сладкий, чуть горьковатый.
Ты вспотел. Ты встаешь, подходишь к окну и закрываешь его. Отворачиваешь кран над маленькой раковиной, проводишь банной рукавицей по лбу, затылку, плечам. Ложишься боком на узкую кушетку, согнув руки и ноги. Закрываешь глаза. Твоя голова тяжелеет, ноги затекают.
Позже наступает день твоего экзамена, но ты не встаешь. Это не умышленный поступок, впрочем, это вообще не поступок, а отсутствие поступка, поступок, который ты не делаешь, один из тех поступков, делать которые ты избегаешь. Накануне ты лег рано, твой сон был спокоен, ты завел будильник, ты услышал, как он зазвонил, ты дождался, пока он отзвонит как минимум несколько минут, ты уже проснулся от жары или от света, от шума молочников или дворников, а может, от ожидания.
Твой будильник звонит, но ты даже не шевелишься и продолжаешь лежать в кровати, ты закрываешь глаза. В соседних комнатах начинают звонить другие будильники. Ты слышишь, как льется вода, закрываются двери, раздаются торопливые шаги на лестнице. Улица Сент-Оноре начинает заполняться ревом моторов, скрипом шин, скрежетом коробок передач, короче, предупредительными сигналами. Хлопая, раскрываются ставни в квартирах, поднимаются железные шторы в магазинах.
Ты не двигаешься. Ты не двинешься с места. Возможно, кто-то другой, твой двойник, твой призрачный педантичный заместитель выполняет за тебя, одно за другим, действия, которые ты перестал выполнять: он встает, умывается, бреется, одевается, выходит. Ты уступаешь ему право промчаться по лестнице, пробежать по улице, запрыгнуть в отъезжающий автобус и в указанный час, на последнем дыхании, торжествуя, подойти к дверям аудитории. Аттестат о высшем образовании по специальности «общая социология». Первый тур, письменный экзамен.
Ты встаешь слишком поздно. Где-то там старательные или скучающие студенты задумчиво склоняют головы к партам. Возможно, обеспокоенные взгляды твоих друзей сходятся на твоем незанятом месте. Ты не напишешь на четырех, восьми или двенадцати страницах то, что знаешь, то, что думаешь, то, что – как ты знаешь – следует думать об отчуждении, рабочих, современности и досуге, о служащих и автоматизации, о познании другого, о Марксе – сопернике Токвилля, о Вебере – противнике Лукача. В любом случае ты бы ничего не написал, так как ты мало что знаешь и ни о чем не думаешь. Твое место остается пустым. Ты не получишь свой аттестат, ты никогда не начнешь дипломную работу. Ты больше не будешь учиться.
Как обычно, ты растворяешь в чашке «Нескафе», как обычно, ты добавляешь в него несколько капель сгущенного молока. Ты не моешься, ты почти всегда раздет. В розовом пластмассовом тазу ты замачиваешь три пары носков.
Ты не подходишь к экзаменационной аудитории, чтобы узнать, какие темы были предложены проницательным студентам. Ты не идешь в кафе, куда по установленному обычаю предписывалось заходить в другие дни, но особенно в этот – день исключительной важности, – увидеться с друзьями. На следующее утро один из них поднимется на шестой этаж, где находится твоя комната. Ты узнаешь его шаги на лестнице. Ты не отзовешься, когда он постучит в твою дверь, подождет, постучит еще раз, посильнее, поищет за наличником ключ, который ты часто оставлял, выскакивая за хлебом, кофе, сигаретами, газетой или корреспонденцией, подождет еще, слабо постучит, тихо позовет, постоит в нерешительности и тяжело спустится.
Потом он придет еще раз и просунет под дверь записку. После него на следующий день, через день придут другие, они будут стучать, искать ключ, звать, просовывать записки.
Ты читаешь и комкаешь их записки. В них тебе назначают встречи, на которые ты не идешь. Ты продолжаешь лежать на узкой кушетке, заложив руки за голову и согнув колени. Ты смотришь на потолок и обнаруживаешь трещины, шелушащуюся штукатурку, пятна, неровности. Тебе не хочется никого видеть, ни с кем говорить, не хочется ни думать, ни выходить, ни двигаться.
В какой-то день, подобный этому, чуть позже, чуть раньше, ты без удивления обнаруживаешь, что что-то не так; что, честно говоря, ты не умеешь и никогда не научишься жить.
Солнце жарит по листовому железу крыши. Жара в твоей каморке невыносима. Ты сидишь, втиснувшись между кушеткой и этажеркой, а у тебя на коленях – раскрытая книга. Ты уже давно не читаешь. Твой взгляд прикован к белой деревянной этажерке, к розовому пластмассовому тазу, в котором мокнут шесть носков. Дым забытой сигареты поднимается прямо или почти прямо, стелется зыбкой пеленой под потолком, размеченным крохотными трещинами.
Что-то постепенно давало трещину, что-то вдруг треснуло. Ты уже не чувствуешь себя – как бы это сказать? – удерживаемым: то, что – как тебе казалось, как тебе кажется – до сих пор укрепляло тебя, согревало тебе сердце – осознание твоего существования, понимание твоей чуть ли не значимости, чувство причастности, ощущение погруженности в мир, – начинает тебя покидать.
Однако ты не из тех, кто бессонными ночами вопрошают себя, как и ради чего они существуют, откуда они взялись, кто они такие и куда их несет. Ты никогда серьезно не задумывался о первоочередности яйца или курицы. Метафизические переживания не оставляли глубоких следов на твоем благородном челе. Ничего не осталось и от той стремительной траектории, от того движения вперед, где тебе постоянно предлагалось признавать свою жизнь, то есть осознавать ее смысл, ее правильность, ее напряженный ритм: щедрое на плодотворный опыт и прилежно усвоенные уроки, на искрящиеся детские воспоминания и буйный восторг от раздолья полей и свежести морского ветра прошлое; плотное, компактное, сжатое, словно пружина, настоящее; радушное, нарисованное из воздушной лазури будущее. Все смешалось: твое прошлое, твое настоящее, твое будущее; отныне есть лишь тяжесть твоего тела, скрытая мигрень, томность, духота, горечь и остывание «Нескафе». И если для представления твоей жизни понадобится какая-нибудь декорация, то ею окажется не величественная эспланада (как правило, впечатляющая иллюзией перспективы), где резвятся и взмывают в воздух торжествующие пухлощекие отпрыски человечества, а всего лишь – какие бы усилия ты ни предпринимал и какими бы иллюзиями себя ни тешил – эта зауженная кишка, которая служит тебе комнатой; этот скошенный чердак – длиной в два метра девяносто два сантиметра, шириной в метр семьдесят три, то есть площадью чуть больше пяти квадратных метров; эта мансарда, в которой ты не двигаешься в течение уже многих часов, многих дней. Ты сидишь на кушетке, слишком короткой, чтобы ночью вытянуться во всю длину, слишком узкой, чтобы свободно повернуться; ты смотришь теперь уже почти завороженным взглядом на розовый пластмассовый таз, который хранит все те же три, и никак не меньше, пары замоченных носков.
Ты по-прежнему сидишь в своей комнате, ты не ешь, не читаешь, почти не двигаешься. Ты смотришь на таз, на этажерку, на свои колени, на свой взгляд в расколотом зеркале, на чашку и выключатель. Ты слушаешь шум улицы, воду, капающую из крана на лестнице, звуки, доносящиеся из комнаты соседа, его фырканье, скрип выдвигаемых и задвигаемых ящиков, приступы кашля, свист чайника. Ты следишь за неровной линией тонкой трещины на потолке, за бесполезным полетом мухи, за почти уловимым движением теней.
Это и есть твоя жизнь. Это – твое. Ты можешь точно подсчитать свое жалкое имущество, четко подытожить свою первую четверть века. Тебе двадцать пять лет, у тебя двадцать девять зубов, три рубашки и восемь носков, несколько книг, которые ты уже не читаешь, несколько пластинок, которые ты уже не слушаешь. Тебе не хочется вспоминать о чем-то другом, о семье, учебе, любовных увлечениях, друзьях, каникулах, планах на будущее. Ты путешествовал и ничего не вынес из своих путешествий. Ты сидишь, и тебе хочется только ждать, ждать лишь того момента, когда ждать будет уже нечего: пусть придет ночь, пробьют часы, пролетят дни, сотрутся воспоминания.
Ты не видишься с друзьями. Не открываешь свою дверь. Не спускаешься проверить почтовый ящик. Не возвращаешь книги, которые брал в библиотеке педагогического института. Не пишешь родителям.
Ты выходишь из дому лишь с наступлением вечера, как выходят крысы, кошки и чудовища. Ты бродишь по улицам, заходишь в маленькие грязные кинозалы на Больших бульварах. Иногда ты бродишь всю ночь, иногда спишь весь день.
Ты – бездельник, лунатик, устрица. В зависимости от времени суток, от дней недели определения варьируются, но смысл остается почти таким же простым: ты чувствуешь себя непригодным для того, чтобы жить, действовать, вершить; тебе хочется лишь длиться, тебе не хочется ничего кроме ожидания и забвения.
Как правило, современная жизнь не очень одобряет подобную позицию: ты всегда замечал, как вокруг тебя приветствовали энтузиазм, активность, великие проекты: примером всегда был человек, смотрящий вперед, человек, глядящий за горизонт, человек, устремленный в завтрашний день. Ясный взор, волевой подбородок, уверенная поступь, втянутый живот. Целеустремленность, инициативность, находчивость, триумфальный успех прочерчивают чересчур ясный путь чересчур образцовой жизни, рисуют свято-пресвято чтимые образы победителя в борьбе за выживание.
Благоговейная ложь, которая убаюкивала того, кто замешкался и завяз, потерянные иллюзии того, кто оказался лишним и невостребованным, кто пришел слишком поздно, кто поставил на тротуар свой чемодан и сел на него, чтобы утереть пот со лба. Но тебе уже не нужны извинения, сожаления и печальные воспоминания. Ты уже ничего не отбрасываешь и ни от чего не отказываешься. Ты уже не идешь вперед, хотя на самом деле вперед ты никогда не шел, ты не трогаешься с места, ты уже прибыл, ты не понимаешь, ради чего идти дальше. В один из чересчур жарких майских дней текст, в котором ты потерял нить, растворимый кофе, у которого оказался слишком горький привкус, розовый пластмассовый таз с почерневшей водой и шестью плавающими носками вдруг несуразно совпали; этого оказалось достаточно или почти достаточно для того, чтобы что-то раскололось, разломалось, разладилось, и при ярком дневном свете – хотя в каморке на улице Сент-Оноре даже днем не бывает светло – явилась эта обескураживающая, грустная, глупая, как ослиный колпак, и довлеющая, как словарь Гаффио, истина: у тебя нет никакого желания преследовать, защищаться и нападать.
Твои друзья потеряли терпение и уже не стучат в твою дверь. Ты уже не ходишь по улицам, где они могут тебе повстречаться. Ты избегаешь вопросов и взглядов того, кто случайно оказывается на твоем пути, ты отказываешься от предложений выпить по кружке пива или по чашке кофе. Тебя защищают лишь ночь и твоя комната: комната с узкой кушеткой, на которой ты продолжаешь лежать, с потолком, на котором ты каждую секунду обнаруживаешь что-то новое; ночь, когда в одиночестве, среди толпы на Больших бульварах, тебе случается ощутить себя как будто счастливым от шума и света, от движения, от забытья. От тебя не требуются слова, желания. Ты следуешь за потоком, который движется туда и обратно, от площади Республики к площади Мадлен, от площади Мадлен к площади Республики.
У тебя нет ни привычки, ни желания ставить диагнозы. Тебя смущает, волнует, пугает порой, возбуждает не внезапность перемены, а как раз наоборот, тяжелое и смутное ощущение, что это – не перемена, что ничто не изменилось, что ты был таким всегда, даже если понял это только сегодня: в твоем расколотом зеркале – не новое лицо; просто спали маски, они расплавились от духоты, расклеились от оцепенения. Маски правильного пути и красивой уверенности. Неужели все эти двадцать пять лет ты ничего не знал о том, что сегодня оказывается уже необратимым? Неужели в том, что занимает место твоей истории, ты никогда не видел пробелов? Промежутки мертвого времени, пустые проходы. Резкое и мучительное желание больше не слышать, не видеть, оставаться безмолвным и неподвижным. Безумные грезы одиночества. Потерявший память и блуждающий в Стране Слепых: пустые и широкие улицы, холодный свет, молчаливые лица, по которым скользил бы твой взгляд. Ты представляешь себя навечно неуязвимым.
Как если бы за твоей спокойной и надежной историей послушного ребенка, прилежного ученика и славного товарища, за очевидными, слишком очевидными признаками роста и созревания – карандашными отметками на косяке двери в туалетную комнату, дипломами, длинными брюками, первыми сигаретами, раздражением от бритья, потреблением алкоголя, ключом под ковриком после субботних вечеринок, потерей невинности, первым полетом, первым боем – с самого начала тянулась другая, постоянно присутствующая и недосягаемая нить, которая отныне сплетает привычную сеть твоей вновь обретенной жизни, сшивает пустые декорации твоей утраченной жизни, мелькающие воспоминания, тонкие штрихи этой явной правды, этой чересчур затянувшейся отставки, этого призыва к покою, инертные и размытые образы, засвеченные, почти белые, почти мертвые, почти окаменелые фотографии: какая-то провинциальная улица, закрытые ставни, матовые тени, жужжащие мухи в военной комендатуре, гостиная с мебелью под серыми чехлами, зависшая в луче света пыль, плешивые поля, воскресные кладбища, автомобильные поездки.
В один из четвергов, пополудни человек с отсутствующим взглядом сидит на узкой кушетке, а на его коленях лежит раскрытая книга.
Ты – всего лишь мутная тень, твердый сгусток безразличия, безликий взгляд, избегающий других взглядов. Немыми губами, потухшим взором отныне ты сможешь ловить в лужах, на стеклах и блестящих крыльях автомобилей беглые отражения твоей замедленной жизни.
Твоя рука равнодушно скользит вдоль белой деревянной этажерки. Из крана в коридоре капает вода. Твой сосед спит. Слабое тарахтение дизельного мотора такси на стоянке не нарушает, а скорее подчеркивает тишину улицы. Забытье проникает в твою память. Ничто не произошло. И ничто уже не произойдет. Трещины на потолке вырисовывают сомнительный лабиринт.
Пустые дни, духота в твоей комнате, как в духовке, как в печке, и шесть носков – вялые акулы, сонные киты – в розовом пластмассовом тазу. Будильник, который не звенел, не звенит и не будет звенеть в установленное время для того, чтобы тебя разбудить. Ты кладешь раскрытую книгу рядом, на кушетку. Ты ложишься. Все вокруг – тяжесть, шум, оцепенение. Ты скользишь. Ты погружаешься в сон.








