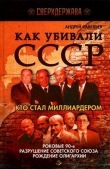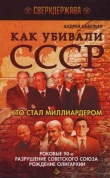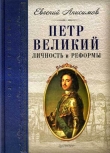Текст книги "Власть без мозгов. Отделение науки от государства"
Автор книги: Жорес Алферов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
РГ: – Со второго квартала начинается пилотный проект по переводу РАН на отраслевую систему оплаты труда. Институты готовы к этому?
Алферов: – Не знаю, поживем – увидим. С точки зрения оплаты труда проблем вообще много. В программе реформирования написано, что научный работник к 2008 году должен получить 30 тысяч рублей, молодой исследователь – 15-20 тысяч, вспомогательный персонал – 12 тысяч. Такая большая разница между научным и вспомогательным персоналом для нашего института, к примеру, где во вспомогательный персонал входят люди, обслуживающие сложнейшие приборы и установки (инженеры высокой квалификации), совершенно неприемлема. Ведь от их работы результаты зависят, зачастую, не меньше, чем от ученых.
РГ: – Некоторые чиновники министерства образования считают, что если дать 1000 долларов зарплаты, то все проблемы будут решены. Но ведь значительное число наших ученых живет последние годы за счет иностранных заказов и поездок в западные университеты для чтения курсов. И что, их тысяча долларов устроит, и они начнут работать только здесь?
Алферов: – Опять-таки, дело не только в зарплате. Чтобы молодежь не уезжала за рубеж, им нужно предоставить современное оборудование для работы. И должен быть спрос на исследования. Моя лаборатория в ФТИ – одна из самых молодых (средний возраст – 31 год). Но мы живем в основном на зарубежные гранты и контракты. И ряд моих талантливых учеников работает за границей. Я спросил одного: «Почему»? Он говорит: «Я на нашей установке могу сделать все то же самое, но за месяц, а в Германии – за два часа».
РГ: – Ученые-отраслевики говорили мне, что есть целые направления в науке, которые мы уже потеряли из-за того, что все специалисты уехали. А в академическом секторе?
Алферов: – Нет, нам как-то удалось сохранить многие научные школы. Правда, ведущие представители некоторых школ – очень пожилые люди. Но пока у нас в стране остается неплохое образование, мы можем восстановить даже те направления исследований, которыми сейчас никто не занимается.
РГ: – А разве образование у нас все еще неплохое? Последние данные не обнадеживают.
Алферов: – Да, нет, у меня впечатление, что за последние годы сильно прибавили наши провинциальные технические университеты. Там много талантливых ребят. Похоже, местные власти оказывают им повышенное внимание. Да и у нас есть такие студенты, что могли бы вполне претендовать на то, чтобы в будущем стать нобелевскими лауреатами. Но сегодня многие идут к нам для того, чтобы получить диплом об окончании физико-технического факультета и аспирантуры в ФТИ – и уехать на Запад.
РГ: – Вы – сторонник развития альтернативных источников энергии. Но некоторые эксперты считают, что на ее долю не может приходиться более 5 – 7 процентов.
Алферов: – Это, смотря на какой срок считать. Если не произойдет никакой технической революции, то к 2030 году, действительно, будет около 5 процентов. Но 5 процентов – это 150 гигаватт. А суммарная мощность энергетики нынешней России – 140 гигаватт.
Есть и другие оценки. Англичане считают, что к 2020 году 15 процентов электроэнергии на островах будут давать альтернативные источники. Я считаю, человечеству никуда не деться от того, чтобы основным источником энергии было Солнце. Нефть и газ закончатся, а солнечная энергия будет дешеветь. За последние тридцать лет один ватт ее от солнечных батарей стал стоить меньше в 33 раза. КПД солнечных батарей в лабораториях – 35 процентов, а через 10 лет будет 45 процентов. И мы уже сегодня знаем, как это сделать.
Знаем, но, к сожалению, мало что делаем, чтобы использовать свои знания. Пример: 80 процентов коммерческих спутников связи (а их запускается сотни) имеют солнечные батареи на полупроводниковых гетероструктурах. Мои солнечные батареи. Когда американцы только публиковали первые статьи по этой теме, у нас уже было производство. И готовые батареи стояли на военных спутниках. Сегодня у нас этого производства нет. В свое время государство пожалело денег на современное оборудование. И батареи нужно покупать за рубежом. Хотя, лаборатория в нашем институте существует и получает солидные заказы на исследования из Европы и Америки. А если бы мы сохранили и развили собственное производство?
РГ: – Если бы Вы стали министром науки, каков был бы ваш первый приказ?
Алферов: – Я бы в министры не пошел. Как говорил при аналогичном предложении один друг моего отца, предпочитаю постоянную работу.
2006 г.
Утечка мозгов продолжается
Интервью Ж.И. Алферова газете «Аргументы и факты»
В России любят говорить, либо о прошлом, либо о будущем. А какое оно– настоящее? И что надо оставить в прошлом, чтоб не испортить судьбу своих детей? Об этом «АиФ» спросил у одного из авторитетнейших ученых мира, нобелевского лауреата, вице-президента РАН, депутата ГД Жореса Алферова.
– Вы убеждены в том, что: «Россия – страна оптимистов, потому что все пессимисты уехали». Когда началось это деление на оптимистов и пессимистов?
– Когда начался массовый отток наших специалистов. Показательный случай: американский Институт физики присылает мне лимузин с шофёром. Им оказывается инженер завода, производившего ракеты – уехал в начале 90-х и уже много лет работает шофёром в Нью-Йорке.
– Сколько предлагали, чтоб вы уехали из России?
– Первое приглашение от американцев я получил в 1971 г. Через несколько лет после этого разговора я встретил ученого, которому сам же помог уехать, он сказал: «За два года в США я заработал денег больше, чем за всю предыдущую жизнь. Но сделал гораздо меньше, чем за это же время у себя дома. Такой замечательной творческой атмосферы, стимулирующей к работе, какая была у нас в родном
Физтехе, в американских университетах нет». Если бы мы сохранили Советский Союз с его основными принципами, то очень может быть, что этот бы ученый вернулся. Но наука у нас не могла развиваться, поскольку так называемые реформы проводились теми, кто ни-че-го не понимал в науке и считал, что в НИИ – сплошь бездельники, пьющие целыми днями чай и кофе.
– А почему вы даже в Москву не переехали?
– Я в столице и так провожу много времени. А живу в Санкт-Петербурге, потому что там мое дело, Научно-образовательный центр, Фонд поддержки молодёжи. Правда, фонд-то у меня – «полтора» человека. Поддерживаем его, как можем: платим стипендии школьникам, студентам, аспирантам, вдовам членов питерских академиков. Я его создал за свою Нобелевскую премию. Поначалу «подбил» одного мецената, другого. А сейчас бизнес жалеет деньги на такие проекты.
– «Утечка» мозгов продолжается. Но, говорят, начался и процесс их возврата...
– Это не возврат в полном смысле. Просто у ребят, которые за рубежом создали небольшие научные компании, появилась возможность развивать здесь свой бизнес.
– Сотрудников «Роснано» отправляли за рубеж в поисках готовых нанопроектов. При этом внутри страны на вопрос: «Какие вам нужны нанотехнологии?» – главы предприятий чаще отвечали: «Не знаем». У нас руководители предприятий малограмотные или огромные суммы «влили» в никому не нужное «нано»?
– Действительно, искали проекты, которые могут принести пользу. Но для того, чтобы возродить в России промышленность высоких технологий, нужно, прежде всего, поддерживать научные исследования в своей стране. А они хотели сразу получать коммерческий эффект.
За нанотехнологиями, безусловно, будущее. Это сочетание высокой науки с ультравысокой технологической культурой. Пример? Лазерная указка. Вы пользуетесь ею, например, когда снимаете информацию с компакт-диска, слушаете музыку или смотрите DVD. В ней стоит маленький лазер, чью основу мы придумали еще в 68-м году. Но сейчас эта основа имеет толщину всего лишь в пару сотен ангстрем (мельчайшая единица измерения, Ред.)
Нанометр это миллиардная доля метра. Использование таких размеров в медицинской аппаратуре означает прорыв в той же хирургии. В быту – нано – это освещение. В Китае к 2015 г. 30% освещения будет основано на нанотехнологиях. Это позволит им не менять лампочки -такой огромный срок службы. На подходе – следующее поколение, а наши вдруг издали закон о том, чтобы запретить лампы накаливания в пользу люминесцентных – со ртутью.
Несмотря на то, что отечественное «нано» «родила» Российская Академия Наук (РАН), из 16 млрд. руб. капвложений в наноиндустрию ей выделили лишь около 3%. Знаете, как выживает сегодня наука? В очень многих институтах сдают в аренду помещения. «Если говорят, что во время кризиса нужно сокращать финансирование науки, не верьте -только наука нас и выведет из кризиса». Предлагаю задуматься над этими словами Б. Обамы, которые он произнес на общем собрании Национальной Академии наук США.
– Есть РАН, у которой есть мозги и опыт, есть ГК «Роснано», у которой есть деньги. Может, их просто соединить и не изобретать велосипед?
– Они подписали соглашение о сотрудничестве. Но это ничего не значит – никаких реальных достижений в результате не последовало. Так, что ситуация действительно напоминает изобретение велосипеда. Например, Обама не указывал – в какие области науки надо вкладывать больше, в какие меньше – он понимает, что в науке не является авторитетом. В речи было сказано, что нужно стимулировать бизнес к вложениям средств в научные исследования с помощью налоговых льгот. А у нас называются конкретные «адреса», в которые вкладываются немалые суммы, а понимания того, как нужно организовать научный процесс в целом, похоже, еще нет.
Безусловно, огромный урон науке и России в целом нанес развал СССР. Подсчитано, что ВВП РФ сразу упал на 31%, Украины на 69%,
Белоруссии на 96% (поскольку она была сборочным цехом Союза). Если сегодня США разрезать на 15 независимых и далеко недружелюбных государств, то эта первая в мире экономика моментально развалится.
И у России до сих пор есть сильный тормозящий фактор в виде страха. Стремление угодить начальству стало уже болезнью. Это было и в царские времена. С этим же была связана и трагедия культа личности. Созданный мною Университет 5 лет существовал только на бумаге. А какая-то начальница департамента в Минфине мне говорила: простите академик, вы должны заниматься наукой. Поэтому на образование денег вам давать не будем. Еще замминистры писали мне всякую чушь. Но я знаю, что нужно делать: заниматься конкретными вещами – в аспирантском, магистерском образовании. Если мы будем делать все только по указке министерства, ничего хорошего не получим.
– Глава страны объявил курс на модернизацию, а министр образования говорит, что у нас востребованы будут слесаря. Как так?
– Я к Сталину могу предъявить кучу претензий. Но в одном он был прав: если в ближайшее окружение в Политбюро он допускал друзей-приятелей, то наркомы и министры у него все были профессионалы. А Фурсенко ни одного занятия со студентами не провел. Так каким он может быть министром образования? Во главе отраслей и предприятий должны стоять только профессионалы. Если бы начальником первого главного управления, которое решало атомную проблему СССР, был какой-нибудь квази-Чубайс того времени, то, возможно, наше государство уже постигла печальная участь.
– А вам не кажется странным, что в госкомиссии по модернизации нет главы РАН?
– Кажется. Как можно проводить модернизацию не на научнотехнологической основе? Для всех научных исследований нужна технологическая база. Когда-то объёмы производства полупроводниковой электроники у нас были третьими после США и Японии. А сегодня Россия и в число 50 не входит. Электронная промышленность СССР была могучей империей – примерно 3 млн. человек, 2 тыс. предприятий, 400 институтов.
Причем исследования проводились в сложных условиях. Была такая комиссия, которой могло показаться, что с помощью нового иностранного научного оборудования академик Алфёров может сделать что-то нехорошее для обороны страны, и эту машину Алфёрову не продавали. Поэтому мы были вынуждены всё изобретать сами. А сегодня, хоть и не ко всем, но мы допущены к мировым достижениям. И в этом – большой плюс.
– Но денег нет – это минус.
– Дело не в деньгах. Крайне небольшое количество организаций в стране способно разумным способом эти деньги употребить. Одно дело, когда была развита и академическая и отраслевая наука, и другое, когда отраслевой почти нет. Самое печальное – это невостребованность научных результатов. В наших лабораториях были разработаны принципиально новые лазеры, создан ещё целый ряд новых материалов, но. промышленности нет, и наши результаты применяются лишь на Западе.
– Но хотя бы патенты принадлежат России?
– Моё дело – сделать открытие и отдать его человечеству. Учёные публикуют результаты своего труда, создавая новую научную идеологию. А патенты – это дело отраслевых компаний.
– Такая щедрость присуща только российским учёным?
– Почему? Всем. Принцип работы транзистора открыли американцы. А мы прочитали их статью и решили, что их нужно производить. Когда я со своими сотрудниками опубликовал в открытой печати результаты открытий в области полупроводников, это не помешало нашей электронной промышленности производить светодиоды, лазеры и солнечные батареи раньше всех.
– Вы каждый год ездите в Китай. Всем известно, что эта страна славится не изобретениями, а подделками. При этом ей прочат большое экономическое будущее. У нее есть шанс, на ваш взгляд?
– У Китая нет газа, нефти; масса своих проблем. Но они молодцы – развивают высокие технологии. К слову, свой начальный научнотехнологический капитал они получили от нас. У меня были китайские аспиранты в 1957 г., очень хорошо работали.
– Мы словно научные доноры для всего мира...
– Это все следствие той политики. Когда в 92-м году бюджет физтеха им. Иоффе, где я проработал 53 года, упал в 20 (!) раз. Но мы умудрились не закрыться – развивали международное сотрудничество. После развала СССР интерес к нам поубавился, мы все равно умудрялись заключать какие-то международные договора, которые и спасли наш институт от краха.
– При институте вы создали первую техническую компанию. Ее оборот достигал порядка 100 тыс. долл. в год. Как решались проблемы с рэкетом?
– Однажды ко мне прибегает растерянный гендиректор: не знаю, что делать – пришли мужики, сказали, что будут нашей «крышей», а мы им должны то-то и то-то. Я говорю: передай им, что «крыша» нам нужна. Но у нас уже есть одна – Литейный просп., 4 (Управление КГБ по Ленинграду и области). Пусть поедут туда и договорятся, как они нас поделят. Больше они не приходили.
– Многие люди вашего поколения «потерялись», а вы не сломались. Подчиняться и приспосабливаться – явно не про вас. Неужели идете напролом?
– Что значит сломаться? Я должен жить, работать, делать, что могу. Напролом ничего не получится. А вот на компромисс я готов. Главное -думать о деле. Милостей я не ждал и в советское время. А сегодня – и подавно. Ученым очень сложно работать, особенно потому что в нашей стране конкурсную систему привели к полному абсурду. Даже появились профессионалы, которые выигрывают массу грантов, и только успевают писать отчеты по ним. А в советское время основной механизм получения дополнительных средств – были постановления ЦК и Совмина по развитию тех или иных отраслей промышленности. Ставилась конкретная задача. А сегодня делят деньги, а не решают проблему.
– Ваши друзья рассказали, что, будучи студентом, вы увидели на Финском заливе академический поселок Комарово. И сказали: «Хочу жить здесь. Нужно стать академиком»...
– И вправду через 30 лет я там поселился и очень доволен. А если серьезно, то мое поколение – первое послевоенное, когда наука и технология были объявлены одним из высших приоритетов страны. Быть ученым считалось не только почетно, но и выгодно. Тогда молодой кандидат наук после защиты диссертации становился старшим научным сотрудником с зарплатой в 3 тыс. руб. – как персональный оклад директора большого завода.
При этом дефицит госбюджета был огромным! Страна лежала в руинах. Но было понято, что наука и технологии – двигатель развития страны. Сейчас не понимают. Разворована богатейшая страна. Если и нужна была приватизация, то сферы обслуживания, а не промышленности.
– Чиновники приняли закон для себя, любимых, о том, что они могут получать субсидию на жилье.
– Чиновники это вообще тихий ужас. Они пробивают законы, по которым сами же получают пенсию 75% или 80% от зарплаты, а остальным красиво объявляют – мы увеличили на 30% базовую часть пенсии. И что с этими грошами делать? Большинство трудового населения в городах получало пенсию 132 рубля – это порядка 15 – 18 тысяч нынешних. Так если вы обвиняете во всем советскую власть, установите такую же пенсию, какая была.
– А у вас противоядие есть против чванливых чинуш?
– Нет. Сегодня я с трудом разбираюсь во многих вещах. Вдруг узнаю, что нужно тратить время на несметное количество согласований каждого своего шага, потому что принят новый глупый закон.
Приходится заниматься этой ахинеей.
2009 г.
Мы просто уничтожили свою промышленность
Интервью Ж. И. Алферова «Российской научной газете»
– Жорес Иванович, вам интересны первые итоги приема в вузы, вы следите за этими цифрами?
– Конечно, интересны. А из цифр меня особенно удивила одна: до 70 человек на место в Театральной академии на специальность «Актер драматического театра». Ну, что тут поделаешь? Хотя, пардон, много актеров – тоже хорошо.
– А какой конкурс на физико-техническом факультете в Политехническом университете?
– Увы, конкурс был 1 – 2 человека на место. Не думаю, что стало больше в этом году. А ведь на этом факультете читают лекции не только отличные профессора университета, но и академики, лауреаты государственных и многих других премий.
– Такая картина не только на этом факультете и не только в Политехническом университете. Недавно, например, ректор Университета авиакосмического приборостроения Анатолий Оводенко рассказывал, что на серьезную мужскую специальность «Приборы навигации и управления» план – 40 бюджетных мест, а идут на нее единицы. В Университете экономики и финансов 188 человек на место на специальность «Связи с общественностью». В «Военмехе» пока не добрали студентов на ракетостроение, но имеют 50 заявлений на одно место на факультете лингвистики. Призывы чиновников всех рангов учиться инженерному делу, а не юриспруденции и прочим гуманитарным наукам, молодежь будто не слышит...
– Слышит, конечно, но еще и видит многое. Молодежь – это барометр общества. Ее поведение отражает все, что происходит в стране. Поэтому широковещательные призывы о том, что нам инженеры нужны больше, чем юристы, не помогут.
Молодежь отлично видит: инженеры сегодня не востребованы. Если инженерно-технические специальности, например, по электронике, судостроению, ядерной технологии в 50 – 60-е годы были действительно востребованы, то и конкурс на них был максимальный. Молодые люди знали, что, окончив вуз по этим специальностям, они будут востребованы, получат работу и хорошую зарплату, будут нужны экономике и обществу.
Для того чтобы были нужны инженеры, нужно, чтобы функционировала промышленность, развивались ее высокотехнологичные отрасли. А их нет.
– Как нет? Проектируются, например, совершенно новые предприятия, связанные с нанотехнологиями...
– Какие новые? Все это попытки возродить проекты многолетней давности. За последние 15 – 20 лет деиндустриализации страны мы вошли в постиндустриальное общество очень специфическим образом: разрушив собственную индустрию. Если постиндустриальное общество в передовых западных странах, благодаря развитию информационных технологий, благодаря тому, что они стали играть большую роль, быстро ушло вперед, то мы просто уничтожили свою промышленность.
Мы болтали о демократии и прочем, а мир шел вперед, развивая науку, технику, экономику. Теперь бросились зазывать молодежь в инженеры и техники. Но это очень непростой процесс.
Сегодня приватизированная промышленность и частный капитал ищет не решения государственных задач, а извлечение максимальной прибыли.
– Для себя? Или для страны?
– Для себя, конечно. Потому, простите, частный капитал не заинтересован в том, чтобы тратить большие средства на возрождение и развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, которые начнут приносить прибыль через 10-20 лет.
– Такую ситуацию, понятно, быстро не исправишь. А как обстоят дела с подготовкой инженерных кадров в других странах?
– Недавно я вернулся из Белоруссии. Во-первых, это страна, где все работают. Там дела обстоят лучше, там работает промышленность. Трудно, но работает. Ее не разрушили, ее развивают, хотя и с большим трудом, потому что высокотехнологичные отрасли промышленности -оптическая, электронная, коммуникационная – требуют серьезных инвестиций.
Думаю, что по многим причинам, в том числе и по предпочтениям молодежи, мы должны наконец-то дать себе отчет, что мы сделали со своей страной, с ее экономикой. Это была трагедия для экономики. Сегодня мы получаем реакцию молодежи на то, что сделали.
– Если не призывами, то чем можно «завлечь» молодежь?
– Она пойдет в инженеры, когда увидит, что инженеры востребованы. Пойдет, когда инженерам будут платить больше, чем юристам. Не надо забывать, что молодежь не лишена материальных стимулов, и опираться только на ее энтузиазм.
Сразу после войны, когда на первое место в стране вышло развитие атомной промышленности, вышло и постановление правительства о развитии науки и образования. Тогда, защитив диссертацию, молодой человек на следующий день становился старшим научным сотрудником с окладом в 3 тыс. рублей в месяц. Таким был и персональный оклад директора крупного завода. Естественно, молодежь пошла в науку. И в тяжелейшие послевоенные годы страна смогла создать новые отрасли промышленности на основе научных исследований.
– Но заработки актеров не приравнять к заработкам директоров больших заводов. А молодежь штурмует Театральную академию.
– Я сказал: пусть у нас будет много актеров, много специалистов по связям с общественностью, экономистов и менеджеров. Это совсем не плохо. Но вот вопрос: каких, например, менеджеров?
Недавно я прочитал интервью израильского бизнесмена, который участвовал в работе одного российского симпозиума по нанотехнологиям. Он говорит: все было прекрасно – доклады, дискуссии, фуршеты и прочие программы. Но когда заходила речь о создании нанотехнологической промышленности, выяснялось, что ее некому создавать. Потому что нет менеджеров данного профиля. Зато есть совершенно новая в мире специальность – менеджер широкого профиля со знанием английского языка. Хорошо хоть, не «со словарем».
Таких менеджеров готовит сегодня большинство наших вузов. Но такие менеджеры никому не нужны! Для того, чтобы возникла нанотехнологическая промышленность, нужны менеджеры, понимающие нанотехнологии, нужны инженеры-организаторы. Но и специальностью хороших юристов не стоит пренебрегать.
Один физик, работавший в лаборатории Резерфорда, писал, что в 60-е годы Великобритания в технологическом развитии отставала, а Советский Союз и США уходили вперед. Почему? Да потому, по его мнению, что в этих странах все руководящие должности занимали инженеры и юристы, которые гораздо лучше разбираются в проблемах реального развития человечества.
2009 г.