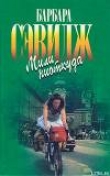Текст книги "Кругосветное путешествие короля Соболя"
Автор книги: Жан-Кристоф Руфен
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
VII
В своем «Письме о слепых в назидание зрячим» Дидро анализирует теоретическую проблему, затронутую слепым от рождения человеком, которому собирались вернуть зрение: сможет ли он судить о расстоянии на основании того, что видит? Ведь в зависимости от близости к глазу предмет увеличивается или уменьшается. Как узнать, не потрогав, каков его «настоящий» размер и, следовательно, на каком расстоянии от нас он находится? Этот вопрос положил начало целой философской дискуссии, включаться в которую я не стану. Я упомянул об этом, потому что понимание протяженности обычно связано с личным опытом. Мы передвигаемся, и из этого передвижения рождается наше представление о пространстве. Все могут прийти к соглашению по этому вопросу, потому что все совершают примерно одни и те же передвижения – в доме, в городе, в провинции, а то и колеся по всей стране.
Пересечь Сибирь – дело другое. Ни один опыт не может с этим сравниться. Такой гигантский путь задает иное представление о протяженности. Оно подводит к понятию бесконечности.
Достаточно сказать, что нам потребовалось около года путешествия, чтобы добраться до места нашей пожизненной ссылки, притом что мы редко когда останавливались на день. Целый год мы ежедневно продвигались все дальше и дальше в бесконечно однообразном пространстве, покрытом более или менее густыми лесами, иногда невысокими, с редкими березами и небольшими елями, а порой и внезапно раскрывающимися бесконечными пустошами, поросшими вереском, папоротниками и мхом. Двигаясь на санях, верхом, в тарантасе, часто пешком, мы день за днем ждали, чтобы появилось нечто, оживляющее пейзаж. Напрасно. Оставив позади себя города, ты начинаешь понимать, как скученно живут люди, ютясь по краям этой необъятной земли. Находясь в таких пространствах, человек испытывает гнетущее чувство неизбежного одиночества. Бесконечность Сибири вызывает мысли об иных бесконечностях – морей и неба, в которых Паскаль первым в наше время узрел степень нашей малости.
А затем в Сибири, когда ты менее всего этого ждешь, ткань монотонности рвется и возникает нечто непредвиденное, на чем тоже лежит печать чрезмерности: река, столь широкая, что другого берега не видно, или же чудовищные горы, представляющие двойную опасность своими неустойчивыми скалами и обрывистыми ущельями.
За год путешественник успевает на собственной шкуре испытать жестокие перепады климата. Знойным, удушливым и пыльным летом немыслимым кажется наступление, причем очень скорое, снежной зимы с ее вьюгами и ледяными ветрами. Человеческая кожа, исходившая по́том в жаркой летней печи, начинает прилипать к посиневшему от страшного холода железу.
Есть два противоположных и вместе с тем схожих способа наказать человека: приговорить к заточению или бросить в бесконечность. К тому времени я познал застенки и ощутил их безжалостность. Я кричал в камерах и бил кулаками в стены. Мне думалось, что я испытал худшее. Просто я еще не знал Сибири.
Когда попадаешь туда, чувствуешь, как день за днем в тебе растет напряжение, а потом вдруг лопается казавшаяся такой прочной нить, которая связывала тебя с человечеством. Ты не просто отделен, как в тюрьме, от всего, что любишь, тебя будто вытолкнули прочь. Сначала теряешь надежду увидеть когда-либо знакомый дом, гостеприимный город, настоящую сельскую местность, потом говоришь себе, что, даже если тебе еще будет даровано счастье вновь обрести все эти радости, воспоминания о сибирском одиночестве навсегда лишат тебя шанса зажить нормальной жизнью. Паскалевский опыт соприкосновения с бесконечностью оставит тебя безутешным, если ты просто попытаешься отвлечься от него. Никакое человеческое тепло никогда не сможет согреть душу, заледеневшую в этих глухих краях.
И однако же чем бесповоротнее ты чувствуешь себя отрезанным от человеческого сообщества, тем больше в тебе крепнет готовность создать новое сообщество, очень немногочисленное конечно, с людьми, тебе подобными, которые более ни с чем не связаны, но сохраняют единственное достоинство: свою человеческую сущность.
Эти человеческие существа равны или почти равны. Пленник и тюремщик страдают от того же голода, холода и однообразия. Ничтожнейший из беглых рабов, укрывшийся в лесах, может греться у того же огня, что попавший в опалу аристократ или изгнанный ученый.
В Сибири люди не живут скученно, но и не отделяются друг от друга стенами. Небесная рука разбросала их там без всякого порядка, как семена по вспаханной борозде. Разница в том, что в сибирской почве они не пускают корней и остаются разрозненными в ожидании новых велений судьбы, которая между тем о них забыла.
В этом заключается удивительный парадокс сибирской бесконечности. Это самое первобытное место из всех. Природа там не знает ни пределов, ни принуждения. Ранним утром, когда солнце испускает первые лучи, льющиеся между искривленными стволами, незваному наблюдателю кажется, что одновременно с природой просыпается и весь мир. У земли больше нет возраста, акт Творения завершился лишь вчера. Здесь ничего не изменилось со времен первой страницы Книги Бытия.
И все же, несмотря на этот пейзаж, напоминающий зарю времен, в Сибири можно встретить самых образованных, самых учтивых, самых благородных людей, каких только могло породить человеческое общество на вершине своего развития. Они родом из разных стран: венгры, шведы, греки, немцы. Среди них есть лекари, хирурги, землемеры, торговцы, банкиры. А среди русских – множество офицеров и придворных, вплоть до князей, которых одно лишь слово, подозрение или дерзость сбросили с золотых высот Петербурга и кинули в самую глубь сибирских лесов.
В начале нашего путешествия нам еще встречались города, достойные называться городами, вроде Тобольска или Томска. Но чем дальше мы продвигались, тем чаще гарнизоны, расположенные на большом расстоянии друг от друга, размещались в простых деревянных фортах. Рынки, на которых и идет основная торговля Сибири, а именно торговля мехами, несмотря на большую стоимость товара, представляли собой лишь сарайчики да грубые деревянные прилавки.
Мысль о побеге завладевала ссыльными, едва они узнавали о приговоре. Но бегство было сопряжено с многочисленными трудностями. Как найти пропитание на этих лесных или пустынных просторах? Даже при той помощи, которую нам оказывали, нам случалось жевать размоченную березовую кору, а нашим лошадям – щипать мох, росший на стволах деревьев. К тому же, хоть леса и не густые, они заросли подлеском, сквозь который проложить дорогу порой практически невозможно. Оставалось либо выбирать дороги, за которыми надзирали казаки, либо идти на риск заблудиться. В некоторых районах враждебные татарские племена грозили нападением на гарнизоны и уж тем более на беглецов. Зная об этих опасностях, ссыльные, которых мы встречали в пути, как ни мечтали обрести свободу, ничего для этого не предпринимали. Они жили в этих местах уже много лет. Дети ссыльных, здесь и родившиеся, поступали в армию, и им случалось дослужиться до высоких званий.
В месте, заселенном татарами-тунгусами[21]21
Ошибка автора: тунгусы (эвенки) не принадлежат к татарскому этносу; возможно, автор называет так всех монголоидов Севера России. См. авторское примечание (с. 376–377 наст. изд.) к роману, где объясняется, что в тексте сохранены наименования XVIII в.
[Закрыть], мирными скотоводами, которые относились к нам без всякой враждебности, один торговец мехами предложил мне бежать через Китай. Он знал дороги, которые туда вели. Увы, за время пути мое здоровье ухудшилось, многие раны, едва затянувшиеся, загноились. Я отказался.
Мы продолжили путешествие – в оттепельной слякоти, в летней жаре, под осенними дождями, пока не наступила зимняя стужа.
В каких только повозках мы не передвигались: их тащили и лошади, и собаки, и даже такие невероятно ласковые животные, как олени. Мы перебирались через реки вброд, а через другие, более широкие, на лодках из березовой коры. Нам случалось спать прямо на промерзшей земле в феврале и выносить летними ночами безжалостные атаки комаров или слепней.
Несмотря на ежедневные мучения и испытания, мы хранили надежду: ею был конечный пункт нашего заключения. Казак, командующий нашим конвоем, обмолвился, что нас приговорили к ссылке на Камчатку. Сами мы ничего не знали о тех краях, но расспрашивали встречных ссыльных, и те многое нам рассказали. Камчатка – земля вулканов, что нам не очень-то понравилось. Но главное – она расположена за морями[22]22
Очевидно, имеется в виду, что большая часть полуострова Камчатка отделена от материка Охотским морем.
[Закрыть]. И эта простая деталь оказалась той спасительной доской, за которую цеплялись все наши надежды. «За морями» означало, что закончится череда угрюмых пейзажей. Леса, степи и горы сдадутся, уступив место тому бесконечному цивилизованному пространству, которое зовется побережьем и куда всегда влечет людей. И ничего, если именно здесь оно пока окажется пустынным. За берегом, окаймленным песочным или галечным пляжем, если только он не ощетинится скалами, откроется море. Море мы воспринимали как прямую противоположность лесам: пространство пусть и бесконечное, но открытое, без препятствий, обширная свободная поверхность, по которой можно на чем-то плыть и сообщаться со всеми уголками мира, всеми населенными местностями, где есть во множестве города и порты.
И действительно, однажды декабрьским днем мы добрались до Охотского моря. Нам пришлось подняться на борт парусного судна и пуститься в плаванье, оказавшееся опасным из-за шквального ветра, который сломал рангоуты и ранил нескольких матросов. В экипаже начался разброд, капитан посадил своего старшего помощника под арест и заковал в кандалы. Сам он выглядел настолько растерянным, что я рассказал ему о своем мореплавательском опыте и предложил помощь. Он заколебался, но опасность была столь велика, что в конце концов он согласился. Буря едва не вынудила нас взять курс на Корею, что означало бы конец моего плена. Но, будучи человеком добросовестным, я сделал все возможное, чтобы удержать судно на прежнем курсе. В середине ночи ветер сменил направление и помог мне. После многих часов борьбы и страха к раннему утру буря стихла. Я разбудил капитана, который задремал, больной, в своей каюте, и вернул ему командование. К вечеру мы причалили к берегу Камчатки. Там нас ждали безопасность и рабство.
Если вы позволите, господин Франклин, теперь я попросил бы Афанасию продолжить.
* * *
Бенджамин Франклин слушал рассказ около четырех часов, иногда вскрикивая от радости, нетерпения или возмущения. Он сделал знак Ричарду, своему дворецкому, подложить ему под ноги пуф, и когда он жестикулировал, растянувшись во всю длину на кресле, то был похож на бьющуюся рыбу, вытащенную на берег.
– Черт возьми, ваша история мне нравится, молодой человек! И мне хочется немедленно услышать продолжение из уст мадам.
Но тут вмешался дворецкий, он уже давно кидал недобрые взгляды на пришельцев.
– Уже ночь, сударь! – прошелестел он, поднося только что зажженную лампу. – Ваш ужин готов. Эти дамы-господа продолжат завтра…
– Тогда прямо с утра?
– Непременно, – сказал Август.
Он встал и подал руку Афанасии, предлагая следовать за ним.
По знаку Ричарда полнотелая кухарка в клетчатом полотняном колпаке вошла в гостиную с сервированным подносом. Отварная рыба, исходившая ароматным паром, соседствовала с графинчиком золотистого вина. Только такие аргументы и могли подвигнуть Франклина к тому, чтобы отпустить гостей.
– Жду вас здесь же в шесть утра, – сказал он, пока кухарка обвязывала салфеткой его шею.
Август вышел. Афанасия пошла следом, всколыхнув оборки, от которых по комнате поплыл тонкий аромат.
Бенджамин Франклин прикрыл глаза и с силой втянул носом воздух, взволнованный воспоминаниями и счастливый тем, что уже не надеялся вновь испытать.
На следующее утро он опять отослал всех просителей. С нетерпением он ждал Афанасию и Августа. Каждые пять минут спрашивал у Ричарда, который час. Наконец ближе к шести столь ожидаемые посетители прибыли.
– Ну что ж, мадам, – сказал Бенджамин Франклин, – я слушаю, и никто вас не прервет.
Он лег затылком на круглый подголовник своего большого кожаного кресла и вздохнул с удовольствием.
Афанасия
I
Я урожденная Афанасия Нилова. Моя мать была дочерью шведа, сосланного в Сибирь. К своему несчастью, в двадцать лет она вышла замуж за моего отца. Конечно же, она надеялась, что этот коренной русский офицер императорской армии позволит ей наконец занять достойное положение в стране, где она по стечению обстоятельств родилась. Увы, отец никогда не умел поддерживать свое положение в обществе. Его природная, ничем не умеряемая склонность к выпивке имела пагубные последствия для карьеры. Получая все менее престижные назначения, он искал утешения во все более обильных возлияниях, чем окончательно погубил свои шансы на продвижение.
Таким образом он оказался на Камчатке, получив назначение на пост коменданта острога. Отец считал это повышением. На самом деле от него просто избавились.
В какой-то момент мать понадеялась, что он уедет один. Но чтобы придать необходимый блеск своей должности и чувствовать себя истинным сатрапом, он потребовал, чтобы мы его сопровождали.
Две мои старшие сестры уже были замужем. Против своей воли они вышли за военных, чьей единственной доблестью было умение всячески поощрять отца в его попойках. Они жили вдали от нас и были очень несчастливы. Будучи намного младше их, я последовала за матерью на Камчатку вместе с моим младшим братом. Ему едва исполнилось десять, а мне уже было семнадцать, и я смотрела на него как на ребенка. Почти все время переезда я провела в чтении и мечтаниях.
Необычайно долгое путешествие прошло хорошо, насколько это было возможно. Под усиленной охраной казаков наш огромный обоз вез множество вещей, которые должны были обеспечить нам комфорт на месте. Отец также рассчитывал, что мы будем устраивать пышные приемы, и велел матери взять с собой роскошные наряды для торжественных случаев. Их наличие казалось все более неуместным по мере того, как мы углублялись в необъятные дикие пространства.
Прибыв в Большерецк, мы устроились в служебном доме, расположенном внутри крепости. Не только в Москве, но и в любом маленьком городке это здание выглядело бы невзрачным. На Камчатке оно считалось дворцом. Мне была отведена просторная комната, даже слишком просторная, потому что ее невозможно было протопить. Наши предшественники обставили гостиные в вызывающе помпезном вкусе. Картины, обтянутые шелком кресла, шкафы из березового капа были привезены из Санкт-Петербурга и мужественно боролись с влажностью и огромным перепадом летних и зимних температур. Отец сидел во главе стола во время торжественных ужинов в этих темных и мрачных залах всякий раз, когда в нашей глухомани объявлялись приезжие, достойные, как он считал, такой чести.
То немногое, что я успела увидеть на Камчатке, не вызывало во мне никакого желания познакомиться с нею поближе. Это край вулканов и горячих источников, постоянно окутанный туманами. Сельским хозяйством там по-настоящему заниматься невозможно. Край целиком отдан на откуп дикой фауне. Торговля мехами составляет главное занятие местных жителей, но из-за неумеренной охоты наиболее ценные виды зверья постепенно исчезают. Охотников и торговцев мы видели редко – отец считал общение с ними ниже своего достоинства. Они жили одной общиной со ссыльными. За осужденными надзирал казачий гарнизон под начальством нескольких офицеров, и царским указом арестантам предписывались очень суровые условия содержания. Они не имели права ни на какое личное имущество, им запрещался доступ в дома свободных людей. Они обязаны были определенное время работать на государство, и их использовали на самых грязных работах. И наконец, в самом низу этого маленького общества находились коренные камчадалы, к которым отец относился с возмутительной жестокостью.
В общем и целом это был застывший мир, девять месяцев в году испытывавший тиранию холода, связанный с остальным светом только редкими кораблями, которые ходили между Камчаткой и Сибирью, делая остановку в нашем порту.
В этой ссылке большую часть времени я проводила одна или с матерью. Она отдавала мне нежное предпочтение и желала, чтобы я избежала незавидной участи двух моих сестер. Возможно, мое присутствие служило ей утешением в тех жестокостях, которые она вынуждена была терпеть от мужа. Их отголоски иногда доносились до меня сквозь закрытые двери.
Я восхищалась матерью. Она была тем человеком, на которого я больше всего хотела походить. Но она же была и той, кем я ни в коем случае не хотела бы стать. Возможно, этот парадокс вас шокирует, господин Франклин. Вы мужчина и, конечно же, полагаете, что следует строго разграничивать отдельные грани реальности. А мне нравится думать, и вы это еще заметите, что не нужно однозначно разделять противоположности. И если в жизни я твердо придерживаюсь принятого решения, вплоть до того, что кажусь упрямой, то в моем представлении о вещах и людях всегда сосуществуют весьма несхожие точки зрения, которые логика велела бы исключить.
В любом случае факт тот, что большую часть времени в Большерецке я проводила в обществе моей дорогой матери. Добавьте к этому горничную и местного цирюльника – вот и весь круг моего общения. Целыми днями я играла с двумя собачками, черной и белой. Один из богатых камчадалов, желая снискать благоволение отца или же смягчить гонения, подарил их ему. У меня еще была музыкальная шкатулка под названием органчик. Она пела, как птичка, благодаря оловянным трубам и маленькому свистку. Я часами крутила ручку, которая приводила ее в движение.
Отец огорчался тому, что я редко бываю в обществе, которое он считал «светским». Он настаивал, чтобы мы с матерью принимали участие в официальных церемониях. Сначала я неохотно подчинялась. Потом стала решительно уклоняться, так как он использовал эти визиты, чтобы подстраивать встречи с разными субъектами, среди которых надеялся подыскать мне мужа. Однажды утром мать после целой ночи ссор с ним сказала мне, сдерживая слезы, что отец остановил свой выбор на одном человеке. Я видела, что она потрясена едва ли не меньше, чем я. Она поклялась, что сделает все возможное, чтобы расстроить эти планы.
Чуть позже прибыл обоз со ссыльными, среди которых был и Август.
Все предыдущие дни мы слышали, как свистит ветер и завывает буря. Моя горничная, которая всегда приносила мне редкие новости городка, сообщила, что ночью до порта добралось одно сильно поврежденное судно. На борту взбунтовалась часть экипажа, капитан был вынужден заковать старшего помощника в кандалы и попросить помощи у группы осужденных, которую перевозил. Именно самоотверженности одного из них корабль обязан своим спасением.
Я услышала стук копыт на улице и увидела, как проскакала группа казаков в полном обмундировании – обычный переполох при каждом прибытии судна в порт. Отец за обедом сообщил нам о дюжине новых ссыльных, доставленных к нам, и добавил, что сегодня же вечером устроит небольшую церемонию знакомства.
Эти заключенные в большинстве своем принадлежали к высоким офицерским чинам императорской армии и были выходцами из семей потомственных дворян. Отношение к ним отца было двойственным. С одной стороны, благородство их происхождения, обширные познания и потенциальная полезность внушали уважение к этим падшим, ведь пали-то они с очень большой высоты. Он ценил их манеры и с удовольствием перечислял их титулы – военные или аристократические, – когда к ним обращался. И в то же время он старался пользоваться, насколько возможно, таким поворотом судьбы, который поставил этих офицеров и вельмож в полную от него зависимость, превратив его в их хозяина. Ему нравилось лично зачитывать им суровые императорские предписания, касающиеся ссыльных. Он был одновременно исполнителем и толкователем этих указов, что давало ему двойную власть применить их или сделать исключение.
Церемонии знакомства с ссыльными всегда были для меня причиной больших разочарований. Заметьте, что мой еще нежный возраст и одиночество, в котором я жила, не полностью лишили меня детских иллюзий. Мечта о прекрасном принце еще жила во мне. Против собственной воли, отправляясь на представление вновь прибывших, я продолжала надеяться, сама над собой посмеиваясь, что однажды среди них окажется мужчина, который составит мое счастье. Вместо этого я всякий раз видела череду отвратительных персонажей, да еще и больных, которые казались мне ужасно старыми. Большинство дерзко меня разглядывали, адресуя мне жуткие улыбки. В их глазах блестели порочные огоньки. Мое разочарование оборачивалось гневом, и я смотрела на них с ледяным презрением.
Вот почему, наученная горьким опытом, я шла на такие церемонии с неохотой. И ничего не делала, чтобы предстать в выгодном свете. В то утро я даже оставила на голове чудовищный клетчатый чепец, в котором обычно спала.
И горько об этом пожалела. Потому что на этот раз в группе людей, которая была нам представлена, оказался мужчина, который сразу привлек мое внимание. Он выделялся среди прочих так же явственно, как самородок среди грязи. Его товарищи как будто знали об этом: они держались чуть позади и вели себя скромно и смиренно. А он, с его высоким ростом и естественной непринужденностью, оглядывал все вокруг хозяйским глазом. Так же он взглянул и на меня, но не задержался, как если бы принял к сведению мое существование наравне с мебелью и окружением. Мне бы и не хотелось, чтобы он начал меня разглядывать, как это часто делали другие. Однако мне стало больно, когда он отвел от меня взгляд.
Вернувшись к себе в комнату, я опустилась на край кровати и сидела неподвижно, тяжело дыша, словно получила удар в живот. Что я почуяла в нем? С тех пор я так переменилась, что сегодня мне трудно проникнуть в мысли той, кем я была тогда. После всех прочитанных книг, мечтаний и наивных разговоров со служанками в голове моей гулял ветер, я верила в любовь как в заоблачный мир, не соприкасающийся с обычным. Я думала, что одной своей силой она способна избавить от всего, что составляет уродство и уныние обыденной жизни. Любимое существо может быть только идеально красивым, блистательно умным и бесконечно добрым. Какие бы недостатки ни были присущи ему в реальной жизни, предмет любви, которого коснулась благодать этого чувства, был избавлен ею от любых несовершенств. Мой влюбленный взгляд уловил в этом мужчине только гармонию его черт, мощь и молодость, отбросив как ничтожную оболочку грязь его тела, измученного путешествием, и убожество залатанной одежды. Я вспоминала его синие глаза, такие живые и блестящие, крупный, четко очерченный рот, густые волосы, ждущие ласкового прикосновения моих рук. Я была покорена природной властностью, исходящей от него, и тем ощущением господства, которое так контрастировало с его положением. Он, пленник, был настолько же свободен, насколько мой отец, тюремщик, был рабом своих амбиций и страхов.
И в то же время это лицо вожака выражало, по крайней мере на мой влюбленный взгляд, нечто детское и нежное. Контраст между мощью этого человека, его решительным видом, с одной стороны, и чистотой, свежестью, я бы даже сказала, проказливостью его взгляда казался мне бесконечно привлекательным.
С годами мои тогдашние первые впечатления дополнятся, а некоторые и окажутся ложными. Теперь я знаю, что меня в нем покорило совсем иное. Тогда я была еще не в состоянии это осознать. А если бы мне сказали, я бы яростно заспорила. Но для моего признания еще слишком рано. Откровения придут в свое время.
Истина же в том, что в ту первую встречу меня пронзила стрела любви, а я настолько впитала подобные литературные штампы, что нимало не удивилась, когда это случилось со мной в действительности.
Я едва слушала отца, когда тот излагал стоящим перед ним ссыльным суровые правила их заключения. Я знала: сейчас он объявит, что они могут свободно передвигаться и что им выдадут съестные припасы на три дня, а в дальнейшем они должны заботиться о своем пропитании сами. Таков был закон на Камчатке: ссыльным предоставлялась свобода, но лишь для того, чтобы они сами обеспечивали свои нужды и ничего не стоили государству. В любом случае на этом полуострове, с трех сторон окруженном морем, а с севера запертым высокими горами, их тюрьме не нужны были стены.
Правительство по доброте своей даже предоставляло им мушкет и порох, а также пику и нож, чтобы они могли охотиться и заниматься рыбной ловлей. А еще они получали инструменты, чтобы построить себе жилище.
Вот это меня сильно встревожило, напомнив, что ссыльные не остаются в окрестностях острога – они рассеиваются по деревням, где сооружают себе жалкие хибары. Я в тех деревнях никогда не бывала, и у меня не было никакого повода там появиться. Кстати, и отец никогда бы этого не позволил. Что до пленников, их было запрещено принимать в доме без особого разрешения коменданта.
Едва заметив Августа и даже не зная еще его имени, я уже испытала тоску при мысли, что буду навсегда от него отдалена. Мне нужно было найти способ приблизить его к себе.
Вернувшись с церемонии, я выслушала, как отец, по своему обыкновению, расписывает нам, кем были новые заключенные, отданные в его полную власть. По его мнению, чем именитее был список, тем значительнее становился он сам. Перечисляя титулы, отец бросал на мать и на меня хвастливые взгляды. Упомянув всех русских, он заговорил о двух иностранцах, шведе и венгре, захваченных во время войны с поляками.
– Венгр – это тот здоровый верзила, который стоял чуть впереди остальных, он вроде бы считается их предводителем. Говорят, именно он взял на себя командование кораблем во время бури и спас его.
– Отец, а что делал венгр в Польше? – спросила я небрежным тоном, делая вид, что не слишком заинтересовалась.
Комендант, который опросил каждого узника по отдельности еще накануне, пустился в долгие объяснения по поводу войны в Польше и той роли, которую играл в ней Август. Похоже, история этого человека привлекла его особое внимание.
– Представьте, он говорит на многих языках: венгерском, разумеется, польском и русском, а также на французском и немецком, потому что когда-то служил в австрийской армии. Он даже имеет серьезные познания в английском и латыни.
Я отдельно отметила для себя этот важный момент и по возвращении попросила мать зайти ко мне в комнату. Там я убедила ее поговорить с отцом, чтобы один из ссыльных обучал меня языкам. Уже очень давно, говорила я ей, моим самым горячим желанием было выучиться французскому.
Мать ласково убрала прядь с моего лба. Насколько я знаю, эта женщина никогда не ведала любви, но она, безусловно, всегда желала ее и способна была ее распознать. Она видела меня насквозь, и мне было трудно скрыть от нее свои чувства. Мать обещала сделать все, чтобы способствовать моему счастью.