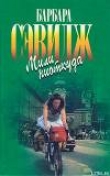Текст книги "Кругосветное путешествие короля Соболя"
Автор книги: Жан-Кристоф Руфен
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
V
Решительно, отец приносил мне одни несчастья, как при жизни, так и после смерти. Покидая Венгрию, чтобы никогда туда не вернуться, я чувствовал себя как никогда поляком и с волнением думал о матери.
По воле случая незадолго до того один мой дядя оставил мне наследство в Литве. Я стал полноправным польским[20]20
С 1569 по 1795 г. Литва входила в Речь Посполитую – федерацию Королевства Польского и Великого княжества Литовского.
[Закрыть] дворянином и тем самым вступил в сложную и захватывающую политическую игру, которую вела эта страна.
До тех пор я был знаком лишь с тиранией, и для меня это было привычное устройство власти, будь то в нашем замке или при венском дворе, и потому я не видел необходимости с нею бороться. Как амфибия, с рождения жившая только в воде, я не знал, что дышать можно и в другой среде. Башле не единожды мне на это указывал. Он часто говорил об абсолютной власти и о злоупотреблениях, к которым она приводит. То ли из осторожности, то ли из желания заставить меня самостоятельно осознать всю ее вредоносность, он никогда не приводил конкретных примеров, так что обучение в данной области оставалось чисто теоретическим.
В день, когда отец изгнал его из замка, я впервые воочию увидел воплощение идей Монтескье, которого Башле часто цитировал. Сосредоточив в своих жестких руках все виды власти – законодательную, исполнительную и судебную, – отец имел полную возможность самому устанавливать закон, заявлять о его нарушении и приводить в исполнение наказание, которое сам же и определял. Точно так же глава империи, суверенная владычица Австрии, вынесла мне приговор без всяких на то оснований, в силу такого же злоупотребления всеми видами власти, которые сошлись в ее руках.
В Польше я впервые обнаружил, что имелась возможность отказаться от подобного абсолютизма. Польское дворянство было помешано на свободе. Разумеется, речь шла пока что о свободе для них самих, а не для народа. Но ее дух способствовал тому, что в стране воцарилась атмосфера страстных споров. Свобода доходила до крайностей и в отсутствие пресловутого разделения властей, о котором столько говорил Башле, готова была сама себя уничтожить. Окрестные тираны раздували угли и ждали только случая, чтобы раздробить страну, если политический кризис ослабит ее еще больше. Российские цари проявляли наибольшую активность в этой пагубной игре. Таким образом, Польша намного раньше других стран испытывала на себе парадоксы и пределы свободы. Эта великая вещь может существовать только в благоприятном для нее мире. Нечего и говорить, что мир таким не был.
Дело было почти решенное. Польша, крайне ослабленная разделами, оказалась под безжалостным политическим надзором России, сговорившейся с Пруссией и Австрией, которые ждали своей доли. Поляки не могли сносить иностранный диктат. Они были горячими приверженцами свободы, которая так дорого им обошлась. В городе Бар была образована конфедерация, целью которой было сопротивление русским и всем прочим. Я принял в ней участие. Конфедераты попросили меня быть наготове.
Когда они призвали меня, чтобы принять участие в сражении, я покинул корабли, а также оставил планы стать мореплавателем и с энтузиазмом присоединился к конфедерации.
Мои представления о войне стали более зрелыми. Я выбрал военную карьеру исключительно из любви к физическим упражнениям, приверженности к армейскому братству и инстинктивной потребности дать моей слишком буйной натуре возможность выплеснуть излишек энергии. Горечь от потери Башле и твердое намерение как можно скорее покинуть замок также сыграли свою роль.
Первые же сражения лишили меня этих мечтательных иллюзий. Я увидел жестокость, кровь, меня возмутило варварство боя. Но впоследствии, размышляя над этим – а время поразмыслить у меня было, когда я долгими часами стоял на вахте на юте одного из судов, – я научился проводить различие. Что касается варварства боя, то тут меня возмущала прежде всего его необоснованность. Мои солдаты убивали противника, не понимая, почему они это делают. Просто потому, что извращенное общество предписало им это занятие. Собственно, в военном ремесле меня возмущала не война, а ремесло.
И напротив, если сила была поставлена на службу идеалу – как это имело место в Праге, – если она стремилась побороть зло и заменить его если не на добро, то, по крайней мере, на что-то лучшее, тогда оружие становилось инструментом цивилизации. Свобода и была для меня таким идеалом, во всяком случае в борьбе с тиранией. Такая битва предполагала применение силы. Как выразился Жан-Жак Руссо в одной своей фразе, смысл которой долгое время был мне неясен и до сих пор вызывает сомнения: «Следует принуждать людей быть свободными». Присоединясь к Барской конфедерации и борясь с российской тиранией, я чувствовал себя вправе применять силу и даже убивать.
В таком умонастроении я и отправился в Краков, где конфедераты подняли мятеж. Я прибыл туда как раз в тот день, когда русские пошли на приступ. Меня возвели в чин генерал-полковника и поставили во главе всей кавалерии. Я отправился принимать командование полком из шестисот человек в соседний гарнизон и с боями провел его в осаждаемый город. Подробности той войны не стоят того, чтобы сейчас о них рассказывать. Замечу только, что сражался я с легким сердцем и мои соратники, как и мои противники, оказали мне честь, признав меня храбрым человеком. Я вел за собой людей, используя те же методы, подсказанные Башле, которые уже опробовал на службе в Австрии. На этот раз я мог предложить им кое-что получше, чем просто братскую отзывчивость. Равенство между нами имело смысл, хоть я и был их командиром и они охотно это принимали. Главное, что нас объединяло, – борьба за свободу и ненависть к тирании. Я читал им длинные пассажи из Вольтера, которые по ночам переводил на польский. Их восхищали его идеи, они придавали бойцам моральные силы, чтобы сражаться осознанно, а не как животные.
Опасность была повсюду и не всегда там, где ее следовало ждать. Если отношения с мужчинами складывались все лучше и лучше, то с женщинами приходилось быть настороже. Перед ними я все еще был безоружен и постоянно рисковал угодить к одной из них в плен – еще до того, как оказался в плену у русских.
Следует признать, что все мое предшествующее образование закалило меня и помогло выработать необходимую ловкость, но оставалась область, в которой мне еще предстояло многому научиться: любовь.
Мои отношения с женщинами в замке сводились к отдаленному обожанию, которое я питал к матери, презрительному равнодушию, которое выказывали мне сестры, и к пугливой и опасной послушности служанок. Башле, чья жизнь протекала в одиночестве и явном воздержании, не мог послужить мне тут примером. Он много рассказывал о любовных историях Дидро, о благородных покровительницах Жан-Жака. Но казалось, он говорил скорее о музах, чем о существах из плоти. В отрочестве бурление крови заставляло меня с особым волнением поглядывать на крестьянок, которых мы встречали во время наших вылазок. Но под строгим надзором Башле не могло быть и речи ни о каких заигрываниях. Кстати, отец этого не спустил бы, хотя, как я узнал позже, сам иногда отлучался ради удовлетворения своих потребностей, навещая для того и предназначенный дом, стоящий на отшибе в самом отдаленном из наших городков.
В результате я употреблял все свои силы на военные игрища и находил в этом определенный покой, ибо другого еще не ведал. Доблестный полковник, уважаемый в войсках, и в то же время сущий младенец в вопросах пола, я не мог не стать объектом вожделения многих женщин. Некоторые из них молча ждали пригласительного жеста с моей стороны. И ждут до сих пор. Другие, склонные к наступательным действиям, устраивали мне ловушки. Я ускользал из них именно благодаря своей наивности, которая не позволяла мне ничего замечать. И все же однажды я чуть было не попался.
Как-то зимой я заболел, простудив легкие. Мелкий сельский дворянин, живущий неподалеку от расположения полка, взял меня к себе в дом. Он проявил ко мне внимание и заботу и даже послал ухаживать за мной младшую из дочерей. Лихорадка, сон, которого мне так не хватало и который сморил меня в теплой постели, крайняя слабость, сопутствующая болезни, – все то, что было мне до той поры неведомо, ввело меня в забытье. Мне снились кошмары. Я был на корабле в Балтийском море, ледяная вода поднималась все выше, готовясь меня поглотить. Я стучал зубами в мокрых от пота простынях. Вцеплялся в руку моей спасительной сиделки. Она трогала мой лоб, подносила к губам чашку с прохладной водой. Однажды в ранний предутренний час мне показалось, что она лежит рядом со мной в кровати. Потом я опять забылся, а когда проснулся, ее уже не было.
В конце концов я выздоровел. Когда я встал на ноги и надел свой мундир, который оказался мне велик – так я похудел, – дворянин церемонно пригласил меня на ужин. Мы были одни в столовой, украшенной побитыми молью гобеленами. Даже по такому торжественному случаю в люстре горела лишь половина свечей. Чудовищная бурда, которую он считал вином, так долго дожидалась своего часа в графинах, что оставила красочные разводы на стенках. Пока мы жевали куски тощего барашка, без всякой надежды размягчить их, отец семейства спросил меня, на какой день мне угодно назначить церемонию.
Я запил кусочек баранины глотком разбавленного вина и спросил:
– Какую церемонию, маркиз?
– Ну как же, бракосочетание.
Я попытался сопротивляться с тем же упорством, с каким сопротивлялось моим зубам несъедобное мясо, которым он меня потчевал. Сначала мягко, потом угрожающе дворянин дал мне понять, что за время моей лихорадки наша близость с его дочерью зашла так далеко, что девица с полным правом может считать себя обесчещенной. В своих попытках спорить я чувствовал себя тем беспомощнее, что воспоминания мои путались и среди них мелькали смутные картины обнаженной груди и скользящих между пальцами волос. В эти минуты полной растерянности я, как всегда, подумал о том, что сделал бы Башле в подобных обстоятельствах. На память пришла цитата из Макиавелли, которую он часто повторял: «То, чему невозможно помешать, следует возжелать».
– Что ж, маркиз, ваше предложение пришлось как нельзя кстати, – сказал я, поднимая рубиновый бокал. – А я-то не знал, как удобнее объявить о моих намерениях.
– В добрый час, мой дорогой граф! – воскликнул он, вскакивая.
Без всякого сомнения, он ожидал с моей стороны более яростного сопротивления. Чокнувшись со мной через стол, он радостно вскричал:
– Марта, Катаржина, идите скорей сюда.
Его жена и дочь, ждавшие за дверью буфетной, вошли в зал, лучась улыбками. Маркиза отличалась редкостным уродством и была дурно одета, но ее недостатки меня не волновали. Увы, я вынужден был признать, что она в полной мере передала дочери все немилости природы и даже обучила искусству, которым владела в совершенстве: скверно одеваться. Настоящая бедность может быть гармонична и даже элегантна. И напротив, бедность богатых, которая называется скаредностью, вызывает во мне живейшее отвращение. Вышеназванная Катаржина стояла колом точно так же, как те дешевые ткани, что ее покрывали. Теперь, когда лихорадка больше не туманила мне глаза, я ясно видел всю непривлекательность ее черт. Башле был совершенно прав, доверяясь правдивости наших чувств, но при условии, что они ничем не искажены. Я почерпнул достаточно сил из глубин моего отчаяния, чтобы изобразить улыбку. Юная девица – кстати, не такая уж юная – приоткрыла тонкие, как ниточка, губы и выставила напоказ гнилые зубы.
– Ну же, – умиленно сказал маркиз, – дайте друг другу руки.
Я взял руку моей нареченной. Она была костлявой и холодной.
Маркиз и его супруга завели долгий разговор, уточняя дату свадьбы, а также ее условия. Я был согласен на все. К счастью, когда они предложили мне пожить у них до даты церемонии, последний взгляд на лицо моей будущей супруги придал мне мужества дать отпор.
– Увы, – ответил я, притворяясь глубоко огорченным, – я должен сначала вернуться в полк и отдать необходимые распоряжения, чтобы кто-то принял командование на время моего отсутствия.
Я уточнил, что эти распоряжения надобно сделать без промедления, и добавил, о чем и сегодня не могу вспомнить без стыда, что чем быстрее я уеду, тем скорее вернусь и мы снова обретем счастье быть вместе.
Скача по дороге во весь опор, я с тоской рылся в воспоминаниях. Могла ли болезнь настолько помутить мое сознание, что я… Нет, это решительно невозможно. Свежий воздух, белизна покрытых инеем деревьев, четко проступающих на фоне ярко-синего неба, зимнее солнце на шкурах несущихся навстречу коней, – все возвращало мне радость жизни и вкус к свободе. Я приподнимался в седле, пришпоривал коня и наконец добрался до места, где был расквартирован полк. Два дня спустя во главе тысячи четырехсот человек я уже мчался к князю Любомирскому, чтобы под его командованием пойти на приступ крепости в Ландскроне. Я испытывал куда меньше страха перед ее ощетинившимися пушками, чем при одной только мысли о женитьбе на той ужасной женщине.
Мне еще многому предстояло научиться, прежде чем стать настоящим мужчиной.
VI
Во время польской войны и пока мы обороняли город Краков без особой надежды удержать его, я на собственном опыте узнал многообразие культур и народов. У меня было ощущение, что я пишу новую главу в «Рассуждениях о множественности миров» Фонтенеля. Все, что я для себя открывал, существенно отличалось от того, что окружало меня в детстве! Ежедневно к нам прибывали новые добровольцы из самых разных уголков Европы. Еще на службе в австрийской армии мне довелось существовать бок о бок с солдатами многих национальностей. Но там ситуация была совсем иной. На службу империи и в зависимости от заключенных ею союзов правители держав посылали к нам своих солдат. Огромная волна тирании катила перед собой, словно камни по руслу потока, человеческую массу из подневольных людей. Защита же Польши, напротив, была защитой идеи, добровольным выбором свободы. Каждый отдельный человек, следуя божественному разуму, бросал все, чтобы участвовать в этом сражении, хотя любой мог почувствовать, насколько оно безнадежно.
Среди тех, кто меня окружал, я особенно привязался к одному шведу моего возраста по имени Олег Винблад. Он был родом из Стокгольма и выбрал военную карьеру исключительно в угоду родителям – оба они происходили из военного сословия. Попав в плен в России во время русско-шведской войны, он сбежал и присоединился к армии конфедератов, чтобы бороться с абсолютизмом царя. Физически он настолько отличался от меня, насколько это вообще возможно. Маленький, почти щуплый, очень близорукий, он был не очень ловок, но крайне вынослив. Нас сблизил французский язык, который он выучил самостоятельно за время своего плена: он все прекрасно понимал и читал, но говорил с жутким акцентом и очень медленно. Мы обменивались книгами. Я хранил те, которые достались мне от Башле. Свои он раздобыл во время разграбления гарнизонов, в захвате которых участвовал.
По мере того как тиски сжимались вокруг войска конфедератов, у нас оставалось все меньше времени для чтения. Мы должны были любой ценой добывать провизию и проводить отвлекающие маневры, чтобы доставить ее в осажденный город. Опасность нарастала, и я вдруг почувствовал, что получаю все большее удовольствие от этой смертельной игры. С Олегом и несколькими другими соратниками мы соревновались в дерзости и удальстве, влетая в ворота Кракова лишь в самый последний момент, когда после наших вылазок нас преследовала русская кавалерия. Казаки сумели оценить такого рода вызовы. Они узнавали в них черты собственного сумасбродства, то же пристрастие к жизни на волосок от смерти. Думаю, как люди чести, они в ответ решили не убивать нас. Игра для них заключалась в том, чтобы взять нас живыми.
И разумеется, они своего добились.
Это случилось в августе, в один нескончаемый жаркий день. Мы пробили себе дорогу, прорываясь из города большим кавалерийским отрядом. Бой по возвращении начался неудачно. Лошади, скакавшие в голове отряда, были убиты и увлекли в своем падении следующие ряды. Удушающая жара, слепящий свет солнца в зените, жажда, которая еще усиливалась из-за высушенной земли и пыли, – все сошлось, чтобы ослабить нас. Обмениваясь сабельными ударами с противником, я не раз чувствовал, как вражеские лезвия проникают в мою плоть. Кровь просачивалась сквозь рубашку и текла по мундиру. Раны были серьезными, но ничто не могло помешать мне сражаться. Бой шел прямо на подступах к Кракову. Слышно было, как городские колокола отбивают время. Когда било пять, я почувствовал резкую боль в животе, и почти в ту же секунду мой конь пал. Два казака, до того стрелявшие из пистолета, схватили мою саблю, выпотрошили седельные сумки и взяли меня в плен. Чтобы дать мне это понять, один из них положил тяжелую руку мне на плечо. Таков был знак уважения между воинами. Он немного умерил мучивший меня стыд за то, что меня лишили оружия. Казаки потащили меня сначала к полковнику Бринкену, а потом за несколько миль оттуда – к русскому генералу, командующему армией.
Я думал, что все потерял, когда у меня отобрали отцовское наследство. Но мне предстояло спуститься еще на ступень ниже, чтобы достичь предела несчастий. И эту ступень я только что преодолел. У меня отняли два моих последних достояния: честь и свободу. Я подумал, что жизнь моя кончена. На самом деле она только начиналась.
* * *
Существование пленника целиком зависит от настроения его тюремщиков. Некоторые были очень жестоки ко мне, другие более милосердны. Должен сказать, что в тот начальный период плена я предпочитал попадать в руки людей безжалостных. С ними все было ясно и становилось легче привыкать к своему новому состоянию. А вот надсмотрщики заботливые и доброжелательные пробуждали чудовищную ностальгию. Смягчая мой быт, они делали его почти похожим на прежнюю жизнь, оставалось лишь одно жестокое, слепящее отличие: утраченная свобода.
Со мной обращались сурово, и вместо раздумий о плене я был целиком занят залечиванием своих ран, врачеванием которых никто и не думал заниматься, а еще борьбой с голодом и неудобством камер, куда меня бросали. Пока шрамы на руке заживали, а плоть на животе, срастаясь, выталкивала застрявшие в ней осколки, меня постепенно увозили все дальше вглубь России. После более или менее тяжелых перегонов я оказался сначала в Киеве, потом в Казани – конечной точке. Город служил открытой тюрьмой для многих тысяч пленных солдат и офицеров, захваченных во время войны с Польшей. Меня поместили на жительство в дом одного ювелира. Относились ко мне хорошо, и я понемногу оправлялся от ран. В этом мирном жилище, вернувшись к почти нормальной жизни, я поначалу сильно загрустил. В свои почти двадцать восемь лет я не видел перед собой никакого будущего и, не зная, куда заведет меня судьба, в отчаянии полагал, что моя молодость пропадет втуне в этой ссылке.
К большому счастью, когда я выздоровел и смог выходить в город, я встретил своего друга Олега Винблада. Его постигла та же участь, что и меня, а его дом был неподалеку. Возобновились наши беседы и прогулки. Русские жители города не питали к нам враждебности, и Олег ввел меня во множество салонов, где проходили дружеские ужины. Вскоре мы стали вести образ жизни почти светский, но немного странный: мы хоть и могли свободно выходить из дома, завязывать дружеские связи и участвовать в вечеринках, возвращаться мы были обязаны в тот дом, который был нам предписан. В целом у нас сложилось ощущение, что дух наш свободен, а тело в плену. На самом деле и дух наш был не так уж свободен, поскольку губернатор имел в городе сеть шпионов, а значит, нам следовало проявлять осторожность.
Мы быстро осознали, что большое число русских, с которыми мы встречались, питали ту же ненависть к тирании, которая заставила нас взяться за оружие. О царице они отзывались резко. Мы их слушали с осторожной благожелательностью. Некоторые доверительно сообщили нам, что у них уже есть планы восстания и многие города, вплоть до самой Москвы, тоже готовятся к мятежу. Слишком малочисленные, чтобы надеяться в одиночку одолеть императорские силы, эти русские заговорщики рассчитывали на нас, иностранных пленных, чтобы соединить наши силы со своими. Еще они очень ждали татар, которые вскоре должны были пойти на город. Недавнее вступление Турции в войну против русской армии окончательно убедило этих мусульман поднять восстание. Мы лавировали в опасной среде, желая выразить наше одобрение людям, влюбленным в свободу, как и мы сами, но вынужденные следить за своими словами, которые, без сомнения, дойдут до ушей полиции. В этом деле я оказался на передовой: пленные делегировали меня, чтобы поддерживать связь с руководителями заговора.
Увы, с тех пор как я покинул замок моего детства, мне хватило времени здраво оценить свой характер. Природа наделила меня крупным телом, которое вы видите, и склонностью по-братски относиться к людям, чем я обязан, конечно же, Башле. Такое телосложение в сочетании с подобным нравом имеет свои преимущества: я без труда увлекаю за собой тех, кто оказался под моим началом, я вызываю естественную симпатию в компаниях, а перейдя к действию, быстро оказываюсь в первых рядах и говорю от лица других. Неудобство в том, что мне не удается остаться незамеченным. И когда, как в Казани, я вращаюсь в кругах, находящихся под наблюдением, меня неизбежно берут на заметку и считают вожаком.
Что касается заговора, из-за личных распрей о нем было доложено губернатору, тот решил рубить головы, причем моя была названа первой. Он отдал приказ схватить меня. Стоял ноябрь. Была ночь. Ювелир, хозяин дома, уже спал. Я разжег огонь посильней и в десятый раз, наверное, перечитывал «Робинзона Крузо» в польском переводе, которого Олег умудрился сохранить при себе. В дверь постучали. В ночной рубашке и фланелевом белье я спустился открыть.
Офицер спросил, дома ли граф Бенёвский. Я на мгновение заколебался, потом ответил, что он спит наверху, в своей комнате. Офицер забрал у меня из рук канделябр и вместе со стражей бросился вверх по лестнице. Я воспользовался этим, чтобы сбежать. Кинулся будить Олега. Он спешно собрался, дал свою куртку, которая была мне мала, и, одетый таким образом, я двинулся за ним по пустынным улицам к городским воротам. В ближайшей деревне у какого-то крестьянина мы сторговали – по непомерной цене – лошадей. Ночь была холодная и ясная. При свете почти полной луны мы пустили своих рабочих коняг тяжелым галопом по дороге на Москву. Мы знали, что у одного из дворян-заговорщиков было поместье в том направлении. Несколько недель назад мы получили разрешение навестить его там. На въезде в аллею, ведущую к его дому, стоял могучий кедр, который мы без труда узнали. Просторный дом был погружен во мрак, и когда мы стали колотить во входную дверь, то услышали шум поднявшегося переполоха. Дом переходил на осадное положение. Владелец наверняка опасался налета полиции. Когда он открыл окно и увидел двух безоружных людей, один из которых был в ночной рубашке и домашних тапочках, держащих под уздцы двух тяжеловесных рабочих кляч, у него на лице появилось такое изумленное выражение, что, несмотря на опасность, мы расхохотались.
Оправившись от удивления, этот благородный человек в большой спешке снабдил нас всем необходимым для бегства. Он одел нас, выдал подорожную и достаточно денег, чтобы проделать долгое путешествие. Почтовыми каретами или верхом нам предстояло добраться до Москвы, а потом до Санкт-Петербурга, не привлекая особого внимания.
Мы преодолели эти огромные расстояния с легким сердцем и не торопясь. Мы были еще не на свободе, но уже и не в плену. А раз уж мы не ведали своей дальнейшей судьбы после стольких расставаний и ссылок, то хотели насладиться сегодняшним днем, подаренным нам Провидением, в которое Башле не верил. Прибыв в столицу, я снял квартиру, и мы разыграли маленькую комедию: я выдал себя за путешествующего графа, а Олег – за моего слугу.
Какой-то немец, с которым я познакомился, прогуливаясь по берегу Невы, узнав, что я хотел бы двинуться в сторону Европы, указал мне на одного голландского капитана. В тот же вечер я отправился к нему. Это был рослый молчаливый субъект, казалось обтесанный морем; ветры избороздили морщинами его лицо, соленая вода выбелила волосы, а редкий свет северных небес придал глазам оттенок зыби. На физиономии этой статуи невозможно было различить ни малейшего выражения, и я так и не понял, поверил ли он в мою историю про хозяина и слугу. Я даже не выяснил, на каком языке он говорил; он не выказал ни малейшей реакции на мой рассказ, который я повторил по-немецки, по-французски и по-русски. Цену он обозначил на пальцах. Мы сошлись на пятистах рублях, и я сказал, что мы придем вечером с багажом.
Непробиваемость этого моряка мешает мне поверить, что он был осведомителем или предателем. Предательство требует гибкости, которой он был начисто лишен. Вероятнее всего, за ним следили, как за всеми владельцами кораблей, которые могли брать пассажиров. А скорее всего, полиция шла по нашим следам и терпеливо стягивала сети еще с нашего бегства из Казани. В любом случае, когда мы снова появились вечером, чтобы подняться на борт, нас поджидал взвод солдат.
Нас препроводили в Петропавловскую крепость. После нелепых допросов, угроз пытками, которые, к счастью, не были приведены в исполнение, и инсценированного суда было вынесено решение, что мы навсегда покинем владения царицы и дадим клятву никогда не поднимать против нее оружия.
Вместо этого несколькими днями позже нас извлекли из тюрьмы, облачили в одежду из бараньих шкур и уложили в сани. Зима сковала землю морозом. Неподвижные кучерявые тучи наблюдали за нами с неба. Мы думали, что нас везут в направлении Польши, как обязывало постановление суда. Увы, по мере того как сани скользили по снегу с чудесным перезвоном колокольчиков, мы узнавали деревни, по которым проезжали во время нашего бегства. И судя по положению солнца, вскоре сомневаться уже не приходилось: нас увозили на восток.
Абсолютизму тиранов всегда сопутствует произвол их правосудия. Наше наказание изменили, и мы так никогда и не узнали, кто это сделал и почему. Нас сослали в Сибирь.