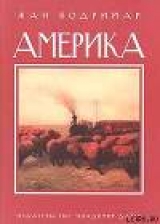
Текст книги "Америка"
Автор книги: Жан Бодрийяр
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Различия, проводимые за пределами Америки, в принципе не имеют здесь смысла. Бесполезно выделять черты американской цивилизации, на самом деле зачастую значительно превосходящей нашу (страну "высокой культуры") и в то же время утверждать, что это варвары. Бесполезно противопоставлять долину Смерти как возвышенный природный феномен и Лас Вегас как омерзительное явление культуры. Ибо первое – скрытая сторона второго, и они, по разные стороны пустыни, соответствуют друг другу как апогей проституции и зрелища апогею тайны и тишины.
Именно благодаря этому долина Смерти несет в себе что-то таинственное. Это иная красота, иная нежели та, которую являют пустыни Юты и Калифорнии вместе взятые, это красота возвышенная. Дымка чудовищной жары, которая ее окутывает, инверсированная (ниже уровня моря) глубина, подводный характер этого пейзажа с соляными озерами и mudhills,[55]55
Грязевые холмы (англ.).
[Закрыть] кольцо высоких гор, которые придают этой картине вид замкнутого святилища, – место инициации, образованное земными провалами и очерченное лимбами, играющими всеми цветами спектра. Что меня всегда поражало так это зыбкость аллеи Мертвых, ее пастельные цвета, ее окаменевший покров, туманная фантасмагория ее темно-красных пород. Ничего унылого и болезненного: трансверберация, где все осязаемо, кристальная прозрачность воздуха, кристальная чистота света, корпускулярная аура цвета, полная экстраверсия тела среди жары. Участок какой-то другой планеты (во всяком случае место, куда не ступала нога человека), предлагающий иную, более глубокую темпоральность, по которой вы скользите как по тяжелой воде. Сознание, рассудок, само чувство принадлежности роду человеческому притупляются перед этим чистым, нетронутым знаком, которому 180 миллионов лет, и неумолимой загадкой нашего собственного существования. Это единственное место, где одновременно с цветовым спектром можно было бы воскресить спектр нечеловеческих метаморфоз, предварявших наше появление, этапы нашего последовательного развития: минералы, растительность, соляная пустыня, песчаные дюны, камни, руда, свет, тепло – все то, чем могла быть земля, все нечеловеческие формы развития, пройденные землей, объединенные в одном антологическом видении.
Пустыня – это естественное расширение внутренней тишины тела. Если язык, техника, сооружения человека – суть распространение его конструктивных способностей, то только пустыня есть распространение его способности к отсутствию, идеальный образ его исчезнувшей формы. Покидая Мохав, говорит Бунхам, по крайней мере на протяжении пятнадцати миль возникают сложности с адаптацией. Глаз не может сфокусироваться на близких объектах. Он больше не может полностью концентрироваться на вещах, и привлекающие внимание природные объекты или постройки, возведенные человеком, кажутся ему только досадными препятствиями, преграждающими путь взгляду. После возвращения из пустыни глаз вновь принимается искать ту совершенную пустоту, он только и может, что представлять себе пустыню сквозь обжитые пространства и всевозможные пейзажи. Сильное отвыкание, которое никогда не бывает полным. Отодвиньте от меня всякую субстанцию… Но пустыня это нечто иное, нежели пространство, освобожденое от всякой субстанции. Она подобна тишине, которая не просто отсутствие звуков. Нет необходимости закрывать глаза, чтобы ее услышать. Ибо это также и тишина времени.
Здесь, в долине Смерти, присутствует и момент определенной кинематографии. Ибо вся ее таинственная геология также представляет собой сценарий. Американская пустыня – это драматургия необычная, совершенно не театральная, в отличие от каких-нибудь альпийских уголков, и не такая сентиментальная, как лес или деревня. Не выветренная и однообразная, как освещенная луной австралийская пустыня. Не мистическая, как пустыни Ислама. Американская пустыня наполнена чисто геологическим драматизмом, соединяющим в себе наиболее острые и наиболее гибкие формы с формами подводными, самыми мягкими и самыми нежными: вся изменчивость земной коры дана там в синтезе, в неожиданном ракурсе. Все понимание земли и ее элементов собрано здесь, в зрелище, не имеющем себе равных: в зрелище геологического сверхпроизводства. Не только кино создало для нас кинематографическое видение пустыни, сама природа, задолго до людей, преуспела здесь в создании своего самого прекрасного спецэффекта
Бесполезно пытаться лишить пустыню ее киногеничности, чтобы сохранить ее первоначальное качество – двойное экспонирование здесь всеобъемлюще и непрерывно. Индейцы, mesas,[56]56
Mesa (исп.) – плато, образованное остатками вулканических пород, подвергнувшихся эрозии
[Закрыть] каньоны, небеса – все поглотило кино. И тем не менее, это наиболее захватывающее зрелище в мире. Следует ли предпочесть ему «аутентичные» пустыни и затерянные оазисы? Для нас, людей современных и сверхсовременных, как и для Бодлера, который смог уловить в искусстве тайну истинной современности, захватывающим является только естественное зрелище, которое в одно и то же время обнаруживает как наиболее волнующую глубину, так и тотальную симуляцию этой глубины То же и здесь, где глубина времени открывается в глубине кадра (кинематографического). Долина Памятников – это геология земли, это индейский мавзолей и кинокамера Джона Форда. Это эрозия, это массовое истребление, но вместе с тем это тревелинг и аудиовизуальный ряд. Первое, второе и третье соединены в одном видении, которое нам здесь дано. И каждый этап незаметно завершает предыдущий. Уничтожение индейцев нарушает естественный космологический ритм здешних пейзажей, с которыми на протяжении тысячелетий было связано их магическое существование. Вместе с пионерами цивилизации на смену крайне медленному процессу пришел процесс неизмеримо более быстрый. Пятьюдесятью годами позже он сменится кинематографическим тревелингом, который еще ускорит этот процесс и некоторым образом остановит исчезновение индейцев, воскрешая их как статистов. Таким образом, этот пейзаж оказывается своего рода хранителем всех геологических и антропологических событий, вплоть до самых недавних. Отсюда и та особенная сценография пустынь Запада, заключающаяся в том, что они соединяют в себе древнейшие иероглифы, ярчайшую светоносность и самую бесконечную поверхностность.
Цвет здесь распадается на мельчайшие частицы и оторван от субстанции, преломлен в воздухе и скользит по поверхности вещей – отсюда и впечатление призрачности (ghostly), и в то же время затуманенности, полупрозрачности, спокойствия и оттененности пейзажей. Отсюда эффект миража, и вдобавок миража времени, столь близкого к полной иллюзии. Камни, пески, кристаллы, кактусы – все это вечно и вместе с тем эфемерно, нереально и оторвано от своих субстанций. Растительность скудна, но каждой весной она чудесным образом расцветает. Зато свет субстанциален, распылен в воздухе, именно он сообщает всем цветам тот характерный пастельный оттенок, который подобает развоплощению, отделению души от тела. В этом смысле можно говорить об абстрактности пустыни, об органическом освобождении, об обратной стороне низменного перехода тела к телесному небытию. Иссушенная, сияющая фаза смерти, где завершается разложение тела. Пустыня находится по ту сторону этой проклятой фазы гниения, этой влажной фазы тела, этой органической фазы природы.
Пустыня – возвышенная форма, отстраняющая всякую социальность, всякую сентиментальность, всякую сексуальность. Слово, пусть даже ободряющее – здесь всегда неуместно. Нежности не имеют смысла, если только женщина сама не опустошена охватившим ее на мгновение животным состоянием, когда плотское желание сочетается с безводной развоплощенностью. Но ничто не сравнится с тем, когда на долину Смерти и на веранду перед дюнами, на бесплотные прозрачные кресла мотеля в молчании спускается ночь. Жара при этом не спадает, просто наступает ночь, разрываемая автомобильными фарами. Тишина неслыханная, или, наоборот, она вся слышима. Это не тишина холода или наготы, не тишина отсутствия жизни – это тишина теплоты всего простирающегося перед нами на сотни миль неорганического пространства, тишина легкого ветра, стелящегося по поверхности солоноватой грязи Бадватер, ветра, ласкающего металлоносные пласты на Телефон Пик. Внутренняя тишина самой аллеи, тишина подводной эрозии – ниже уровня течения времени, как и ниже уровня моря. Здесь нет движения животных, здесь ничто не спит, ничто не разговаривает во сне; каждый вечер земля погружается здесь в абсолютно спокойные сумерки, в темноту своего щелочного зачатия, в счастливую низину своего детства.
Задолго до отъезда я живу одними воспоминаниями о Санта-Барбаре. Санта-Барбара это всего лишь сновидение со всеми процессами, которые там протекают: набившая оскомину реализация всех желаний, конденсация, смещение, легкость… все это очень быстро становится ирреальным. О, прекрасные дни! Этим утром на балконе умерла птица, я сфотографировал ее. Но никто не безразличен к своей собственной жизни, и малейшие катаклизмы все еще вызывают волнение, В своем воображении я был здесь задолго до того, как приехал сюда, и внезапно это мое местопребывание стало хранилищем моей прошлой жизни. В последние недели время будто бы умножилось благодаря тому чувству, что меня уже больше не будет здесь и что каждый день я ощущаю Санта-Барбару, с ее роковой притягательностью и безвкусицей, как предопределенное место вечного возвращения.
В зеркальце заднего обзора памяти все исчезает, быстрее и быстрее. Два с половиной месяца изглаживаются за несколько мгновений переключения сознания, которое происходит еще более быстро, чем jet leg.[57]57
Нарушение биологического ритма при перелете из одного часового пояса в другой.
[Закрыть] Сложно удержать живое восхищение, внезапное озарение, сложно сохранить силу воздействия вещей. Все это проходит скорее, чем возникает. Когда-то была милая привычка пересматривать фильмы; теперь она исчезает. Сомневаюсь, что мы будем переживать свою жизнь заново за одно мгновение смерти. Сама возможность Вечного Возвращения становится ненадежной: эта чудесная перспектива предполагает, что вещи должны восприниматься в необходимой и неизбежной последовательности, которая превосходит их самих. Ничего подобного нет сегодня, когда эта последовательность неустойчива и лишена будущего. Вечное Возвращение – это возвращение бесконечно малого, дробного, это навязчивый повтор микроскопического и нечеловеческого масштаба, это не экзальтация воли, не утверждение незыблемости одного и того же события, не его окончательное закрепление знаком, как этого хотел Ницше, – это вирусное возобновление микропроцессов, которое, разумеется, неизбежно, но которое никакой могущественный знак не сделает фатальным для воображения (ни атомный взрыв, ни вирусная имплозия не могут быть схвачены воображением). Таковы события, которые нас окружают: микроскопические и мгновенно стирающиеся.
Возвращаться из Калифорнии – значит возвращаться в уже виденный, уже изжитый нами универсум, который лишен очарования предшествующей жизни. Он был покинут в надежде, что он изменится в ваше отсутствие, но ничего такого не произошло. Он хорошо обходился без вас, и он быстро приспособится к вашему возвращению. Люди и вещи ведут себя так, чтобы создавалось впечатление, что вы и вовсе не уезжали. Я сам покинул все это без угрызений совести и обрету без особого волнения. Люди в тысячу раз больше заняты своими мелкими событиями, чем странностями какого-то чужого мира. Поэтому рекомендуется скромно приземлиться и вежливо сойти вниз, затаивая дыхание и воскрешая несколько картин, которые еще сияют в ваших воспоминаниях.
Противопоставление (а не сопоставление) Америки и Европы выявляет существующее между ними несоответствие и непреодолимый разрыв. И не просто разрыв, а целую пропасть современности – вот что нас разделяет. Современными рождаются, современными не становятся. Мы так никогда и не стали ими. В Париже бросается в глаза XIX век. Приезжая из Лос-Анджелеса, попадаешь в XIX век. Каждая страна несет в себе что-то вроде исторического предназначения, которое решительным образом определяет ее черты. Для нас – это буржуазная модель 1789 г. и бесконечное разложение этой модели, которая определяет очертания нашего пейзажа. Ничего не поделаешь: все здесь крутится вокруг буржуазных грез XIX века.
ВОПЛОЩЕННАЯ УТОПИЯ
Для европейца Америка и по сей день соответствует скрытой форме изгнания, фантазму эмиграции и изгнания и, таким образом, форме усвоения его же собственной культуры. В то же время Америка соответствует агрессивной экстраверсии и, таким образом, нулевой степени этой самой культуры. Никакая другая страна не воплощает с такой полнотой функцию раз-воплощения и в то же время обострения, радикализации того, что присутствует в наших европейских культурах… Внезапный переворот или шок, вызванный потерей своего географического пространства, которое, с точки зрения отцов-основателей XVII века, удваивает добровольную эмиграцию человека внутрь собственного сознания, на Новом Континенте превратили в прагматический экзотеризм то, что в Европе было критическим и религиозным эзотеризмом, Все устройство американского общества основывается, с одной стороны, на утверждении морального закона в сознании людей, на радикализации утопических требований, всегда носивших сектантский характер, а с другой стороны – на непосредственной материализации этой утопии в труде, нравах и образе жизни вообще. Прибытие в Америку и по сей день представляет собой приобщение к той «религии» образа жизни, о которой говорил Токвиль. Изгнание и эмиграция превратили материальную утопию образа жизни, успеха и действия в совершенную иллюстрацию нравственного закона и в какой-то мере трансформировали ее в первосцену. На нас, европейцев, оказала большое влияние революция 1789 года, отметившая нас, правда, иной печатью: печатью Истории, Государства и Идеологии. Нашей первосценой остаются политика и история, а не утопия и мораль. И если «трансцендентная» революция для европейца уже лишена целей и средств, то мы не можем сказать то же самое об имманентной революции американского образа жизни, о том утверждении прагматизма и морализма, которое сегодня, как и вчера, составляет патетику Нового Света.
Америка – это оригинальная версия современности, мы же – версия дублированная или с субтитрами. Для Америки вопрос об истоке не существует, она не культивирует ни свои корни, ни какую-то мифическую аутентичность, она не имеет ни прошлого, ни основополагающей истины. Не ведая первичного накопления времени, Америка постоянно живет в современности. Не зная медленной, многовековой аккумуляции принципа истины, она живет постоянной симуляцией, в постоянной актуальности знаков. Америка не имеет своей пратерритории, земли индейцев сегодня превратились в резервации и представляют собой музеи вроде тех, где хранятся картины Рембрандта и Ренуара. Да это все и не важно – у Америки нет проблем, связанных с идентификацией. Ибо будущее могущество окажется в руках народов без корней, без аутентичности: народов, которые сумеют извлечь из этого все, что возможно. Посмотрите на Японию, которая в чем-то ярче, чем США, иллюстрирует это за счет непостижимого парадокса, связанного с преобразованием территориальной и феодальной замкнутости в могущество, не зависящее от исходных условий. Япония – это уже спутник планеты Земля, Но в свое время Америка была уже спутником планеты Европа. Хотим мы этого или нет, будущее – за искусственными спутниками.
Соединенные Штаты – это воплощенная утопия. Не стоит судить об их кризисе так же, как мы судим о нашем – кризисе старых европейских стран. У нас – кризис исторических идеалов, вызванный невозможностью их реализации. У них – кризис реализованной утопии, как следствие ее длительности и непрерывности. Идиллическая убежденность американцев в том, что они – центр мира, высшая сила и безусловный образец для подражания – не такое уж заблуждение. Она основана не столько на технологических ресурсах и вооруженных силах, сколько на чудесной вере в существование воплотившейся утопии – общества, которое с невыносимым, как это может показаться, простодушием, зиждется на той идее, что оно достигло всего, о чем другие только мечтали: справедливости, изобилия, права, богатства, свободы; Америка это знает, она этому верит и, в конце концов, другие тоже верят этому.
В современном кризисе ценностей весь мир в конце концов обращается к культуре, которая осмелилась путем сенсационного переворота разом материализовать эти ценности, к культуре, которая благодаря географической и ментальной отъединенности эмигрантов могла помыслить о том, чтобы создать во всех отношениях идеальный мир; не надо, к тому же, пренебрегать фантазматическим освещением всего этого в кино. Что бы там ни было, что бы ни думали о высокомерии доллара или корпорациях, американская культура благодаря бредовой убежденности, что в ней реализованы все мечты, притягательна для всего мира и даже для тех, кому она причиняет страдания.
Впрочем, убеждение это не столь уж бредовое: все общества, созданные первооткрывателями, в той или иной мере были идеальными. Даже иезуиты в Парагвае и португальцы в Бразилии создали в каком-то смысле идеальное, патриархальное, рабовладельческое общество, но, в отличие от модели северян – англосаксонцев и пуритан, модель южан не могла стать универсальной для современного мира. По мере того, как идеал экспортируется, гипостазируется по ту сторону океана, он очищается от своей истории, развивается, получая свежую кровь и энергию экспериментаторства, Динамизм "новых миров" всегда свидетельствует об их превосходстве над той страной, откуда они вышли: они осуществляют идеал, который остальные лелеют как конечную и (втайне) недостижимую цель.
В этом смысле колонизация была мировой сенсацией, оставившей повсюду, даже когда она закончилась, глубокие и ностальгичные следы. Для Старого Света она представляет единственный в своем роде опыт идеализированной коммутации ценностей, почти как в научно-фантастическом романе (атмосферу которого она сохраняет, как, например в Соединенных Штатах), что приводит к короткому замыканию в дальнейшей судьбе этих ценностей в тех странах, откуда они вышли. Внезапное появление этого общества на карте сразу упраздняет значение обществ исторических. Усиленно экстраполируя свою сущность за море, последние теряют контроль над собственной эволюцией, Идеальная модель, которую эти общества выделили, упразднила их самих. И никогда больше эволюция не возобновится в форме плавного поступательного движения. Для всех ценностей – до сей поры трансцендентных – момент их реализации, проецирования или ниспровержения в реальное пространство (Америка) – момент необратимый. В любом случае именно это отличает нас от американцев. Мы никогда не догоним их, и мы никогда не будем иметь их простодушной убежденности. Мы можем лишь подражать им, пародировать их с опозданием на пятьдесят лет – впрочем, безуспешно. Нам недостает души и дерзости того, что можно было бы назвать нулевой степенью культуры, силой не-культуры. Так или иначе мы напрасно пытаемся приспособиться к этому видению мира, которое всегда будет ускользать от нас, точно так же как трансцендентальное и историческое мировоззрение (Weltanschauung) Европы будет ускользать от американцев. Так же, как страны третьего мира не в состоянии усвоить ценности демократии и технологического прогресса: непреодолимые разрывы существуют и не сглаживаются.
Мы останемся утопистами, тоскующими по идеалу, но, в сущности, испытывающими отвращение к его реализации, признавая, что все возможно, но никогда не признавая, что все осуществлено. Так утверждает Америка. Наша проблема заключается в том, что наши старые ценности – революция, прогресс, свобода – исчезли, прежде чем мы к ним приблизились, так и не получив возможности материализоваться. Отсюда и меланхолия. У нас нет никаких шансов на сенсацию.
Мы живем в отрицании и противоречиях, они живут в парадоксе (ибо идея воплощенной утопии парадоксальна). И особенности американского образа жизни во многом определяются этим прагматическим и парадоксальным юмором, в то время как наш образ жизни характеризуется (характеризовался?) изощренностью критического ума. Хотя американские интеллектуалы завидуют нам в этом и хотели бы усвоить эти идеальные ценности, историю, воскресить философские или марксистские деликатесы старой Европы. Вразрез со всем тем, что составляет их изначальное бытие, поскольку очарование и могущество американской вне-культуры в действительности происходит из непосредственной материализации и без каких-либо предшествующих моделей.
Когда я вижу американцев, особенно интеллектуалов, с тоской поглядывающих на Европу, ее историю, ее метафизику, кухню, прошлое, я говорю себе, что речь идет в данном случае о каком-то неудавшемся переносе. История и марксизм в чем-то подобны тонким винам и кухне: они не прижились за океаном, несмотря на трогательные попытки их привить. Это справедливый реванш за то, что мы, европейцы, так никогда и не смогли на деле приручить современность, которая оказалась не в состоянии пересечь океан в обратном направлении. Существуют продукты, которые не выносят транспортировки. Тем хуже для нас, тем хуже для них. Если для нас общество – это цветок ядовитый, то для них история – это цветок экзогенный. Его аромат внушает доверие не большее, чем букет калифорнийских вин (нас хотят сегодня заставить поверить в обратное, но из этого ничего не выходит).
Возникает ощущение, что не только историю, но и современную стадию развития капитала в этом «капиталистическом» обществе догнать никогда не удается. Да и нет вины наших марксистских критиков в том, что, как бы они ни гнались за капиталом, они не в состоянии за ним поспеть. Когда они настигают одну его фазу, он уже перешел к другой (Е. Мандел и его третья фаза мирового капитала). Капитал хитер, он не играет в критические игры, игры истории, он обманывает диалектику, которая описывает его лишь задним числом, в запаздывающей революции. Даже революции, направленные против капитала, совершаются лишь затем, чтобы дать новый импульс его собственной революции: они тождественны exogenous events,[58]58
Экзогенное событие (англ.).
[Закрыть] о которых говорит Мандел, – таким, как войны или кризисы, как открытие золотых приисков, – событиям, которые переводят процесс развития капитала на другие рельсы. В конце концов все эти мыслители сами демонстрируют тщетность своих надежд. Заново изобретая капитал на каждой его стадии, исходя из примата политической экономии, они доказывают абсолютное лидерство капитала как исторического события. Они попадают в ловушку, которую сами себе уготовили, лишая себя малейшей надежды выбраться из нее. При этом подтверждается – и, может быть, в этом состоит их цель – бесконечность их запаздывающего анализа.
Америка никогда не испытывала недостатка ни в силе, ни в событиях, ни в людях, ни в идеях, но все это не составляет истории. Октавио Пас был прав, когда утверждал, что Америка создавалась с намерением ускользнуть от истории, построить утопию, в которой можно было бы укрыться от нее, в чем она, отчасти преуспев, упорствует и по сей день. Понятие истории как трансцендентности социального и политического разума, как диалектически противоречивого понимания общества не принадлежит американцам – точно так же и современность, понимаемая как изначальный разрыв с некоей подлинной историей, никогда не станет нашей. Мы уже довольно давно живем с тягостным ощущением этой современности, чтобы понять это. Европа создала определенный тип феодализма, аристократии, буржуазии, идеологии и революции: все это имело смысл для нас, но больше, в сущности, ни для кого. Все те, кто хотел подражать этому, стали посмешищем или роковым образом сбились с истинного пути (да и мы сами только имитируем себя, мы пережили самих себя). Америка же развивалась в отрыве от исторического прошлого в условиях современности: здесь и нигде больше современность самобытна. Мы можем только подражать ей, не имея сил бросить ей вызов на ее собственной территории. Если уж что-то произошло, то ничего не попишешь. И когда я вижу Европу, мечтающую любой ценой заполучить эту современность, я говорю себе, что и здесь тоже мы имеем дело с неудачным переносом.
Мы всегда в центре, но это центр Старого Света. Они, некогда представлявшие собой маргинальную трансцендентность этого Старого Света, сегодня оказались новым и экс-центричным центром. Экс-центрично само их рождение. Мы никогда не сможем этого отнять у них. Мы никогда не сможем экс-центрироваться, де-центрироваться так же, как они, мы никогда не будем современны в собственном смысле этого слова и никогда не будем иметь той же свободы – не формальной, которую мы пытаемся утвердить, но той конкретной, гибкой, функциональной, активной свободы, которую мы наблюдаем в американском обществе и в сознании каждого его гражданина. Наша концепция свободы никогда не сможет соперничать с их пространственной и подвижной свободой, которая является следствием их освобождения от исторической привязанности к центру.
С того дня, как по ту сторону Атлантики родилась во всей своей мощи эта эксцентричная современность, Европа начала исчезать. Все мифы сместились. Сегодня все мифы современности американские. Сокрушаться об этом не приходится. В Лос-Анджелесе Европа исчезла. Как сказал И. Хупперт, "У них есть все, Они ни в чем не нуждаются. Они завидуют, конечно, и восхищаются нашим прошлым и нашей культурой, но в сущности мы для них что-то вроде изысканного третьего мира".
В сфере политики от первоначальной децентрации навсегда останется федерализм, отсутствие центра, а на уровне культуры и нравов – децентрализация, эксцентричность, характерная, в отличие от Европы, для всего Нового Света. В Соединенных Штатах нет неразрешимой проблемы федерации (разумеется, была война между Севером и Югом, но мы говорим о настоящей федеральной общности), поскольку американцы с самого начала представляли собой культуру, соединившую все национальные и расовые особенности, соперничество и разнородность. Это становится очевидным в Нью-Йорке, где каждое здание по очереди властвовало над городом, где по-своему это делал и каждый этнос и где, однако, все это не порождает разобщенности, а создает определенную энергетику, где нет ни единства, ни множества, а есть только напряженность соперничества, сила антагонизма, создающая сообщество, взаимное притяжение членов коллектива, объединенных, помимо культуры или политики, в неистовстве или в самой банальности образа жизни.
Тот же идейный уровень обусловливает основное различие расово-этнических особенностей в Америке и Франции. Там, в Америке, гремучая смесь из множества европейских рас, и, кроме того, рас экзогенных, породила особую ситуацию. Расовые различия изменили облик страны и придали ей характерную сложность. Во Франции изначально не существовало ни смешения, ни слияния рас, ни вызова, который бросает один этнос другому. Колониальная проблема, оторванная от своего исторического контекста, была просто-напросто перенесена в метрополию. Все иммигрировавшие – это, в сущности, харки,[59]59
Алжирцы – служившие во впомогательных частях французской армии в Алжире (с 1954 по 1962 гг)
[Закрыть] находящиеся под социальным протекторатом своих угнетателей, от которых они отличаются только своей нищетой и фактической пожизненной ссылкой. Иммиграция, возможно, и животрепещущий вопрос, однако присутствие нескольких миллионов иммигрантов не наложило никакого отпечатка на жизнь французов, не изменило облик страны. Именно поэтому, когда возвращаешься во Францию, тебя преследует неотвязное впечатление бытового расизма – явления лживого и постыдного для всего мира. Таково следствие колониальной проблемы, в которой замешана нечистая совесть колониста и колонизированного. В то же время в Америке каждый этнос, каждая раса развивает свой язык, свою конкурентоспособную культуру, превосходящую подчас «коренную», и каждая группа по-очередности одерживает символическую победу. Речь идет не о формальном равенстве или свободе, но о свободе фактической, которая выражается в соперничестве и вызове, что придает конфронтации рас неповторимую динамику и открытость.
Наша европейская культура сделала ставку на универсальность, и опасность, которая ее подстерегает – пасть жертвой этой универсальности. В равной мере это относится как к расширению понятий рынка, денежного обмена или средств производства, так и к империализму идеи культуры. Надо остерегаться этой идеи, которая, как и идея революции, стала универсальной, лишь превратившись в абстракцию, и благодаря этому стала так же пожирать сингулярности, как революция своих собственных детей.
Следствием этой претензии на универсальность, является ее равная неспособность принимать различные формы внизу и объединяться в федерацию наверху. Нация или культура, ставшая централизованной в результате длительного исторического процесса, испытывает непреодолимые трудности как в плане создания жизнеспособных подмножеств, так и в плане интегрирования в когерентные сверхмножества. Над самим процессом централизации тяготеет некий рок. Отсюда возникают нынешние трудности обрести порыв, культуру, европейский динамизм. Отсюда – неспособность продуцировать событие федерального масштаба (Европа), местного масштаба (децентрализация), расовой или многорасовой природы (смешанность). Слишком прочно увязнув в своей истории, мы способны лишь на стыдливую централизованность (плюрализм а ля Клошмерль) и стыдливую скученность (наш вялый расизм).
Принцип воплощенной утопии объясняет отсутствие метафизики и воображения в американской жизни, а также их бесполезность. Он создает у американцев восприятие реальности, отличное от нашего. В реальном нет ничего невозможного, и никакие неудачи не могут заставить усомниться в этом. Что было помыслено в Европе, реализуется в Америке – все, что исчезает в Европе, вновь пояляется в Сан-Франциско!
В то же время идея воплощенной утопии – идея парадоксальная. Если европейское мышление характеризуется негативизмом, иронией, возвышенностью, то мышление американцев характеризуется парадоксальным юмором свершившейся материализации, всегда новой очевидности, всегда удивляющей нас свежести законно свершившегося факта, юмором естественной видимости вещей, в то время как мы склоняемся к тревожному синдрому deja vu – и мрачной трансцендентности истории.
Мы упрекаем американцев за то, что они не умеют анализировать и создавать концепции. Но, обвиняя их в этом, мы несправедливы. Мы воображаем, что все сосредоточивается в трансцендентности, и что не существует ничего, кроме того, что было помыслено в понятии трансцендентного. Они же не только совершенно не заботятся об этом, но видят все это в обратной перспективе. Для них важно не осмысливать реальность, но реализовывать понятие и материализовывать идеи. Не только идеи религии и просвещенной морали XVIII века, но и сновидения, научные достижения, сексуальные перверсии. Они материализуют свободу, а также бессознательное. Они материализуют наши фантазмы пространства и вымысла, а также стремление к искренности и добродетели, или невероятные технические проекты – все то, о чем грезили по эту сторону Атлантики, получило шанс реализоваться по ту. Они производят реальное, исходя из своих собственных идей, мы трансформируем реальное в идеи или в идеологию. В Америке имеет смысл только то, что происходит или проявляется, для нас – только то, что мыслится или скрывается. Даже материализм в Европе – это только идея, тогда как в Америке материализм воплощается в технической модернизации вещей, в преобразовании образа мышления в образ жизни, в «съемке» жизни, как говорят в кино: Мотор! – и камера заработала. Ибо материальность вещей – это, конечно же, их кинематография.








