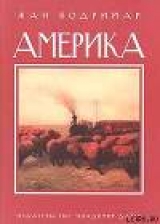
Текст книги "Америка"
Автор книги: Жан Бодрийяр
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Судьба энергии
Прототипом хаотического состояния вследствие гиперстабилизации исходных данных системы является судьба энергии. Наша культура уже не переживает периодов свободного состояния энергии. Все мировые процессы обрели регулярный, связанный характер, но принцип свободного состояния энергии оказался не нарушенным. Несвязанная энергия переходит на другие уровни. Сам человек понимается как освобожденный источник энергии, как мотор, как ускоритель истории. Энергия есть не что иное, как фантазматическая проекция, которая пожирает все индустриальные и технические мечтания современности и приводит к пониманию человека на основе волевой динамики. Благодаря современной физике мы знаем о турбулентностях, хаосе, катастрофах, которые возникают в результате ускорения, когда прямые линии скручиваются и превращаются в кривые.
Настигающая нас катастрофа состоит не в исчерпании ресурсов. Энергии во всех ее формах все еще много, и ее хватит на обозримое будущее. Атомная энергия, энергия солнца, потоков воды и воздуха и даже природных катастроф и вулканов, вращения Земли – все это неисчерпаемо, если доверять техническим расчетам. Драматична лишь динамика неравновесности, из-за которой несвязанная энергия может привести к катастрофе. Мы знаем уже пару спектакольных примеров такого освобождения атомной энергии – Хиросима и Чернобыль, но, вообще говоря, все цепные реакции, будь то вирусы или деление частиц, – потенциально катастрофичны. Нет никакой защиты ни от эпидемии, ни от атомного оружия. Общая система преобразования мира на основе энергии, кажется, неизбежно включает эту вирулентную, эпидемическую фазу, ибо по своей сути энергия – есть трата, падение напряжения, различие, неравновесность, миниатюрный взрыв, который производит позитивный эффект, но имеет тенденцию выйти из-под контроля и разразиться в форме катастрофы. Можно рассматривать энергию как причину и как действие, которое репродуцирует само себя. Парадокс состоит в том, что она, с одной стороны, связывает причины, а с другой – развязывает действия. Но из-за переохлаждения системы трансформация и циркуляция энергии разрушаются, и она начинает пожирать самое себя.
Посмотрим на Нью-Йорк. Его чудо в том, что там каждое утро все начинается заново, а к вечеру все расходуется. Это совершенно необъяснимо, если не исходить из того, что нет никакого разумного принципа траты и восстановления энергии, и функционирование такого мегаполиса не подчиняется второму началу термодинамики, или что он пожирает энергию секса, алкоголя, наркотиков, шума, выхлопных газов. Специалисты по теории множеств пытаются понять исходный импульс энергии, который лежит в основе ее расходования. В Нью-Йорке это расходование становится спектакольным. Переохлаждение приписывается сексуальной энергии, которая переходит в ментальную активность. Это похоже на трупное окоченение кадавра, который болтает ногами будучи мертвым. Благодаря неподвижности мертвеца его скорость стремительно возрастает.
После Мандевиля мы знаем, что источником энергии общества могут быть эксцессы, зло, пороки. Это противоречит экономическому постулату, согласно которому израсходованное должно возмещаться трудом. Мы наблюдаем обратное: чем больше расход, тем больше энергии в обществе. Поэтому следует учитывать именно энергию катастрофы, а не экономический расчет. Определенная доза преувеличения, свойственная духовным процессам, тем не менее позволяет таким образом подходить и к материальным процессам. Людей тоже нельзя понять, исходя из принципа эквивалентности. Так черпают свою энергию жители Нью-Йорка – из зачумленного воздуха, скорости, паники, страха, из нечеловеческих условий существования. Сюда можно добавить наркотики и связанные с ними формы обмена. Все идет в ход, Цепная реакция тотальна. Всякое представление о нормальном функционировании опровергается. Все взаимодействует в общем потоке преувеличения, от которого все получают импульс жизни и вновь тратят полученное как одержимые, с холодной страстью оставшихся в живых. Изымать людей из этого процесса ускорения и растраты было бы двойной ошибкой, так как именно они являются источником аномальной энергии нормального мира, и поэтому они должны меньше двигаться, чтобы больше накапливать эту необходимую энергию. Чтобы сохранять общественное равновесие, они должны стать актерами городской неутомимости.
Сегодня риск, идущий от человеческой природы, еще меньше, чем тот, который вызывается недостаточностью природных ресурсов. Гораздо больший риск связан с эксцессом, который сходен с безумной независимостью цепной реакции. Это различие является решающим: риск, связанный с недостатками, уменьшает новейшая политическая экология (принципы которой общепризнаны в мире), но она ничто по сравнению с опасным ускорением развития. В определенных странах возможно установление экологического равновесия, а в других движение приводит к дисбалансу. С одной стороны, можно уравновесить этические и материальные принципы, а с другой – бесконечное развитие по направлению к одной цели может привести к адсорбции трансценденции и поглощению ею своих актеров. Очевидно, что охватившая всю планету шизофрения направляет производство на экологию, на стратегию правильного использования и идеальной интеракции человека с природой, и одновременно предприниматели развязывают безудержное производство.
Цель одного движения кажется относительно ясной (спасение природы), но мы ничего не знаем о тайных определенностях другого движения. Не является ли это эксцентрическое движение судьбой человеческого рода, другим символическим отношением человека к миру, гораздо более сложным, чем равновесие и интеракция? Оно таит в себе витальную потребность и тотальный риск.
Может ли тотальный бог экологии справиться с ускорением техники и энергии в направлении непредсказуемого конца или, может быть, мы имеем дело с разновидностью игры, правила которой нам неизвестны? Очевидны перверсивные последствия всех наших мер предосторожности и контроля. Кто знает, к каким опасным последствиям приведут профилактики в экономической, социальной, медицинской, политической сферах: под знаком безопасности может установиться эпидемический террор. Ясно одно: комплексность исходных данных, непредсказуемость всех возможных эффектов не оставляет никаких сомнений относительно ограниченности научных прогнозов. Процессы, в которых как индивиды, так и коллективы выступают своеобразными актерами, дают возможность различия добра и зла только в маленьких ограниченных сферах. В сложных же комплексных общих процессах, где существует непредусматриваемая возможность катастрофы, невозможно требовать, чтобы счастье существовало без несчастья, а добро без зла. Это и есть теорема негативной частицы: нет никакого смысла спрашивать, почему так, а не иначе. Кто задается таким вопросом, впадает в еще большую иллюзию. Это не уменьшает властности в этической, экологической, экономической областях, но релятивирует ее значение в символической сфере, которая является сферой судьбы.
Теорема негативной частицы
Непереработанные продукты позитивности имеют ужасные последствия. Если негативное ведет к кризису и критике, то позитивное – к катастрофе, вызванной невозможностью дозировать кризис и критику. Структура, отбрасывающая негативные элементы, начинает безудержно развиваться и погибает подобно живому организму, который в стерильных условиях полностью теряет иммунитет к болезнетворным бациллам и паразитам, заболевает раком. Поглощая свои антитела, позитивность подвергает организм вирусному риску.
Тот, кто сможет уничтожить неконтролируемые процессы, победит саму смерть. Это теорема негативной частицы. Ее энергия и власть – это принцип зла. Оно проявляет свое упрямство за фасадом истертого консенсуса в вирулентности, ускорении, в эксцессах и парадоксах, в радикальной враждебности, в самостоятельных аттракторах. Принцип зла – не моральный, а системный. Это принцип неустойчивости, принцип комплексности и чуждости, несоединимости, антагонизма и нередуцируемости. Но это и не принцип смерти в противоположность витальному принципу соединения. Согласно легенде о рае и грехопадении, это принцип познания. Мы выполняем то, что знаем. Любая попытка выкупа незаконной частицы, выкупа принципа зла может привести к появлению искусственного рая консенсуса, управляемого принципом смерти. Анализировать современные системы в их катастрофических формах, в их апориях – значит снова вводить теорему незаконной частицы, значит попытаться учесть ее неразрушимую символическую власть.
Однако принцип зла реализуется не в критической, а в криминальной форме. Ее оправдание невозможно в современном либеральном обществе. Позиция, защищающая злое и бесчеловечное, отвергается обществом на Севере и на Юге, на Западе и на Востоке. Это приводит к тому, что мораль как бы оказывается в башне из слоновой кости и остается неизменной. Мир пребывает в иллюзии прекраснодушия, отвергая субъективную энергию зла. Но она счастливо проживает в самих вещах, как объективная энергия зла. Это и есть незаконная частица, аттрактор, судьба, неопределенность, как элемент патофизики неуправляемых процессов, Эксцентричность нашей системы непреодолима. Гегель испытывал страх перед жизнью, которая движется благодаря тому, что умирает. По ту сторону ее нет никаких воздействий и причин. Ускоряющееся движение смерти – это и есть современная история незаконной частицы. Нужно перегонять события, которые в свою очередь движутся скорее, чем наступает освобождение. Следует признать некогерентность, аномалии, катастрофы, вирулентность как такие экстремальные феномены, которые играют роль как разрушительную, так и правилообразующую.
Зло, как и незаконные частицы, регенерируются в ходе своего осуществления. Это экономично, но неморально, так же как неморальна метафизическая неразделимость добра и зла. Это отнятие власти у разума, но витальность этой власти как последнее основание мы не можем не принять. Всякое освобождение оборачивается добром и злом: освобождается как мышление, так и обыденное сознание, но это часто ведет к катастрофе. Перестройка в СССР, вызванная как этическими, так и политическими принципами, привела к катастрофе, когда возродились архаичные формы разрушения. Род спонтанного терроризма возникает в ходе освобождения и борьбы за права человека. Запрещается цензурой именно то, о чем везде говорят. Поэтому аргумент против сталинизма состоял в ссылке на будущие поколения, которые не должны его повторить, а для этого должны знать правду о кровавых событиях. Так тоталитарный режим сталкивается с универсальным законом информации.
Но это больше, чем снятие цензуры: разрушение, делинкветность, катастрофы в действительности опираются на ширму гласности. Катастрофические следствия возрастают при воодушевлении как друзей природы, так и отрицателей техники. Тотальность добра и зла вырастает из нашей головы, и мы должны ее тотально акцептировать. Кроме этого правила нет иного принципа понимания вещей. Иллюзия разделения добра и зла является абсурдной.
Все роды событий являются непредсказуемыми. Они случаются, когда наступают на нас. Но у нас на глазах есть какая-то линза, которая заставляет нас ценить и принимать только дружественные события. Эту линзу надо повернуть в верном направлении, но мы не знаем, где оно, и часто смотрим в небо. Если речь идет о метафизических событиях, то они на нашей сетчатке вызывают весьма слабые следы. Мы их должны увеличить средствами фотографии. Для того чтобы чужеродные события наступили, нужно изменить наши теории. Нужно создать теории совершенного разрушения и самостоятельных аттракторов.
Где осталось зло?
Во всех своих формах терроризм – это трансполитическое зеркало зла. Отсюда кажущийся единственно правильным вопрос гласит: где еще остается зло? Повсюду мы сталкиваемся с бесконечным искажением современных форм зла. В западном обществе, которое в своих профилакториях занимается умерщвлением своих естественных референций, обеливанием власти, искоренением разного рода незаконных частей и приукрашиванием негативного, в обществе, управляемом дискурсом добра, где больше нет никаких возможностей проговаривать зло, процветают его все более тайные и вирулентные формы.
Наоборот, Аятолла Хомейни противопоставил всему миру с его политическими, милитаристскими, экономическими тотальными противоположностями единственное и к тому же имматериальное оружие: принцип зла. Он отверг западные ценности прогресса, рациональности, политической морали и демократии. Он отрицал универсалистский консенсус относительно всех этих благ, ввел в действие силы зла, энергию проклятья, блеск и силу незаконных частиц. Только он имеет сегодня слово, ибо противопоставил манихейским позициям свое право говорить зло и устанавливать террор. Что заставило его это сделать, в сущности, не так уж важно. Важно его абсолютное превосходство перед Западом, где больше нет возможностей изрекать зло и где все негативное заглушается виртуальным консенсусом. Даже наша политическая власть стала тенью этой функции, она существует только благодаря символическому осуществлению обозначать другого, чужого, врага. Но сегодня никто на них не указывает, нет больше никаких оппозиций, которые бы дифференцировали добро и зло, У нас осталась самая незначительная сатанинская, ироническая, полемическая энергия, мы стали свято-фанатическим и фанато-святым обществом. Поскольку мы интернировали негативные элементы и опираемся только на позитивные ценности, отсюда мы не имеем иммунитета по отношению к тем вирусам, которые вносит в нашу культуру Аятолла Хомейни. Мы можем противопоставить ему лишь права человека, весьма слабые в качестве иммунной политической защиты. Провозглашая "абсолютное зло" и посылая западному миру свое проклятье, отвергая правила разумного дискурса, он вызвал своим безумством большой страх. Удивило не то, что кто-то буквально и триумфально заговорил на языке зла, несмотря на петиции интеллектуалов. Проклятие было направлено именно на разум и добрую волю. Были мобилизованы все ресурсы зла, чтобы заразить им западное общество. Запад имеет силу оружия, а Восток противопоставил ей символическую власть, которая превосходит оружие и деньги. В определенном смысле – это месть другого мира. Третий мир никогда ничего не мог противопоставить Западу. Но сегодня он стал внушать неуверенность и даже страх. Россия предложила свое посредничество между Востоком Западом после того, как, хотя этого никто не заметил, СССР насаждал пять лет в Афганистане западные ценности. Это непонимание другого дорого обходится и русским, и европейцам.
Эффект удивления и отталкивания вызвал смертный приговор Рушди. Он подобен разрыву корпуса самолета во время полета на большой высоте. Перегородка между двумя пространствами оказалась разрушенной, и все устремилось в пустоту. Необходимо, как это показывают в кино, срочно заткнуть дыру, чтобы снова разделить различные миры. Терроризм, захват заложников – это и есть акт проделывания таких брешей, угрожающих существованию нашего искусного и искусственного универсума. Актуальный ислам, с которым средневековый ислам не имеет ничего общего, и который должен восприниматься не в моральных или религиозных, а в стратегических понятиях, ставит своей задачей методическое проделывание брешей в оболочке западного мира, чтобы выпустить его ценности в пустоту. Ислам не предпринимает каких-либо революционных наступлений на западный мир, он вообще не стремится к его покорению и завоеванию: достаточно дестабилизировать его посредством вирусных инфекций – агрессии зла, которому Запад ничего не может противопоставить. Эти дыры, выпускающие последние остатки настоящих западных ценностей в пустоту, представляют собой самую серьезную угрозу. Запад уже почти утратил свое "горючее вещество" и поэтому должен особо тщательно заботиться о его сохранении.
Стратегия исламистов удивительно современна в противоположность тем, которые пытаются ей противопоставить. Она весьма современна, хотя состоит во вливании незаметных архаических элементов в современный западный мир. Конечно, если бы он был достаточно устойчивым, все это не имело бы ни малейшего смысла. Но наша система чрезвычайно чувствительна к этим вирусам. Отсюда мы переживаем месть другого мира: есть остатки болезней, эпидемий и идеологий, против которых мы уже беззащитны, и ирония истории состоит в том, что, морально и физически очищая себя, мы оказались бессильны по отношению к этим крохотным микробам.
К опаснейшим видам вируса относятся не только террористы. Заложники тоже стали своеобразными «микробами». Как частицы нашего мира, втянутые в пустоту, они не могут или не хотят вернуться домой не потому, что унижены в собственных глазах, но прежде всего потому, что их страна и сограждане своею пассивностью и ленью коллективно унизили их. Общество проявило невероятную беззаботность в отношении своих отдельных граждан. Безразличность коллектива в отношении индивида дополняется безразличием индивида в отношении коллектива. Отсюда дестабилизация индивида вызывает дестабилизацию системы. Заложники не просто прощаются, а превращаются в героев, для того чтобы о них забыть.
Осторожно, чужое!
Проблема Другого, как и все проблемы, возникают в связи с нехваткой. Другой стал проблемой, когда почти исчез. Что сегодня заняло место врага, чужого, другого, того, с кем приходилось бороться и добиваться признания? По сути, сегодня имеют место взаимоотношения равных. Но как могут быть равны, например, мужчина и женщина?
История представляет собой, как подчеркивал М. Шелер, процесс выравнивания. Действительно, мир постепенно становится демократичнее. То, что было ранее доступно немногим, сегодня доступно всем. Конечно, не стоит недооценивать неравенство и преувеличивать возрастание вертикальной мобильности. В принципе, каждый может добиться самого высокого положения в обществе, но для этого необходимы "равные возможности" и "равные условия". На самом деле большинство людей не располагают необходимым "стартовым капиталом" и не имеют железной воли, здоровья, образования, культуры для осуществления своих планов. Но при всем этом несомненно, что европейская цивилизация, которая начиналась с феодального состояния и колонизации, постепенно пришла к равенству. Нерв сегодняшней проблемы выражает борьба за права человека. При этом речь идет не только о политическом и экономическом равенстве между свободными мужчинами, как в греческом полисе, но и об освобождении женщин, о защите прав детей, стариков, больных, заключенных и даже домашних животных. Вчера (03.02.99) вынужден был уйти в отставку тренер английской команды за то, что высказался об инвалидах в смысле индийской теории перевоплощения: их болезнь является расплатой за грехи в предыдущей жизни. Действительно, общество не прощает своим видным гражданам какого-либо шовинизма. Обычно поражаются соблюдению прав сексуальных меньшинств, но более значимой сегодня является защита детей.
Особого анализа требует отношение европейцев к другим народам, особенно к тем, которые ранее подвергались колонизации и угнетению. Этот процесс был жестоким, и обычно русские историки видят преимущества становления российского государства в том, что оно происходило ненасильственным путем. Но было бы неверно сводить колонизацию исключительно к экономической эксплуатации. Одновременно с плантаторами прибывали миссионеры, которые ставили своей задачей обращение язычников в христиан и осуществляли первичную цивилизацию. Более того, постепенно эта цивилизационная миссия все больше захватывала Запад, и англичане были первыми, кто осудил работорговлю. Сегодня белое население в Европе и в Америке испытывает своеобразный комплекс вины, что выражается в парадоксальном положении, когда цветные действуют по известной формуле прекрасного пола: "Я слабая женщина и меня всякий может обидеть". Это начинает надоедать белым, которые ожидали равенства, а не давления со стороны ранее угнетаемых народов.
Наиболее явным примером несостоятельности такой политики «выравнивания» по отношению к чужому является стратегия помощи странам третьего мира и государствам, возникшим после распада СССР. Естественно, что слаборазвитые страны нуждаются в экономической помощи. Туда, где люди голодают, необходимо посылать хлеб. Там, где недостаточно развита промышленность, необходимо оказывать финансовую и технологическую поддержку. Однако средства, выделяемые в порядке гуманитарной помощи или для развития экономики, нередко разворовываются или используются неэффективно.
Сегодня в России и на Западе спрашивают, куда ушли миллиарды долларов, предоставленные на развитие экономики в нашей стране? В стране полно ресурсов и они продаются за рубеж, деньги тоже уходят на счета частных лиц. Можно понять возмущение Запада, который, как выразился один русскоязычный реформатор, «кинули» на ГКО, еврооблигациях и т. п. ценных бумагах. Это просто неблагодарно. В самой России постепенно крепнет убеждение, что ей не нужно брать кредиты на Западе, и что ему не нужно их давать. Иногда таких людей называют предателями. Возможно, бывшие реформаторы и нынешние патриоты по разным субъективным причинам отказываются от кредитов. Одни в силу злобной зависти, другие из-за непомерных процентов. Но независимо от этого их одинаковая реакция свидетельствует о несостоятельности самой политики помощи чужому.
Часто вместо экономической Запад оказывает культурную помощь. Известна история, когда в голодающую страну была направлена огромная партия видеокассет с фильмом о правильной посадке проса. Это выглядело как насмешка. Хуже того, ненужными кассетами завладела подпольная фирма, которая записала на них порнофильмы, которые уже пользовались у населения гораздо большим интересом.
Так возникает вопрос о даре. Деррида определил чистый дар как то, о чем не знает ни дающий, ни берущий. Дар – это то, что выпадает из режима экономии, которой подчинены даже правила подарка. Экономическая и культурная помощь одной страны другой – это своеобразный "троянский конь", ибо она преследует цель обращения чужого в свое. Экономический обмен исключает войну и террор и предполагает освоение знаний, технологий, а главное – политических институтов и ценностей демократии, сближает народы. Но если всего этого не происходит, значит, столкнулось нечто абсолютно чужое.
Как жить с чужим? Поражает жестокость, с которой европейцы завоевывали южную Америку. Иногда ссылаются на фанатизм и жестокость испанцев, но надо учесть и особенности индейцев, которые не вступали с ними ни в экономические, ни в культурные отношения. Это так и оставшееся тайной великолепное общество оказалось принципиально чужим и поэтому было уничтожено. Итак, то, что не подлежит освоению, уничтожается, отбрасывается или просто не замечается.
Чем вызваны рецидивы расизма, нацизма, шовинизма, колониализма в развитых европейских странах? Вряд ли дело в биологии или экономике. В XIX веке европейская культура пыталась избавиться от религиозного фанатизма, и ее представители предприняли критику религии. На фоне Просвещения высказывание Маркса о конце критики было непонятным. Критика должна быть перманентной. Маркс отмечал, что метафизическая критика, указывающая на отсутствие трансцендентного основания, недостаточна, если не затрагивает вопрос об условиях воспроизводства религиозного сознания, и поставил вопрос об упразднении самих условий его возможности. Нечто вроде этого необходимо проделать относительно тех форм сознания, возрождение которых в наш просвещенный либеральный век представляется каким-то анахронизмом. Мы совершенно не готовы к появлению нацизма, и старшее поколение возмущается тем, что такое движение стало возможным после разгрома фашизма. Нынешние расизм, фашизм, шовинизм, терроризм являются не неким «пережитком» (так мы в советское время расценивали устойчивость религии и тем самым не вняли совету Маркса о необходимости упразднения условий ее воспроизводства), а внутренним порождением самой системы, основанной на дифференциации.
Проблема различия, как и проблема Другого, давно уже находятся в поле внимания критики, философская теория, признавая дуализм, все свои усилия направляет на то, чтобы преодолеть его диалектическим, герменевтическим, коммуникативным, деконструктивным и иными методами. Диалектика описывает синтез противоположностей, герменевтика настаивает на понимании Другого и выдвигает диалог, как форму признания; эту стратегию продолжает теория коммуникации, дополняя ее критико-идеологической техникой. Деконструкция, описывая тотальную роль дифференциации, которая задается языком, стремится помыслить мир по ту сторону различия бытия и сущего. Это соответствует демократическим идеалам нашего времени, прилагающего большие усилия для уравнивания прав людей. Наконец, это соответствует технической тенденции эпохи, символом которой является компьютер, который можно сравнить с воплощением той искомой в герменевтике "сути дела", с тем «третьим», на основе которого достигается взаимопонимание в диалоге. Компьютер воплощает мечту логических позитивистов и психоаналитиков. Он говорит на идеальном языке, а язык – это Другой. Но на самом деле он не замечает и не признает Другого. Его гениальность – это болезнь аутизма, когда слышат только самого себя. Этим экран монитора отличается от зеркала, в котором мы видим себя глазами другого. Интерактивные масс-медиа осуществляют философскую утопию коммуникации, в которой уже нет различных, а есть только равные.
Как же в рамках такой стратегии могут возникать перечисленные аномалии? Неужели так бывает, что общаясь с машинами, человек начинает протестовать против них в таких брутальных формах, какими являются расизм, фашизм и терроризм? На самом деле, они не являются порождением реликтовых остатков человеческой природы, а воспроизводятся в самой системе. Дело в том, что равенство – это, так сказать, идеальная цель, а первоначальная утопия строится на допущении дифференциации. И поскольку одна предполагает другую, то демократия требует террора, фашизма и расизма. И если демократия начинает работать вхолостую, т. е. сама на себя, когда она сводится к защите принципов, а не конкретных людей, когда человеческие сострадание, боль, мужество, смелость – все это отмирает по причине ненужности, то система приобретает чудовищное ускорение, в ходе которого возникают турбулентности, угрожающие ее собственному существованию. Наш дискурс сегодня порождает монстров, которые принимаются за реальность. Ссылки на науку не спасают от них, ибо язык науки это тоже утопия. Не случайно расисты и фашисты охотно прибегают к языку биологии, истории, социологии и философии.
Мелодрама дифференциации
Где еще осталось другое? Мы живем после оргии открытия, исследования, нахождения Другого, после оргии различия, билателарной, интерактивной. По ту сторону игры отчуждения (стадия зеркала – наслаждение нашего детства) вросло структуральное различие бесконечного, в моду, нравы, культуру и даже, как чистое другое, в расу, безумие, бедность и смерть. Инаковость осталась как остаток закона спроса и предложения, действующего на рынке. Она стала редкостью. Отсюда ее значимость на бирже структуральных ценностей. Вот откуда симуляция Другого, который сводится к научной фикции, навязывая вопросы: каков и где находится Другой. Эта научная фикция соответствует повседневности, в которой так же правит бал спекуляция, а на черном рынке господствует другость и различие. Экологические поиски, будь то резервация индейцев или положение домашних животных (нулевой уровень друтости), ведутся без того, чтобы предоставить ему подобающее место хотя бы в бессознательном (это последний символический капитал, к трате которого следует относиться особенно осторожно). Так, вступление Другого на деле ведет к его исчезновению, растворению и превращению в своеобразное сырье.
Обычно другое вызывает страх и любопытство, подлежит изучению и отрицанию, освобождению и признанию и т. п, В правах человека необходимо учитывать права другого, как универсальное право на различие. Однако оргия психологического и политического понимания Другого привела к тому, что он появился там, где его никогда не было. В результате, где был Другой, там воцарилось равное.
Там, где уже ничего нет, должен появиться Другой, Мы переживаем не драму, а психодраму Другого как в сфере социального, так и сексуального, психодраму тела, которая с помощью психоаналитического дискурса переводится в мелодраму. Так друтость становится психодраматической, социодраматической, семиодраматической и мелодраматической. В психодраме уже нет контакта, ибо отсутствие Другого акробатически симулируется и драматизируется. В ходе этой искусственной драматургии повсеместно идет исчезновение Другого. Точно так же субъект становится тождественным субъективности, и это отчуждение продолжается в обществе, где человек, как политическое животное, сводится к его мнению. Он становится транспарентным и интерактивным. Сегодня субъект не имеет Другого, он живет без двойника, даже без тени. Именно такой ценой достигается его высокая коммуникабельность. Интерактивное существо рождается не из новых форм общения, а из-за исчезновения социальности и инаковости. Это другое после смерти Другого, и оно не есть одно и то же, ибо возникает на основе операции отрицания.
Фактически интеракция – это медиум, невидимая машина. Механический автомат еще играет дифференциацией человека и машины. Наши интерактивные автоматы, наши симуляционные автоматы уже не содержат различия. Человек и машина – изоморфны и индифферентны, они не есть друг для друга Другое. Компьютер не имеет Другого. Он не интеллектуален, так как интеллектуальность мы приобретаем благодаря признанию Другого. Именно это является причиной его эффективности, Подобно аутисту, он занят только собой и не принимает во внимание другого, он использует силу абстракции и работает так быстро именно потому, что выталкивает другого. В гомеостазисе равного с равным другому нет места.
Имеется ли тогда хоть где-нибудь друтость, или благодаря психодраме от нее все уже очищено? Имеется физика Другого или только его метафизика? Имеются ли дуальные, недиалектические виды инакости? Имеется ли такая ее форма, как судьба, в которой нет места понятиям психологического или социального партнерства?
Сегодня все выражается в понятии дифференциации. Инаковость – это не дифференциация, которая на самом деле снимает различие. Если язык является системой различий, если смысл редуцируется к дифференциации, тогда радикальная другость уничтожается языком. Дуализм разрешается внутри системы понятий, а все, что не подлежит дифференциации, артикуляции, опосредованию, редуцируется, и язык в его радикальности к Другому оказывается единственным субъектом. Отсюда игра языка задает не только маленькие оппозиции, которые являются предметом структуралистского анализа, но и вводит материальное различие, как символическое замещение жизни и смерти.








