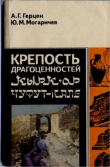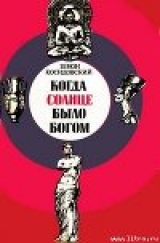
Текст книги "Когда Солнце было богом"
Автор книги: Зенон Косидовский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Ответ. Вся эта аргументация основана на недоразумении, вытекающем из недостаточно тщательного обследования древних памятников. Уже упомянутый Дерпфельд, пересматривая щебень и обломки, вынутые из могил, обнаружил остатки раздробленных могильных плит. Следовательно, вопреки предположениям Шлимана, высеченные в скале шахтовые могилы являлись гробницами, в которых хоронили в течение длительного времени членов правящего рода. Могильные плиты под тяжестью руин крепости оказались раздавленными и вместе с землей и щебнем попали внутрь шахтовых гробниц. Это и создало впечатление, что могилы были одновременно засыпаны землей во время погребения.
Второе утверждение ученые также опровергли, так как на доспехах, принадлежавших некоторым покойникам, имелись первоначально не замеченные, но тем не менее несомненные различия в стиле декоративных мотивов, которые отражали очередные фазы развития микенской культуры в течение каких-то 100 или 200 лет и являлись доказательством того, что каждого покойника хоронили в шахтовых могилах отдельно, а не всех одновременно, во время массового погребения. Покойные представляли несколько поколений неизвестной царской династии, господствовавшей в Микенах за несколько столетий до Атрся, Агамемнона и Ореста.
Этот спор об Агамемноне необычайно интересен, он помогает увидеть, какими методами пользуется археология для объяснения результатов находок, доискиваясь исторической правды. Этих методов не постыдился бы и Шерлок Холмс. Обратив внимание на некоторые детали, не замеченные Шлиманом, Дерпфельд и другие археологи дедуктивным путем пришли к совершенно неожиданным выводам: они открыли неизвестную эпоху в греческой истории, более того – отважились даже определить ее даты.
Поразительную точность их рассуждений целиком подтвердили раскопки на Крите, проведенные уже после смерти Шлимана. Откопав дворец Миноса в Кноссе, Артур Эванс установил, что его руины относятся не к одной эпохе: из поколения в поколение критяне на фундаментах уже разрушенных стен возводили новые, еще более красивые и грандиозные здания. Отчетливые следы строительства хорошо сохранились в различных культурных слоях.

Амфора с растительным орнаментом из Ккносского дворца. 16S0– 1S80 гг. до н. э.
В недрах Кносского холма Эванс обнаружил мощный культурный слой, относящийся к эпохе новокаменного века, что свидетельствовало об очень древнем происхождении поселения.
Эванс поставил перед собой задачу разработать периодизацию слоев Кносского холма, ведь только это пролило бы свет на историю Крита. Но сначала следовало точно определить эпоху, к которой относился каждый культурный слой в отдельности.
Задача оказалась нелегкой. К счастью, жители Крита с древнейших времен поддерживали связь с Египтом, а египетская хронология после расшифровки иероглифических надписей на стенах гробниц была уже очень хорошо известна. В одном из слоев, открытых н Кноссе, Эванс нашел египетскую статуэтку из диорита. Она относилась к 2000 – 1790 гг. до н. э., т. е. к периоду Среднего царства в Египте. Вполне понятно, что все другие находки, сделанные в том же культурном слое, особенно керамические черепки с одинаковым по стилю орнаментом, датироваться могли не раньше, чем 2000 г. до и. э. А так как Эванс обнаружил предметы египетского происхождения и в нижних, и в верхних наслоениях руин, то он постепенно сумел относительно точно воссоздать историю возникновения миносского дворца.
В этой кропотливой работе ему помогли египтологи. В гробницах фараонов часто встречались художественные изделия, по своим формам и орнаменту нехарактерные для Египта. Археологи, однако, не могли определить, из какой страны они привезены. Только раскопки п Кноссе позволили установить их критское происхождение. Но главное, благодаря прочитанным иероглифам, стало известно, когда эти изделия попали в Египет. Сравнивая предметы из египетских гробниц с подобными же находками на Крите, представлялось возможным разработать точную хронологию культурных слоев Кносского холма.
Каким образом с помощью этого метода удалось определить дату появления шахтовых могил в Микенах? Мы знаем, что, будучи в гостях у Шлимана, Эванс обратил внимание на сходство нарядов микенских и критских женщин. Раскопки в Кноссе не только подтвердили его наблюдение, но и показали, что влияние критской культуры на культуру Микен было большим, чем это предполагали вначале. Значительная часть оружия, украшений и посуды из шахтовых могил была, несомненно, привезена с Крита или же изготовлена в Микенах критскими ремесленниками.
Таким образом, выводы Эванса, проверенные египтологами, целиком совпали с выводами, сделанными критиками Шлимана: шахтовые могилы в Микенах появились еще в XVI в. до н. э., поэтому в них не могли быть похоронены Агамемнон и его соратники, которые жили в XII в. до н. э.
Итак, археологические исследования показали, что влияние критской культуры распространялось также и на Трою. Теперь можно было исправить вторую, не менее существенную ошибку Шлимана. Дело в том, что Шлиман, несмотря на наличие слабых крепостных стен, вопреки утверждению Гомера, что Троя была могучей крепостью, третье снизу поселение принял за город Приама. На основании же находок критского происхождения вскоре установили, что Троя Гомера – седьмое снизу поселение. Здесь действительно имелись остатки мощных крепостных стен, а также руины святилища и дворца, свидетельствующие о том, что прекрасный и многолюдный город мог в течение десяти лет выдерживать осаду многотысячной армии отважных греческих воинов.
Открытия Шлимана и Эванса постоянно пополняются новыми данными и позволяют ныне приподнять завесу над огромным ранее неизвестным промежутком истории, полным неожиданностей и драматических событий. В течение этого периода возникали, достигали своего расцвета и гибли различные народы и их цивилизации.
Самый лижний культурный слой, открытый в Кноссе, указывает, что между IV и III тысячелетиями до н. э. на Крите, в эпоху неолита, появились племена, жившие родовой общиной и пользовавшиеся орудиями из шлифованного камня. Не только умелые рыбаки, земледельцы и скотоводы, но и прекрасные мореходы, они не боялись далеких и опасных морских путешествий.
Природа щедро одарила Крит своими благами: на обширных полях зрели пшеница, ячмень и лен, а по склонам гор раскинулись виноградники и оливковые рощи. В тихих долинах, на буйно зеленевших лугах пасся скот. Критяне выращивали также шафран, используя его для окраски льняных тканей. В их хозяйствах было множество уток, голубей, лебедей и кур. В палисадниках селений, окруженных огородами, цвели лилии, тюльпаны, ирисы, гиацинты и другие цветы. На холмах, теперь голых, в то время росли густые кипарисовые леса, которые давали прекрасный материал для строительства домов и кораблей.
Однако наибольшие выгоды извлекали критяне из географического положения острова, лежащего между Европой, Азией и Африкой. Ведя морскую торговлю с этими континентами, жители Крита быстро богатели.
Рост благосостояния вскоре повлек за собой глубокие социальные перемены. В течение III тысячелетия до н. э. родовая община подверглась постепенному разложению. Выборная прежде старейшина со временем стала наследственной и захватила в свои руки власть, а также право на доходы от морской торговли. Свободные земледельцы попали в зависимость от власть имущих; возникло рабство. Так произошло классовое расслоение: на одном полюсе оказались аристократы, военные вожди, придворные сановники, купцы, на другом – крестьяне и ремесленники. Последние, как правило, занимались изготовлением художественных изделий для царя и его дружины, а также на вывоз в заморские страны.
Критские парусные торговые корабли, снабженные веслами для плавания во время штиля, достигали самых отдаленных стран Средиземного моря. Изделия критских ремесленников археологи нашли в Египте, Ливии, Малой Азии, Финикии, на Кикладских островах, в Греции, южной Италии, Сардинии, Испании, на Мальте и Балеарских островах. Есть предположение, что критяне торговали не только предметами роскоши, но и невольниками. За свои товары они получали золото, серебро, слоновую кость, благородные породы дерева, изделия из цветного стекла и фаянса, а также продукты питания. В руинах Кносса найдены, например, зерна фасоли такого сорта, который растет только в Египте.
В начале II тысячелетия до н. э. бронза окончательно вытесняет камень. Крит в это время становится державой, обладающей мощным военным флотом, обеспечивающим ему гегемонию на Эгейском море. На острове возникает четыре торговых центра – Кносс, Фест, Агия-Триада и Малия. Правят там независимые один от другого цари, они возводят для себя пышные дворцы. Это уже четко оформившиеся рабовладельческие государства во главе с немногочисленной верхушкой аристократии, которая держит в подчинении остальные классы общества.
Около 1700 г. до н. э. на Крите происходит какая-то неизвестная нам катастрофа. Как мы узнали о ней? В руинах дворцов Кносса, Феста, Агии-Триады и Малии Эванс и другие археологи открыли культурный слой, относящийся к этому времени. В нем они обнаружили разбитые статуэтки, обуглившееся дерево и пепел. Все здесь говорило о бушевавшем пожаре. Трудно усомниться в том, что дворцы царей этих городов были тогда совершенно разрушены. Ученые выдвигали самые различные гипотезы, пытаясь объяснить причины этой катастрофы. Одни считали, что Крит явился жертвой вторжения заморских племен, другие – что это результат стихийного бедствия – землетрясения, которые и теперь происходят на Крите.
В последнее время третья теория перевесила чашу весов. Сторонники ее утверждают, что на Крите вспыхнула война между царьками отдельных городов, каждый из которых стремился к господству на острове. Это были в прошлом вожди племен, продолжавшие сохранять политическую независимость. Однако со временем им стала угрожать возрастающая мощь кносского властителя. Перед лицом этой опасности они объединились и выступили против него с оружием в руках.
Имеется ряд серьезных обстоятельств, подтверждающих эту теорию. Все дворцы в Кноссе, Фесте, Агии-Триаде, Малии и в других местах перед катастрофой не отличались друг от друга ни размерами, ни пышностью. Это были, по всей вероятности, резиденции правителей, поддерживавших между собой дипломатические отношения на равных началах. Но сразу же после войны положение в корне изменилось. В Кноссе возвели величественное, необыкновенно роскошное здание, которое являлось резиденцией не только царя, но и его сановников; в остальных городах построили небольшие дворцы, где, судя по их скромным размерам, жили уже только провинциальные наместники. Отсюда следовало, что царь Кносса, победив в этой войне, стал на острове деспотическим монархом восточного типа.
Нельзя к тому же сомневаться, что вторжение чужих племен опустошило бы весь остров и, несомненно, нанесло бы смертельный удар критской культуре. На самом деле все произошло несколько иначе. Города и дворцы быстро поднялись из руин, и объединенная критская держава вступила в период своего наибольшего расцвета и могущества. Царь Крита, владея военным флотом, подчинил себе Кикладские острова, Пелопоннес и некоторые города на побережье Малой Азии. Там появились торговые поселения, зависимые от критской державы. Это и был золотой век царя Миноса, век богатства и высокой культуры, век, память о котором сохранилась в легендах об афинских заложниках, о Тесее, Дедале и Минотавре.
Археологические находки позволили ученым определить ряд особенностей критского общества. Так, например, в отличие от вавилонян, ассирийцев и египтян у критян не выделилась особая каста жрецов. Женщины-жрицы совершали религиозные обряды под открытым небом в рощах и на полянах.

Образец критского рисунчатого письма на «Диске из Фестоса». Найден А. Эвансом
Предметами культа были мать-земля, бык – олицетворение силы и плодородия, а также цветы, рыбы, деревья и камни. На фресках мы видим, как жрицы приносят жертвы на алтаре, шествуют в торжественных процессиях или исполняют ритуальные танцы. Есть предположение, что царь Крита был одновременно и верховным жрецом.
За два тысячелетия до нашей эры, т. е. в период полного культурного расцвета Крита, на Пелопоннесе и некоторых островах Эгейского моря жили средиземноморские племена, которые Древние греки называли лелегами, пеласгами и карийцами. Жили они, вероятно, родовыми общинами и не строили больших городов, однако уже пользовались изделиями из бронзы. Язык их совершенно забыт, но небольшое количество слов – название местностей и некоторых цветов (гиацинт, нарцисс) – вошло в греческий язык. Даже название моря – talassa – греки заимствовали у этих исчезнувших народов.
В начале II тысячелетия до н. э. с севера пришли древнейшие предки греков – ахейцы[27] 27
Так наз. «северная» теория происхождения ахейцев не является единственной и бесспорной. Возможен и другой путь их вторжения в материковую Грецию (прим. ред.).
[Закрыть]. Это были варварские племена воинов, закованных в бронзовые доспехи. Они легко покорили местное население и построили мощные крепости в Микенах, Тиринфе и других местах Арголиды, чтобы обороняться не только от нападений врагов, но и от покоренных народов, которые часто восставали. Дворцы, крепости, а также царские могилы свидетельствуют о могуществе микенских царей. Циклопические стены этих величественных сооружений возводило порабощенное местное население. В ахейских городах-государствах деспотически правили царьки, связанные между собой кровным родством и слабыми узами федерации. Однако со временем царь Микен добился над ними гегемонии. Фукидид сообщает, что Агамемнон предпринял поход на Трою как могущественнейший человек своего времени.
С 1700 г. до н. э. ахейцы попадают под влияние более высокой критской культуры. Ахейские цари и аристократы привозят из Кносса художественные ювелирные изделия и инкрустированное оружие, женщины одеваются по критской моде. Таким образом возникает единая культура, названная историками крито-микенской. Однако ахейцы не лишились свойственных им черт – суровости и мужества; в противоположность критянам они носили бороды и усы, а жизнь свою проводили на охоте и в военных походах. Фукидид сообщает, что ахейские племена занимались пиратством. Но позднее они создали совместный военный флот, который стал грозным соперником критского флота. Начиная с XV в. до н. э. Арголида, вероятно при господстве Атридоз, превратилась в морскую державу. Ахейцы вытеснили критян из их владений: захватили Киклады, острова Родос, Кос, Кипр и даже основали колонии в Малой Азии.
Около 1400 г. до н. э. они напали на Крит и нанесли критской державе жестокое поражение, после которого она уже не смогла оправиться. Страшные следы этого исторического события до сегодняшнего дня сохранились в руинах и на пепелищах критских дворцов, найденных в соответствующем культурном слое. Вероятно, перед нападением ахейцев на Крит в Эгейском море произошло величайшее в истории древнего мира морское сражение. Разгромив могучий флот критян, бородатые ахейские воины ворвались в покои царя Миноса, уничтожая поголовно всех изысканных и изнеженных придворных, которые столь выразительно изображены на фресках дворца.
Несколько слов следует еще сказать о критском письме. На глиняных табличках, найденных в Кноссе, Эванс выделил три последовательные фазы развития критского письма: первоначально используемые иероглифы, линейное письмо а и позднейшее письмо Ь, относящееся к золотому веку Крита. На большинстве табличек именно этот, последний, тип письма.

Табличка с линейным письмом «В». Около 1400 г.
В 1948 г. чешский ученый Бедржих Грозный огласил сенсационное известие, что он расшифровал линейное письмо Ь, над чем уже многие годы впустую бились величайшие языковеды. Метод, примененный Грозным, необыкновенно сложен; для того чтобы его понять, нужно знать многие языки Древнего Востока, служившие ученому вспомогательным материалом.
Однако после смерти Грозного было неопровержимо доказано, что его метод являлся ошибочным и завел ученого в тупик. Заслуга расшифровки линейного письма Ь принадлежит англичанину М. Вентрису – архитектору по профессии, а следовательно, дилетанту в области лингвистических исследований.
Веитрис выдвинул совершенно оригинальную гипотезу. Опираясь на тот факт, что таблички с линейным письмом Ь были найдены не только на Крите, но и в материковой Греции, где господствовала микенская культура ахейцев, он предположил, что это письмо греки взяли за основу в его первоначальной форме, т. е. иероглифами и линейным письмом а пользовались критяне, а линейным письмом b – древнейшие предки греков, которые лишь спустя несколько столетий заимствовали у финикийцев значительно более удобный алфавит.
Гипотеза оказалась верной. Пользуясь классическим греческим языком как вспомогательным орудием, Вентрис прочел несколько табличек, найденных на греческом материке. При этом он заметил, что письмо складывается из фонетических знаков, обозначающих слоги, а также из картинных значков. Дальнейшей расшифровкой этого письма по методу Вентриса занимаются ученые разных стран мира.
Прочитанное до настоящего времени тексты содержат списки, счета и реестры, однако они целиком подтверждают два предположения: во-первых, что ахейцы были греками, во-вторых, что именно они завоевали Крит, о чем свидетельствуют 1700 табличек, найденных археологами в руинах Кносса.
Серьезным препятствием для расшифровки иероглифов и линейного письма а является не только незнание критского языка, но и то обстоятельство, что до сих пор найдено очень мало табличек с этими типами письма; ученые, к сожалению, не имеют достаточного количества научного материала. Поэтому вопрос об этническом происхождении критян продолжает оставаться тайной.
Обосновавшись на Крите, ахейцы стали помышлять о новых завоеваниях. В XIII и XII вв. до н. э. они, заключив союз с некоторыми народами Анатолии, дважды предпринимали попытку захватить Египет. Но оба раза, как об этом сообщают египетские надписи, фараоны отразили нападение и разгромили войска ахейцев. Поражения в Египте, однако, не утихомирили воинственных царей. Над Геллеспонтом возвышалась Троя, неприступная крепость, древний многолюдный город, издавна славившийся своим богатством и роскошью. Благодаря выгодному положению на границе Европы и Азии Троя сосредоточила в своих руках всю торговлю Анатолии, Азии и южного побережья Черного моря. Под ее стенами ежегодно проводились ярмарки, на которых купцы из всех стран мира продавали и покупали самые разнообразные товары. Благодаря укреплениям Трои критяне так и не смогли овладеть Анатолией в качестве рынка сбыта. Они никогда не чувствовали себя в силах победить Трою, ведь для этого одного флота было недостаточно, а сухопутного войска, способного повести осаду и обладавшего опытом разрушения крепостных стен, критяне не имели.
Ахейцев манило не только золото, накопленное в троянском дворце, но и огромные возможности, которые открылись бы для их торговли в случае захвата города. Они двинулись на Трою и после десятилетней осады, около 1180 г. до н. э., разрушили ее.
Однако не слишком долго пришлось им пожинать плоды этой победы. Приблизительно через 80 лет с севера пришли новые варварские греческие племена, так называемые дорийцы, предки позднейших «исторических» греков. Воинственные и суровые, они вскоре захватили и сравняли с землей крепости в Микенах, Тиринфе и Орхомене, овладели Пелопоннесом, Критом и островами Эгейского моря, даже достигли Малой Азии.
С их пришествием наступил упадок крито-микенской культуры. На эгейский мир опустилась ночь варварства. Но из мрака греческого средневековья дошли до нас легенды о Крите и Троянской войне – их передавали из уст в уста бродячие народные певцы. Спустя несколько столетий Гомер собрал все эти легенды и создал два шедевра эпической поэзии «Илиаду» и «Одиссею». Они, словно утренняя заря, предвещали восход новой эры возрождения и культурного расцвета, который вскоре должен был ярко засиять над материком и островами Греции.
ПОМПЕИ И ГЕРКУЛАНУМ

Города, погребенные заживо
В Кампании, раскинувшейся на берегу Неаполитанского залива, стоял солнечный август. С моря то и дело налетал свежий солоноватый ветер, и стаи чаек, наполняя воздух радостными криками, резвились в голубой купели неба. Желто-голубой залив пестрел плоскими лодками – это рыбаки боролись с заброшенными в море сетями. А на самом горизонте – там, где водная гладь вспыхивала мириадами огоньков и бликов, спокойно резала волну военная трирема[28] 28
Трирема – корабль с тремя рядами весел.
[Закрыть]. В крепких руках невольников весла поднимались и опускались с размеренностью маятника. База корабля размещалась недалеко, в Мизене, где стоял на якоре римский флот, которым командовал патриций, ученый-естествоиспытатель Плиний Старший.
Вдоль берега и у подножья Везувия среди садов и виноградников белели виллы римских сенаторов и всадников[29] 29
Всадники (equites) – вторая после землевладельческой знати сословная группа рабовладельцев в древнем Риме.
[Закрыть]. Чуть дальше краснели крыши Помпеи, окруженных могучей крепостной стеной с башенками. К одним из городских ворот нужно было пройти улицей умерших, мимо гробниц помпейских богачей.
Город кипел, как улей. По узким уличкам, вымощенным базальтовыми плитами, катился неудержимый людской поток. Вдоль узких, высоких тротуаров разместились трактиры и харчевни, постоялые дворы, мастерские ремесленников и лавки со всевозможными товарами.
Где– то в центре этого лабиринта улиц и закоулков скрывался просторный четырехугольник рынка, величественный форум[30] 30
Форум – площадь для народных собраний.
[Закрыть], окруженный колоннадой, храмами и общественными зданиями. Изысканность и великолепие ослепительно белых сооружений, возведенных на высоких фундаментах, украшенных портиками[31] 31
Портик – навес, поддерживаемый колоннадой.
[Закрыть] и лепкой, контрастировали с ярмарочным оживлением улицы.