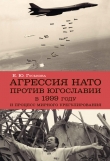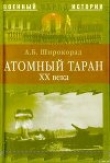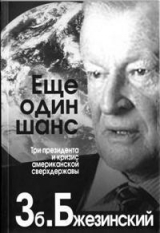
Текст книги "Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы"
Автор книги: Збигнев Бжезинский
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Результат этот был наиболее важным, но также и парадоксальным достижением эры Клинтона. Первоначально расширение НАТО и Европейского Союза не было для Клинтона приоритетом. Расширение НАТО имело мало общего с его центральной задачей – глобализацией. Не было оно и столь эмоциональным обязательством, каким была, например, его попытка поддерживать личные отношения с Ельциным. Последнее было его личной миссией, в то время как первое было стратегической обязанностью и актом исторической справедливости.
Тем не менее, Клинтон осуществил это расширение в значительной степени благодаря усердию главных членов его команды и не входивших в нее сторонников этом идеи, которые сообща добились обсуждения вопроса и ускорили его решение. Явный энтузиазм удовлетворенных центральноевропейцев также окатился заразительным. Клинтон был уже подлинно новообращенным в эту идею, когда в июле 1997 года, стоя перед Королевским замком в восстановленной Варшаве, он объявил восторженной толпе народа и торжествующему Леху Валенсе о том, что Польша и ее два центральноевропейских соседа приглашены к участию в альянсе.
Если бы Клинтон взял на себя меньшие обязательства, можно было бы лишь гадать, насколько неуверенной и нестабильной могла бы быть Европа десять лет спустя, когда Америка и Европа разошлись во мнениях по Ираку, движение Европы к политическому единству замедлилось бы из-за внутренних разногласий, а Россия снова начала бы играть мускулами в Украине, Грузии и даже в балтийских государствах и в Польше. Холодная война, закончившаяся в 1990 году, могла бы возобновиться в какой-то повой форме, с новым идеологическим или территориальным поворотом, если бы большие пространства посткоммунистической Европы остались вне Атлантического сообщества.
Итак, прорыв – которого могло и не быть – в процессе построения Европы, произошедший в 1990-е годы в результате действия различных движущих сил и включавший подписание Маастрихтского договора, который формально зафиксировал образование Европейского Союза; принятие в него прежде нейтральных западноевропейских государств – Швеции и Финляндии; введение евро; отмену пограничного контроля внутри Европейского Союза (Шенгенские соглашения); начало общеевропейской оборонной политики и создание сил быстрого реагирования Евросоюза, – все это означало, что во многих отношениях последнее десятилетие XX века было отмечено возросшей позитивной ролью Запада в мировых делах. Не было ничего, чего Америка и Европа, геополитическая сверхдержава и экономический гигант с нарождающейся общей политической идентичностью, действуя сообща, не могли бы добиться при наличии желания.
Ну а пока – да, увы, только пока – новая реальность способствует тому, чтобы объединенными усилиями следовать конструктивной глобальной повестке дня, придерживаясь доброжелательного и оптимистически детерминистского взгляда Клинтона на проблему глобализации. Совокупное влияние Америки и Европы привело к успешному завершению в 1994 году невероятно сложного переплетения конфликтных торговых переговоров, известных как Уругвайский раунд, по Генеральному соглашению о тарифах и торговле. Итогом его стало создание 1 январи 1995 года Всемирной торговой организации, которое обозначило важный шаг в направлении формирования глобального экономического порядка, соответствующего растущему пониманию наднациональной солидарности. То, что создание ВТО внесло в складывающийся механизм урегулирования конфликтных интересов вклад, без которого проблема огромного неравенства в экономических условиях, существующих в мире, не может найти решения, уже является значительным шагом вперед.
Расширение НАТО и ЕС после окончания холодной войны
Подготовил Бретт Эдкинс
Последовавшее в 2001 году принятие в ВТО Китая, ставшее возможным после нескольких лет терпеливых переговоров, начатых Соединенными Штатами и Европейским Союзом, было еще одним шагом на долгом, но очень нужном пути, ведущем к включению потенциального экономического генератора в более тесно взаимодействующую и более управляемую мировую экономическую систему. Вступление Китая подтолкнуло образование так называемой «Большой двадцатки» – блока развивающихся государств, руководимого Китаем, Индией, Южной Африкой и Бразилией. Экономически более слабые государства, таким образом, впервые приобрели подлинный политический вес в процессе продолжавшихся переговоров о более равноправной глобальной системе торговли. Тем самым утверждение Клинтона, что глобализация «не может быть обращена вспять», постепенно приобретало правовое значение.
Однако вступление Китая в ВТО имело и свою политическую цену. Для того чтобы способствовать прогрессирующей интеграции китайской экономики в мировую систему, Соединенные Штаты в 1999 году предоставили Китаю режим наибольшего благоприятствования, но не стали обусловливать это обычным требованием признания прав человека. Клинтон с некоторой неохотой пошел на такое решение, резонно полагая, что в перспективе Китай, принявший международные правила и вовлеченный в более тесные отношения взаимозависимости, неизбежно постепенно придет к уважению прав человека. Глобализация, пришел к логическому заключению Клинтон, в конечном счете компенсирует моральную обеспокоенность, вызванную уступками[1].
Но если растущая вовлеченность Китая в глобальную взаимозависимость давала в целом положительный результат, то два других события, занесенных в хронику президентства Клинтона потенциально были более опасными для Атлантического сообщества с точки зрения его перспективной роли в международных делах. Этими событиями были финансовый кризис в Азии и усиление разногласий между Америкой и Европой относительно наднациональных правил.
Жесточайший кризис ликвидности в Юго-Восточной Азии в 1997 году, вызванный ухудшением финансового состояния Японии и масштабом спекулятивных операций недвижимостью и валютой (включая агрессивные операции американских валютных трейдеров на валютном рынке Таиланда, затрагивающие его государственные резервы), быстро распространился на Тайвань и Южную Корею. На нервом этапе США промедлили с реакцией, но в начале 1998 года министр финансов США Роберт Рубин провел операции, закончившиеся запоздалой стабилизацией. Тем не менее, в Азии возобладало мнение, что в кризисе была виновата Америка.
Тот факт, что многие возлагали вину на политику, проводимую Международным валютным фондом, в котором США играли доминирующую роль, в сочетании с осторожностью и конструктивными действиями Китая (включая его решение не девальвировать свою валюту), вызвал в Восточной Азии растущий интерес к поиску формы регионального сотрудничества, руководимого Китаем и/или Японией, и к сотрудничеству с регионом, менее зависимым в финансовом отношении от США и Европейского Союза.
Вторым событием, разочаровавшим тех, кто надеялся на то, что эффективное лидерство Америки сформирует мир, подчиненный единым правилам, было появление разногласий между Америкой и Европой относительно наднациональных правил. Соединенные Штаты возражали против таких политически чувствительных соглашений, как Оттавский договор, запрещавший пехотные мины (отвергнутый на представленном военными законном основании, что войска США в Южной Корее развернули широкие минные заграждения вдоль линии перемирия с чисто оборонительными целями), и Римский статут нового Международного уголовного суда (МУС), в соответствии с которым военный персонал США мог бы быть подвергнут международному судебному преследованию за военные преступления. Клинтон действительно подписал последний договор в самом конце своего президентства, но не представил его на ратификацию. Такая попытка, безусловно, потерпела бы неудачу в Конгрессе, настроенном все более подозрительно в отношении взглядов Клинтона.
Еще больший вред репутации Клинтона как прозорливого лидера нанесла неудачная попытка Соединенных Штатов поддержать международные усилия, направленные на принятие мер против возрастающей угрозы глобального потепления. Киотский протокол – продукт длительных переговоров, начавшихся в середине 90-х годов, стал в США объектом широких партийных дебатов и вызвал открытое противодействие групп, представляющих крупные экономические интересы. В середине 1997 года, когда первый срок президентства Клинтона подходил к концу, Сенат США произвел выстрел в его сторону, одобрив поразительным большинством голосов 95 «за» и ни одного «против» – резолюцию, отвергающую Протокол на том основании, что он не является ни целесообразным, ни справедливым. И хотя вице-президент Гор, главный американский адвокат протокола, подписал его от имени Америки в конце 1998 года, Клинтон, правильно оценив общественное мнение, пустил это дело на самотек.
К концу эры Клинтона многообещающая повестка его президентства находилась под большим сомнением. Лишь расширение и консолидация Атлантического сообщества по-прежнему оценивались как стратегическое достижение. Но его способность планировать всеобщую глобальную цель уже шла на спад, и вскоре односторонняя сконцентрированность преемника Клинтона нанесла ей серьезный ущерб. Но центральное направление политики Клинтона – глобализация как «экономический эквивалент силы природы» – подвергалось интенсивной критике. Антиглобалистские настроения питали зарождавшийся антиамериканизм и во время третьей сессии ВТО, проходившей на министерском уровне в Сиэтле в 1999 году, массовые демонстрации воспрепятствовали проведению нового раунда многосторонних торговых переговоров.
Америка также становилась все более скептически настроенной в отношении далеко идущего глобального сотрудничества. Росло число американцев, у которых понятие «наднациональность» вызывало большие подозрения. В середине первого срока президентства Клинтона (1994 г.) во время выборов в Конгресс Республиканская партия добилась больших успехов и в резких националистических тонах пошли разговоры о «Революции Гингрича»[2], а к возникшему вызову лидерству президента добавились его личные неприятности. Его репутации нанес ущерб длительный скандал, доминировавший в политической жизни Вашингтона (и бывший основной темой частных разговоров) в течение целого года с начала 1998 до начала 1999 года, серьезно понизив способность Клинтона получить поддержку собственных избирателей. Ирония заключалась в том, что меняющееся восприятие американской политики и одновременно снижение личной репутации Клинтона делали трудноприемлемым про возглашенный им принцип, согласно которому «внешние дела являются продолжением внутренней политики другими средствами». По мере того, как внутренняя политика все сильнее от стаивала свои права, идеалистическая повестка Клинтона все более становилась ее жертвой.
Конфронтация с прошлым
Многие глобальные проблемы, с которыми столкнулся Клинтон, имели глубоко уходившие корни. Устоявшиеся интересы, национальное соперничество, культурный гедонизм богатых, сильная озлобленность бедных и уверенность в своих правах этнических и религиозных антагонистов стали препятствиями на пути превращения глобального верховенства Америки в добрые деяния. Для того чтобы справиться с такими отвратительными, но стойкими реальностями, нужно было воспользоваться традиционными силовыми инструментами, плохо сочетающимися с высокими сантиментами. Это могло быть сделано только при условии сильной внутренней поддержки, обеспечиваемой ясной стратегической программой.
Борьба с наследием прошлого потребовала от Клинтона вступить в конфронтацию и с некоторыми из тех, с кем он уже сталкивался по вопросам объединения Европы и нераспространения ядерного оружия. Предметом озабоченности снова стала Россия, а европейский национализм свирепствовал на Балканах, в то время как тупик на Ближнем Востоке отражал непримиримость глубоко укоренившихся этнических и религиозных антагонизмов. С окончанием холодной войны наружу вышли давно тлевшие локальные конфликты, которые внезапно превратились и очаги пожаров и потрясений.
Почти сразу после принятия на себя обязанностей президента Клинтон столкнулся со взрывами насилия в нескольких частях мира. Эти события отвлекли его от намеченной программы и поставили перед мучительной перспективой кровопролития. Сомали и Руанда в Африке находились в состоянии хаоса; распад Югославии привел к эскалации насилия почти в самом центре новой Европы. Вскоре Россия оказалась увязшей в войне в Чечне; Китай подверг испытанию предел решимости Америки защищать Тайвань от военных посягательств. И сверх всего этого в течение двух сроков президентства Клинтона Ближний Восток оставался кровоточащей раной с незначительными улучшениями и серьезными откатами в израильско-палестинском мирном процессе, Ирак стал источником периодической конфронтации, появился на свет антиамериканский терроризм, все более усиливающийся по мере повышения политической температуры в регионе.
Почти во всех этих случаях первой реакцией Клинтона было нежелание быть вовлеченным. Эти вопросы не были приоритетными в его повестке и не соответствовали ни его идеализму, ни его интеллектуальным наклонностям. Они попахивали скверным прошлым, и он знал, что эффективное решение потребует либо лоббирования, либо применения силы. Некоторые из проблем, как, например, конфликт в Чечне, нельзя решить, не отказавшись от оптимистических надежд и от соприкосновения с отвратительными реальностями. И наконец, последнее, но не менее важное, что связано, по-видимому, с наиболее значительными трудностями, – израильско-палестинский конфликт, чреватый риском политических трудностей в самих США.
Эти вызовы требовали значительно большего, чем просто веры в исторический динамизм глобализации или убеждения, что мировая политика может рассматриваться как продолжение внутренней. Критики Клинтона вполне обоснованно настаивали на том, что «глобалония»[3] не заменяет геостратегии. А геостратегия означает установление приоритетности геополитических вызовов, чтобы могли быть приняты быстрые и решительные меры. Американское лидерство еще не было доведено до столь высокого уровня. К чести Клинтона следует сказать, что, несмотря на отсутствие у него желания, он все-таки пытался найти средства для ликвидации балканского кризиса и в конце концов преуспел в этом. К несчастью, этого нельзя было сказать о Сомали и Руанде. Вскоре после вступления в должность Клинтон оказался в положении, когда нужно было принять решение в связи с эскалацией насилия в Сомали, куда его предшественник на правил небольшой контингент американских вооруженных сил в рамках международной санкции по поддержанию мира. Но и конце 1993 года в ходе широко разрекламированной прессой операции, названной «Удар черного ястреба», отчаянная попытка американских военных спасти окруженную и находившуюся в осаде в центре Могадишо команду специальных сил окончилась тяжелыми потерями американского персонала, и Клинтон поспешно свернул американское участие в Сомали. Контраст между американским участием в Югославии и замалчиванием того, что произошло в Африке, не остался незамеченным.
Впечатление о безразличии Америки к Африке связывалось также с ее продолжительной пассивностью к бедствиям геноцида, происходившего в Руанде в 1994–1995 годах. Международное сообщество по существу было лишь наблюдателем. Новые независимые африканские государства не желали предпринимать какие-либо действия, а бывшие европейские колониальные державы делали только самое минимальное. Соединенные Штаты, по-видимому, считали, что эта проблема не имеет более широких геополитических последствий и сами африканцы, может быть, с помощью бывших европейских колониальных держав должны будут ее решить.
В противоположность этому на балканский кризис в его начальной фазе, который Клинтон унаследовал от Буша, он реагировал с большой решительностью и эффективно. Сначала Соединенные Штаты медлили с осознанием того, насколько потенциально опасен кризис в многонациональной Югославии. И то время как объединенная Германия быстро признала (и втайне приветствовала) независимость Словении и Хорватии, Франция и Россия не сделали этого, мотивируя свою позицию традиционной близостью к Сербии. Такие конфликтные обстоятельства быстро привели к войне в Боснии с ее смешанным населением, состоявшим из хорватов-католиков, боснийских мусульман и сербских ортодоксальных боснийцев. Госсекретарь Буша Джеймс Бейкер, выражая ошеломляющее безразличие, часто цитировал поговорку: «В этой драке нет нашей собаки».
Эскалация войны быстро привела к зверствам, каких Европа не видела с конца Второй мировой войны, как, например, массовые казни, проводившиеся сербской армией в Сребренице, взволновавшие западное общественное мнение. Обеспокоенный возможными осложнениями советник по национальной безопасности Клинтона откровенно предостерег своего шефа (по информации журналиста Роберта Вудворда), что «слабая и беспорядочная стратегия в Боснии становится раковой опухолью всей внешней политики Клинтона, разрастаясь и пожирая всяческое доверие к ней». Вскоре первоначальные колебания Америки и разногласия среди западных держав были преодолены, частично благодаря предпринимавшимся усилиям по укреплению Атлантического альянса, расширению НАТО и росту Европейского Союза, создавшим атмосферу, благоприятную для образования единой общей позиции.
Несмотря на резкие протесты России и сохранявшуюся отстраненность некоторых европейских союзников, короткая, но интенсивная воздушная война НАТО против сил, поддерживаемых Сербией, привела к прекращению военных действий. В конце 1995 года за этим последовала мирная конференция в Дейтоне (штат Огайо), символически отразившая центральную роль Америки в урегулировании кризиса. Однако резолюция конференции не положила конец насилию, которое вскоре снова вспыхнуло – на этот раз в Косово, части бывшей Югославии, населенной в основном албанцами. Сербская политика этнических чисток, направленная против албанского большинства в Косово и рассчитанная на то, чтобы упрочить национальную консолидацию Сербии, снова вызвала массовые убийства гражданского населения и насильственное изгнание людей с мест и постоянного проживания.
На этот раз Соединенные Штаты действовали более решительно, и госсекретарь Олбрайт приняла на себя ведущую роль действуя от имени правительства Соединенных Штатов. Она активно использовала политический момент, созданный расширением НАТО, для того, чтобы сформировать политическую коалицию, поставившую Сербию перед четким выбором: либо уйти из Косово, либо быть из него изгнанной. При единой позиции Америки и Европы длительные бомбардировки нанесли серьезный ущерб инфраструктуре Сербии (включая ее столицу), пока экспедиционный корпус НАТО формировался в Албании и Греции, готовясь к решающим наземным операциям.
Россия, которая резко возражала против этой акции, в последнюю минуту пыталась принять участие в урегулировании конфликта, внезапно направив небольшое военное подразделение в аэропорт столицы Косово Приштины, возможно, надеясь сохранить часть территории Косово для Сербии или создать в Косово отдельную чисто российскую зону оккупации. Но ввиду политической решимости НАТО из этой попытки ничего не вышло. Политика расширения и усиления Атлантического сообщества, таким образом, подтвердила свою действенность, и заключительная фаза югославского кризиса разрешилась к середине 1999 года на условиях Запада и под американским руководством. Сербия была вынуждена оставить Косово.
Решение Клинтона послать в Боснию войска, принятое вопреки резолюции, внесенной в Конгресс республиканцами, а затем снова применить силу, чтобы вынудить Сербию уйти из Косово, имело ключевое значение для стабилизации в бывшей Югославии. Оно также укрепило успешное американо-европейское сотрудничество в проведении совместных операции по обеспечению безопасности. В 2004 году, после ухода Клинтона с поста президента, возглавляемые Америкой вооруженные силы НАТО в Боснии были преобразованы в европейские силы, что свидетельствовало об укреплении трансатлантических связей.
Но политика Клинтона в отношении самой России на фоне напряженности, уже возникшей из-за расширения НАТО, была осложнена вследствие югославского кризиса. Как и его предшественник, Клинтон придавал очень большое значение своим личным отношениям с Ельциным, которого он горячо одобрял и превозносил публично как убежденного демократа. Учитывая политическую неразбериху в России, затяжной спад ее экономики и ее финансовый кризис, имело смысл поддерживать лидера, который открыто отрекся от имперского прошлого России и декларировал свою приверженность демократии. Кроме того, экономическая и финансовая помощь была компенсацией России за унизившую ее потерю власти над Центральной Европой.
Клинтон и его главные советники по России сделали полное и всестороннее примирение между Америкой и Россией своей главной стратегической целью. Но жестокий финансовый кризис 1998 года вынес на поверхность внутренний конфликт между беззастенчиво самообогащающимися экономическими реформаторами (и их различными американскими партнерами) и возмущенным этим российским населением, резко обнищавшим из-за продолжавшегося финансового потрясения. Попытка Международного валютного фонда, управляемого Соединенными Штатами, помочь России выйти из краха ее финансовой структуры в основном свелась к бегству западных инвесторов и спекулянтов. Всё это вызвало глубокий сдвиг в психологии и сознании русского народа в сторону самодостаточного экономического национализма и привело к дискредитации ельцинского режима.
Для Кремля, страдающего от потери статуса, самой горькой пилюлей стала независимость государств, бывших частью имперской России задолго до революции 1917 года. Особенно чувствительной для Москвы была американская поддержка независимости Украины, поскольку без Украины Россия не могла бы надеяться на восстановление славянской империи. В данный момент, однако, Россия мало что могла бы сделать, столкнувшись с этой проблемой. Иначе обстояло дело в Чечне. Эта небольшая нерусская народность, живущая на Центральном Кавказе, была покорена давно, но настойчиво стремилась к свободе. В 1944 году Сталин депортировал почти все население Чечни в Казахстан, где половина его погибла. До 60-х годов им не разрешали вернуться в родные места. Вскоре после того, как в 1991 году Советский Союз был распущен, чеченцы объявили о своей национальной независимости.
Первая война между Чечней и Россией разразилась в 1995 году после многократных взаимных провокаций и кровавых столкновений, включая бесплодные с российской стороны усилия восстановить контроль над Чечней путем использования местных лояльных чеченцев, вооруженных российскими службами безопасности. Так продолжалось около года, в течение которого чеченцы яростно отстаивали свою независимость. Ненадежное прекращение огня нарушилось после попыток чеченцев стимулировать движение за независимость других кавказских народов. И конце 1999 года Ельцин передал свое президентство – чем дальше, тем все менее эффективное, – премьер-министру Владимиру Путину, возобновившему войну, которая продолжалась с еще большим ожесточением несколько следующих лег. В ходе войны, когда обе стороны прибегали к тактике террора, погибло до 25 процентов чеченского населения.
Мы никогда не узнаем, могло ли более активное посредничество США привести к какой-либо компромиссной формуле, особенно во время первой российско-чеченской войны. Фактом является то, что Клинтон вообще предпочел оставаться в стороне и даже сравнивал эту войну с Гражданской войной в Америке, а Ельцина с Авраамом Линкольном. Получилось так, что внутри все еще не устоявшейся российской политической системы война в Чечне привела в движение прогрессирующее усиление традиционных инструментов власти в России – сил безопасности и военщины. Она создала также общественную атмосферу, благоприятную для изменения в обратном направлении первоначального движения России в сторону демократии. Победу в войне Путин сделал своей главной целью. Ассоциируя свое президентство с энергичными усилиями к достижению победы, он был в состоянии использовать поднимающийся российский национализм и растущее недовольство американским глобальным влиянием для того, чтобы способствовать появлению более авторитарного и националистического российского государства. Сладким мечтам Клинтона о всеобъемлющем американо-российском примирении не суждено было сбыться.
Тем не менее, Клинтон заслуживает признания за инициативу, которая в последующем стала препятствием для возрождения российского империализма. Таким препятствием является спонсируемый Соединенными Штатами нефтепровод Баку-Джейхан. Смысл этого нефтепровода в том, чтобы дать Западу прямой доступ к каспийской и среднеазиатской нефти. В октябре 1995 года Клинтон и его советник по национальной безопасности попросили меня, полагаю потому, что я еще раньше выступал за такую американскую инициативу, доставить личное письмо Клинтона президенту Азербайджана Гейдару Алиеву и вступить с ним в диалог относительно долговременных выгод для Азербайджана от такого нефтепровода. Благоприятное решение азербайджанцев потребовало бы отказа от удовлетворения требований России о том, чтобы вся азербайджанская нефть экспортировалась исключительно через российскую территорию. Алиев и я несколько дней подряд вели поздно вечером длительные переговоры, а в дневное время азербайджанский президент встречался с влиятельной российской делегацией, настаивавшей на принятии обязательства исключительно в пользу России. До своего отъезда из Баку я смог сообщить Клинтону, что Азербайджан принял на себя обязательство поддержать американскую инициативу и официально заявить об этом до моего отъезда. Сегодня нефтепровод Баку-Джейхан является важной помощью усилиям Европы (так же как и Америки) диверсифицировать свои энергетические источники.
В стремлении найти модус вивенди с Китаем Клинтон встретился с меньшими трудностями и использовал с этой целью постепенное включение Китая в ВТО. В середине 90-х годов имели место два преходящих кризиса в Тайваньском проливе в связи с тем, что китайцы действительно были встревожены возможностью того, что Тайвань при поддержке США объявит о своей независимости, и сознательно подвергали испытанию американскую решимость, стремясь спровоцировать Клинтона подтвердить обязательство, данное президентами Никсоном и Картером, о проведении политики «одного Китая». Направив корабли американского флота в пролив, Клинтон продемонстрировал, что Соединенные Штаты не останутся пассивными в случае возникновения военных действий, но в то же время США подтвердили ранее достигнутое понимание того, что окончательное воссоединение Китая и Тайваня является вопросом, который будет решен самими китайцами без применения силы.
Последовавший за этим обмен визитами на высшем уровне (ни один из них не был столь теплым, сколь теплыми были встречи Клинтона с Ельциным) восстановил нормальные взаимоотношения, несмотря на то, что контролируемый республиканцами Конгресс и некоторые средства массовой информации распространяли страхи о развивающемся и враждебном Китае.
Администрация Клинтона оказалась способной смягчить наиболее острые проявления неизбежных американо-китайских коллизий, одновременно продолжая свои усилия, направленные на то, чтобы втянуть Китай в связывающие его международные обязательства. Тем не менее, имевшая место военная конфронтация в проливе, по-видимому, еще больше подтолкнула Китай к модернизации своих сил, так чтобы они могли оспаривать американский контроль на водах, отделяющих Китай от Тайваня.
Вероятно, наиболее разочаровывающим и важным событием политики Клинтона была неудавшаяся попытка извлечь выгоду из быстро меняющихся текущих обстоятельств, возникавших по крайней мере дважды из-за тупика в израильско-палестинских отношениях и один раз в отношениях между Ираном и Америкой. Первая возможность для того, чтобы продвинуть вперед мирное израильско-палестинское урегулирование, возникла вскоре после вступления Клинтона в должность; вторая – незадолго до его ухода из Белого дома. Промежуточные годы прошли впустую – политика США постепенно переходила от нейтрального признания необходимости справедливого урегулирования ко все более односторонней произраильской позиции.
Ближневосточная команда Клинтона отражала эту эволюцию. По мере того как шло время, ключевые фигуры, занимавшиеся переговорами об израильско-палестинском урегулировании, рекрутировались во все большей степени из произраильских исследовательских институтов и из израильских лоббистов. Хотя у них и не было единого мнения, наиболее известные из них были против любой конкретной американской мирной инициативы, любого «американского мирного плана» на том основании, что должно пройти время, прежде чем с обеих сторон будет готовность к подлинному урегулированию. Этот аргумент, однако, играл на руку наиболее непреклонным представителям Израиля, которые использовали время для того, чтобы расширять и укреплять поселения израильтян на оккупированных территориях в убеждении, что «свершившиеся факты» в конечном счете вынудят палестинцев к более односторонним уступкам.
Первая возможность появилась после соглашений в Осло, подписанных 13 сентября 1993 года на официальной – и лично для Клинтона триумфальной – церемонии на лужайке Белого Дома, кульминационным моментом которой было историческое рукопожатие между премьер-министром Рабином и лидером ООП Ясиром Арафатом. Соглашения предусматривали установление де-факто палестинского самоуправления на оккупированных территориях и, таким образом, становились начальной точкой движения к окончательному решению о двух государствах, фактически основанному на линии прекращения огня 1967 года. На церемонии в сентябре Арафат отрекся от «использования терроризма и других актов насилия», но Рабин, со своей стороны, не заявил об обязательстве прекратить строительство поседений на палестинской территории.
Вслед за этими соглашениями в течение года последовал Израильско-иорданский мирный договор, который означал, что Израиль теперь имеет нормальные отношения с двумя из трех его мусульманских соседей.
Годы 1993–1995 были, таким образом, периодом благоприятных возможностей. Израильские поселения на палестинских землях были еще мало заселены, а Рабин и Арафат осуществляли эффективный контроль на своих территориях. Между этими двумя людьми установилось прохладное, но конструктивное рабочее сотрудничество, и перспективы мира улучшались. В следующем году они оба поделили Нобелевскую премию мира.