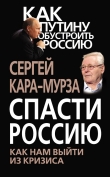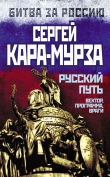Текст книги "Газета Завтра 781 (45 2008)"
Автор книги: "Завтра" Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Сергей Соколкин ПОТОМУ ЧТО Я РУССКИЙ Вспоминая Николая Тряпкина
После многолетнего отсутствия в литературе, восстанавливаясь, так сказать, в литературных правах, отнес я недавно стихи в горячо мной любимый журнал «Наш современник», автором коего являюсь уже лет пятнадцать. Первую мою подборку «дал» еще Геннадий Касмынин. А последнюю – «великий и неприступный» Юрий Кузнецов – за месяц до своего ухода – в октябре 2003 года. Теперь «стихами занимается» Сергей Куняев, ему я и отдал свои творения. И вот через некоторое время звоню ему, чтоб узнать о судьбе публикации. И слышу в трубке взволнованно-возмущенный срывающийся голос Куняева-младшего:
– Серега, у меня к тебе очень серьезный разговор. Как ты мог дать в журнал со своими стихами одно из лучших стихотворений позднего Тряпкина?!
Я, как говорится, чуть со стула не упал. Во многих вещах меня упрекали в жизни. За многое ругали. Но такое! Уж в чем-чем, а в плагиате меня еще ни разу не обвиняли. Даже в шутку. Моему возмущению просто не было предела. Я тоже начал "закипать" в трубку. Но, собрав волю в кулак, все-таки спросил:
– Сергей, о каком хоть стихотворении идет речь?
– Как о каком, о стихе "Потому что я русский". Я его, кстати, на четырех каналах телевидения читал.
Тут уж моему ликующему возмущению просто не стало конца и края…
– Да ты что, это же мое самое любимое, самое известное стихотворение. Это моя "визитная карточка". Оно у меня несколько раз было опубликовано – и в газете "Завтра", и в "Аль-Кодсе", и даже в собственной книге. Только вот в журналах и альманахах не публиковал. Кстати, и подборка в "Завтра", и книга вышли с предисловием Николая Ивановича Тряпкина. Я его (стихотворение) и на вечерах газеты, и на своих собственных вечерах читал (в ЦДЛ, ЦДРИ, Славянском центре и т.д.). И даже перед депутатами в Госдуме. Оно и в Интернете на нескольких сайтах есть, в частности, – на сайте "Поэзия сопротивления". А в рубрике "Песни Русского Сопротивления" под названием "А.А.Проханову" много лет распространяется на дисках и кассетах – в патриотической среде. И мне даже один батюшка рассказывал, что в некоем монастыре монахи его наизусть учили. Ну, и меня, конечно, гордость и радость по этому поводу разбирала. А тут вдруг меня лишают авторства. Пусть даже в пользу великого поэта, моего старшего друга, которому я обязан двумя статьями обо мне, предисловием к книге стихов "Ангел в окровавленной слезе" и рекомендацией в Союз писателей России в 1994 году.
Получается такой – плагиат наоборот. Я слышал, что некоторые личности приписывают себе чужие произведения, выдают их за свои. Это дико, но понять это можно, как вора, крадущего дорогую картину или слиток золота… Но чтобы наоборот, – свои стихи вставлять в чужие книги, это уже модернистские извращения какие-то…
А Куняев тем временем продолжал: "Я его и в посмертный сборник лучших стихов Н.И.Тряпкина "Горящий водолей" включил… "И полилась печальная беседа"… Оказывается, книга вышла в 2003 году(!) (а я пять лет об этом ничего не знал) в издательстве "Молодая гвардия" в серии "Золотой жираф". И сейчас стоит на полках любителей поэзии и многих библиотек страны.
И я вспомнил, как это все начиналось… А начиналось все с подборки во все той же – любимой Тряпкиным нашей газете "Завтра", где он и публиковал все свои новые стихи. И где я тогда служил завотделом поэзии. Был апрель 1995 года. Тряпкину, как и всему народу, жилось очень тяжело. Плюс ко всему, атмосфера в собственной семье была очень напряженная и гнетущая (дочь поэта вышла замуж за человека, далекого от поэзии, от культуры в целом). И Николай Иванович стал просто лишним человеком, от которого, по его словам, просто хотели побыстрее избавиться, мелочно не разрешая пользоваться холодильником, заходить на кухню и т.д. А тем более "стучать" на пишущей машинке. И Николай Иванович приносил мне стихи, написанные "от руки" его аккуратным, почти каллиграфическим почерком. И виновато говорил: "Вот, Сережа, опять – от руки". Я его успокаивал, говорил, что ничего страшного, что я сам отпечатаю. Печатал, приносил в редакцию. И стихи "выходили". Замечательные – великие стихи. Боевые!
И вот в этот раз я, как всегда, отдал стихи в секретариат – в набор, но "вычитать" полосу по каким-то причинам не смог. И вот выходит газета N 17(73) за апрель 1995 года. Я прихожу на планерку, а там – скандал, крики. Тринадцать лет прошло, а я до сих помню… Проханов лишил меня премии, Бондаренко наговорил обидных слов о редакторском непрофессионализме. А я, главное, ничего не могу понять. Тут мне показывают свежую газету с подборкой стихов Тряпкина, которая (подборка) называется "Потому что я русский" и заканчивается двумя моими стихотворениями, и последнее из них – одноименное названию подборки, посвященное А.А.Проханову. Я чуть не расплакался от обиды, возмущения и собственного бессилия что-либо переделать. И главное, что я не мог понять, как оно там оказалось. А Бондаренко еще и масла в огонь подливает:
– Ты понимаешь, что ты наделал? Ведь начнется путаница. Литературоведы и биографы Тряпкина будут вставлять эти стихи в его книги… А что скажет Тряпкин?.. Купи бутылку коньяка и езжай к нему, извиняйся… Опровержение мы, конечно, дадим, но… Увы и ах!..
Тряпкин, кстати, оказался единственным человеком, кто только посмеялся и сказал, подбадривая меня: "А что, мне очень понравилось, я под каждым словом подписываюсь. Очень хорошие стихи. У меня давно не было таких мускулистых, молодых стихов. Очень жалко, что не я их написал…"
Бутылка была благополучно выпита, Николай Иванович по моей просьбе спел несколько своих замечательных стихов, включая трогательную "Гагару", я в ответ прочитал "наше общее" – "Потому что я русский". Его "домашних" дома не было и мы засиделись. Поздним вечером я уехал домой. Опровержение вышло в одном из следующих номеров. И я благополучно забыл об этом. Но об этом, как оказалось впоследствии, забыл и литературный критик Владимир Бондаренко, написавший, кстати, литературный портрет "отверженного поэта" Николая Ивановича Тряпкина.
…Куняев продолжает: "Когда я стал собирать эту книгу стихов, я, естественно, обратился в газету "Завтра", так как Тряпкин в последние годы публиковал стихи только в "Завтра" и "Нашем современнике". И Бондаренко дал мне все газетные номера с Тряпкинскими публикациями. Но он мне ничего не сказал про этот казус-скандал…"
Забыл, видимо, подумал я, тринадцать с лишним лет прошло все-таки…
Я лихорадочно носился по книжным магазинам и нашел-таки эту шикарно изданную книгу с глубокой, мудрой вступительной статьей Сергея Куняева, с большим знанием и любовью написавшем о творчестве великого русского поэта – нашего современника. И на странице 351 стояло ОНО. Мое стихотворение. Ощущение, надо сказать, очень странное. И ревность. И гордость. И дурость ситуации… Есть только одна ошибка. В книге стихотворение датировано 1995 годом – видимо, по газетной Тряпкинской публикации. А написано мною оно было 10 апреля 1994 года. И в том же "Завтра", и в моей книге опубликовано в том же – 1994 году. Его, кстати, особо отмечал в статье обо мне в 1994 году поэт Борис Примеров, откликаясь на выход моей книги "Ангел…". А в еще более ранней статье, опубликованной в "Литературной России" в 1993 году, тот же Примеров целиком цитирует второе стихотворение – "На могиле", попавшее в Тряпкинскую подборку в газете "Завтра" (хорошо, что хоть оно не попало в Тряпкинскую книгу, хотя, пожалуй, немного обидно – оно что, хуже?…)
Теперь эта яркая толстая книжка стоит на моей книжной полке – как некий символ, как, можно сказать, общее детище… Даже хочется иногда отчеканить, или, нет, лучше закричать, высунувшись из окна:
– Попробуйте теперь сказать, что я не классик!…
Но казус – он на то и казус, чтобы иметь продолжение. В сентябре сего года литературная общественность России широко праздновала 75-летие своего руководителя – Председателя правления Союза писателей России Валерия Николаевича Ганичева. Празднества проходили и на Суворовской площади, и в Центральном Доме литераторов. Были даже сняты фильмы-клипы о Ганичеве, которые были показаны и там, и там. И, как говорится, по законам жанра – и там, и там в фильмах этих звучало "лучшее стихотворение позднего Тряпкина" – "Потому что я русский".
С момента издания моей последней книги – при помощи Зураба Церетели в 1994 году – прошло уже четырнадцать лет. И уже давно пора издавать новую. И книга сама уже написана. Даже две. Денег вот только пока нет на их издание. Но когда деньги будут, я бы очень хотел издать ее в том же издательстве – "Молодая гвардия". Попросить бы Сергея Куняева написать вдумчивое, как он умеет, предисловие. И "упереть" у Н. И. Тряпкина одно стихотворение. Любое. Чтобы счет был – "один-один"…
Думаю, кстати, что Тряпкин был бы единственным, кто бы не обиделся и не возмутился, а по-детски рассмеялся и пропел:
Дорогой ты наш поэт!
Все тебя мы славим
И за каждый твой куплет
По поллитра ставим…
Алексей Шорохов СТИХИЯ
В.И. Славецкому
Когда о родине приходится молчать,
Чтоб не подставить и не сдать невольно,
И на устах не тронута печать
Любви великой и почти подпольной, -
Смири гордыню, странствуй по Руси!
Тебе откроются её леса и люди.
Пока рубаху ветер парусит -
Никто твоё молчанье не осудит.
Но в самый час оттаивать уста,
Когда наступит благостная осень, -
От твоего нательного креста
Пахнёт жильём и светлым шумом сосен!
МОЁ ПОКОЛЕНЬЕ
Наши души, пригнутые горем,
Как деревья под выпавшим снегом,
Не шумели листвою по взгорьям,
Для пернатых не стали ночлегом.
Лишь косматые странные звуки
В них роились и тлели под спудом.
Слишком много безумства и муки -
Между детской молитвой и блудом!
Не вернуть эти гулкие годы
В иссечённой страстями темнице!
Но во тьме прозябавшие всходы
Всё теперь возвращают сторицей.
Наши души, промытые горем,
Как ракушечник на перекатах,
Дарят вдумчивым северным зорям
Отраженья лучей розоватых.
***
Без креста, без молитвы, без песен…
Как же ночь-то была тяжела!
Никому уже не интересен,
Одного он, наверно, желал:
Как во сне, как в зловещем тумане,
Отдаляя последний свой час,
Он надеялся, будто обманет
Тот для всех одинаковый глас,
И шептал: «Хоть немного помедлю
В этом сером промозглом краю…» -
Оставляя желанную землю,
Беспощадную землю свою!
И, уже пролетая над полем,
Где смешались и снег и вода,
Навсегда расставался он с болью,
Кроме боли – при взгляде сюда.
***
С каждым днём всё ближе эти рощи,
Где в траве затерянный ручей,
Как пера замысловатый росчерк,
В даль уходит – светлый и ничей.
И над всем вокруг, над сном и мукой
И тоскою сердца моего -
Тишина великая: ни звука,
Ни дыханья ветра, ничего!
Будто жизнь, отговорив, застыла,
Будто вот-он он, конец пути -
В буйстве трав,
в затерянном и милом
Уголке нетронутом… в груди.
***
Всё грустнее моя деревня.
Скоро выпадет первый снег -
Будто сон о прекрасной царевне
Присмиревших полей и рек.
Скоро будет тепло и сухо,
Буду печку весь день топить,
Буду ветер слушать вполуха
И, наверное, брошу пить.
А когда над притихшим руслом
Незамёрзшей в снегах реки,
Над густым слюдянистым суслом
Пронесётся лебяжий крик -
Только голову спрячу в плечи,
Прошептав: «во веки веков…»
Это значит, что в этот вечер
Умер кто-то из стариков.
11 ноября, 18.00
Центральный дом литераторов (Малый зал)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОЙ КНИГИ АЛЕКСЕЯ ШОРОХОВА "ОПРАВДАНИЕ ПОЭЗИИ" ("ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МИСИС")
В вечере примут участие: Владимир Костров, Владимир Личутин, Михаил Попов, Юрий Воробьевский, Сергей Сибирцев, Алла Бородина, Сергей Небольсин, Владимир Винников.
Ведёт вечер – Игорь Блудилин.
Проезд: м.«Баррикадная», «Краснопресненская», ул. Б.Никитская, 53.
Вход свободный.
Ольга Орлова МАКЕТ НА КОЛЁСИКАХ С XI Международной архитектурной биеннале
В Венеции сейчас на арх-биеннале развернулся «матч за Россию». В интернациональном пространстве по мне так счет 3:0 в нашу пользу. Осталось разобраться внутри.
Там снаружи: архитектура вне зданий (Out There: Architecture Beyond Buildings) – такую тему предложил куратор этого года, американец нидерландского происхождения Аарон Бецки. «Красота всегда снаружи – вспомнилось мне сразу венецианское эссе Иосифа Бродского, потому что она исключение из правил». Такое было только именно внутри японского павильона – тончайший рукотворный рисунок по простыням стен. Как будто храмы – только расписаны каллиграфами, а не иконописцами. «Привет фреске», по определению архитектора Евгения Асса. В целом же биеннале – о другом.
"Золотого льва" взял павильон Польши. "Как черепа коней будут пугать пустыми глазницами окон – недостроенные небоскребы. Да здравствует Новый Романтизм с миром мегаруин и погасших вывесок. Царь-кризис грядет!" – написал мне недавно литературный знакомый. Вот это и было у поляков. Они там наснимали самых кассовых своих построек и поглумились над ними в Фотошопе. Что станет с этим офисно-банковским глянцем спустя полувек? Варшавский Metropolitan – офисный анклав, построенный в 2003 году Норманом Фостером, – обернется тюрьмой. Терминал столичного аэропорта – загоном для крупного рогатого скота плюс птичьим двором. Небоскреб – колумбарием. Все загажено, разбито, всюду – мусор…
За такое умирание архитектурной плоти в серии фотографий "Меланхолия" в 2000 году уже получал первого и единственного российского "Льва" архитектор Илья Уткин. Тогда куратором нашего павильона так же, как и в этом году, был архитектуровед и критик Григорий Ревзин. Сам-то он вразрез с кураторским призывом "Меньше эстетики, больше этики!" ставку тогда делал на глубокоэстетствующего неоклассика Михаила Филиппова. Но жюри проголосовало за "смерть державы". К слову, у нас тогда Грозный лежал в развалинах. На это кураторство Ревзина выпал разгром Южной Осетии. Но это – внезапное совпадение: за три месяца разве можно развернуть кураторский замысел вспять, тем более, что в этот раз он был закручен на деньгах и власти. Постсоветская Россия впервые представила реальную архитектуру. Вновь в пику общебиеннальной теме – здания. Там империя умирала, а здесь – заколосилась нефтедолларовыми всходами. Такое разве поощрят?
Тем более, что в этом году биеннале случилась проамериканской. За четверть года до ее открытия, когда об агонии американского образа жизни еще не говорили с телеэкранов, "Золотого льва" за "жизненный вклад" вручили Фрэнку Гери (США в архмейнстриме представляет он). Его главное детище – музей в Бильбао – выражение гугенхеймской пропаганды потребления искусства на манер фаст-фуда. Гери – зачинатель архитектуры как такой взбудораженной веселухи, менее всего ориентированной на какую-то там социальность, экологию или вписанность в ландшафт, более – на доход. Именно этот персонаж, по июньскому признанию американца Бецки, и воплощает кураторский концепт "архитектуры вне зданий". Это такие фантазийные фрики… "Архитектура – способ думать о зданиях, – говорит Бецки, – а когда они построены, она умирает". А у Гери – всё равно живёт! Потому что его реализации галюциногенны. Здание думает само себя. Не равно самому себе. Кривляется и скандалит.
В российской архитектуре эту линию реализует бюро "Арт-бля". Они вообще из всех наших архитекторов наиболее адекватны посылу Бецки о "выходе за рамки архитектуры как дисциплины". "Чтобы начать новую работу, – формулируют они свое кредо, – надо освободиться от груза знаний и опыта, выйти из существующих рамок наперекор всем правилам. И только после того как родилась идея (неважно, в каком жанре она выражена), мы вспоминаем, что мы – архитекторы". Однако это единственное наше бюро, которое бойкотировало биеннале (даже смотреть – не то что участвовать – не поехало). О причинах – ниже. Хотя, если абстрагироваться от политики и прикинуть чисто с эстетических позиций, раскрути мы там Савина-Чельцова-Лабазова, может быть, и завоевали бы "Льва". В конце концов еще один "царь-зверей" ушел (тоже, правда, американцу) Грегу Линну. Но его утиль-мебель из отслуживших свое пластмассовых зверушек по мне так на порядок слабее выкрутасов детской студии "Арт-бля". Ну, допустим, это наше нулевое очко – несостоявшееся, но всё же ставим галочку.
Дальше – хохма. Известный своими титановыми лопастями Фрэнк Гери вдруг в итальянском павильоне "Мастера эксперимента" выставил деревянный аналог музея Бильбао, который к тому же обмазывали глиной. И наши архитекторы похохатывали: "Гери стал Бродским!" В прошлом году в русском павильоне мы выставляли Александра Бродского – мастера по работе с необожженной глиной. Кстати, сейчас его инсталляции из этой беззащитной материи – на пермской выставке "Русское бедное". Но у нас-то понятно. А там икона американской архитектуры трескается на глазах! Это безусловное очко в нашу пользу (2:0) – у нас Бродский в теме уже 10 лет.
Вряд ли за те три месяца между вручением первого и последующих "Львов" что-то кардинально изменилось в сознании хунты экспертов, да и самих американских зодчих, но тем не менее невероятно: Гери в копеечном недолговечном исполнении, да и в наградной стратегии – другие акценты. Главная неожиданность, конечно, – Польша. Но удивил и "Серебряный Лев", вручаемый молодым экспериментаторам и на этот раз – чилийцу Алехандро Аравена (группа Elemental) за сверхдешевое жилье для самых бедных. Построенное можно было разглядеть в стереоскопические очки, что, наверно, также подчеркивает масштаб проблем малых сих жителей не первого по счету мира. Хотя табель о рангах слегка поплыл. Шутка ли – Америка в своем павильоне развела огород: помидоры, капуста, лук… Экспозиция называется "Сквозь рай" (towards paradise) – через потребительский бум к подножному корму? Хотя Германия вот тоже подумала на тему рая: яблоньки в горшках и с капельницами. Чем-то это напоминало инсталляцию "Кома города" Александра Бродского (еще очко? 3:0). Только здесь издыхает не любимый город, а природа. В павильоне Дании целую »ecotopedia» развернули – словарь экопроблем и их решений.
Досталось насчёт экологии и России – эстонцы протянули между нашим и германским павильонами желтого "удава" – это на тему, как проект строительства северного газопровода портит экологию Европы. В эскизе была чудовищная черная труба раза в четыре больше своей реализации. Такой же "пшик" получился и из украинского демарша. Эти установили рядом с нашей площадкой надувную ракету СС-20. Вроде как упрек в милитаризме, но по виду как будто кто-то просто нагадил, отобедав прежде чем-то радостно-кислотным по цвету и не переварив. Так что эти выпады не в счет. А мы, кстати, уже подобрались вплотную к родной экспозиции. Вон они – уже вздымаются жерди сделанной николо-ленивцами экспромтом "триумфальной арки"…
Внутри же наш центральный зал нарезан красно-белыми квадратами. Их, должно быть, 64 – шахматное поле боя. Фигуры – макеты зданий. За каждым – имя архитектора. Национальная версия "матча за Россию". Наши в численном превосходстве – их 15. Иностранцы, видимо, уже слегка "побиты" – 11. (Итого: еще наши четыре очка). Красно-белый диколор отсылает к гражданской войне, что понятно, так как воюют, по сути, не архитекторы – наши с зарубежными (как на том настаивают кураторы) – а чиновники-девелоперы с территорией сиречь с населением. Вопрос в том, чья – своя или рекрутированная с Запада – пехота гуманнее. (Таким образом, четыре псевдоочка снимаем).
Получилась та еще метафора строительного бума: здания убивают друг друга. Хотя игра с подвохом: в центре – пятиметровая Башня "Россия" Нормана Фостера из "Москва-Сити". Если все прочие макеты на колесиках (что символизирует откаты?) и двигаются, этот нет – главный король партии. И никакие тут шах мат не помогут. "С земли никак, только если с воздуха", – шутили на открытии. Перефразируя пассаж из одноименной теме биеннале книжки куратора: "Каждая территория мечтает быть очищенной".
Когда-то в Центре исследования хаоса (cih.ru) у нас с коллегой была концепция метрополитена как корневища архитектурной Москвы, дающего побеги в город. Ее пластического бессознательного, изживаемого архитекторами, но возвращаемого к прототипу заказчиками и властями. В русском павильоне в Венеции подполье изумительно. Это такие фантастические уснувшие остовы, выбеленных рубанком стволов, в световых пятнах, с замершими ветвлениями, с прорывом – на фотопанораме – в родной приугорский простор. Инсталляция экс-митька Николая Полисского в подвале павильона – "то, о чем мечтает русская земля". Весьма знакомый, судя по его научным статьям прошлых лет, с фрейдизмом и юнгианством куратор нашей экспозиции Григорий Ревзин очистил подсознание русской архитектуры, наполнив его совершенными и исконными архетипами, и обнажил всю гнусь коммерциализации и властного произвола.
Несмотря на то, что в российском павильоне была показана реальная архитектура, в его решении фирменное для куратора Ревзина противопоставление эстетики и действительности. Причем амплитуда экстремальна. Как формировалась экспозиция этого года? Был отобран список архитекторов. Взнос за участие – 100 тыс. евро. Архитекторов обзвонили. А те уже шли к своим девелоперам: "Ты знаешь, мне… – тут архитектор спотыкался, – то есть нам… предложили участвовать в Венецианской биеннале, – и тут архитектор смотрел своему заказчику в глаза. – Только надо заплатить 100 тыс. евро". Деньги (по крайней мере, для бизнес-воротил) – смешные. Шаг (по крайней мере, для некоторых архитекторов) – серьезный. Со стороны так – это просто взять и подкосить там, где оно еще оставалось, самостояние архитектора как художника и социального деятеля. Подоплека – максимум консенсуса. Художественно – метафора боя – мужской реальной драки или войны.
То, что, продолжая пространственную метафору павильона, можно назвать "сознательным современной российской архитектуры", выглядело как дорогостоящая челюсть какого-нибудь олигарха или начальника от градоинстанций после двустороннего удара братьев Кличко: всё перемешано и в крови – стены павильона так же, как и пол, наполовину в красном. Хотя отсеков на втором этаже на самом деле было три: первый девственно-белый с концепциями, второй кроваво-красный – реализации, третий черный – девелоперы. Здесь же в последнем, замкнутом, как ящик, помещении вот уже видно угрожающе проросшие щупальца древесного подземелья. Процесс пошёл…