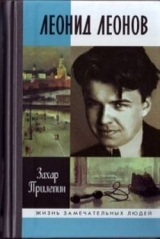
Текст книги "Леонид Леонов. «Игра его была огромна»"
Автор книги: Захар Прилепин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Глава шестая ТЕПЛОПОЖАТИЕ: ЛЕОНОВ И ГОРЬКИЙ
ПрибытиеЛеонов говорил: «Горький жал руку Толстому, Толстой – Тургеневу, Тургенев – Гоголю, Гоголь – Пушкину… Так и шло в русской литературе это теплопожатие. Мне Горький жал руку, и я ценил это».
Впервые Горький пожал руку Леонову в июле 1927 года.
Леонов недавно из России, ехал через Германию и Австрию, с молодой женой, красивый, стройный, кареглазый, 28-летний.
Визы на выезд получили очень быстро, просто пришли в итальянское посольство и сказали: «У нас приглашение от Горького». В ответ им: «Хорошо, посидите». И вскоре вынесли необходимые документы.
Дорога до Сорренто, конечно, утомила.
Сначала грохочущий и гулкий Римский вокзал. Потом допотопный, медленный, ночной поезд до Неаполя, спали с женой друг у друга на коленях, по очереди. В пять утра в окне показался Везувий. Леонов «почтительно догадался» (его формулировка) об этом по облачку над горой.
Куда опаснее Везувия оказался сосед в чёрной рубашке. В Италии уже Муссолини, и чёрные рубашки в моде. Молодой фашист заинтересовался, куда едет Леонов.
– В Сицилию? – почему-то настаивал он.
– В Неаполь, – отвечал Леонов, пытаясь на доступном ему французском объяснить, зачем вообще он оказался в Италии.
Выяснилось, что в Сицилии находился лагерь интернированных антифашистов, и чернорубашечник был уверен, что чете Леоновых надо именно туда. Даже вызвал полицейского.
Разобравшись в ситуации, офицер полиции на всякий случай проводил Леоновых от Неаполя до Кастелламаре: а то вдруг большевистской пропагандой займутся гости. Но при этом тащил на себе вещи Леоновых – такая вот трогательная полиция.
Из Кастелламаре на неспешном трамвайчике до Сорренто. И дальше, мимо маслин, агав и виноградников, пешком – минут пятнадцать ходьбы.
Несносная жара и белая пыль. Пыль напомнила Леонову Гражданскую войну, 1920 год, дорогу из Тяганки в Берислав. Он к тому же был в плотном шерстяном костюме, а поверх него добротный макинтош на подкладке. Всё это можно было конечно же снять, но положить некуда – в чемодан не умещалось. Пришлось нести на себе, изнемогая. (В чемодане, надо сказать, лежал клетчатый демисезон – тот самый, из романа «Вор». Леонов его купил в подражание Фирсову, своему двойнику; так вот герои действуют на их создателей.)
После грохота Римского вокзала, поезда до Неаполя, грохота трамвая, полное безмолвие отеля «Минерва», где поселилась чета Леоновых, было поразительно.
Потом догадались, что близкое море глушит почти все звуки, кроме недалёкого ослиного крика.
А поначалу подумали, что они тут единственные постояльцы. От удивления разговаривали шёпотом. Постояльцев действительно не было. Только Валентин Катаев с женой: все они приехали вместе.
Отель стоял ворота в ворота – через дорогу – с виллой Горького. В «Минерве» постоянно останавливались его гости.
Первым делом Леонов кинулся умываться, мыть свои замечательные волосы: все фото тех лет запечатлели его густой чуб.
Стоит над тазом с водой, мылит голову, и тут голос:
– Посмотрим, что такое за Леонов. Давайте знакомиться.
Высокий, чуть сутулый, рыжеватые усы, две внятные морщины у бровей, неизменная слеза в глазу – это Горький. В рубашке, которая ещё будет упомянута. На ногах мягкие туфли.
Наверное, Леонов спешно вытер руку о полотенце – подал Горькому. По лицу – с чёрных вьющихся волос текут капли.
У Леонова крепкая ладонь мастера, чуть, от воды, влажная. У Горького цепкие сухие пальцы. Вот вам теплопожатие… Донесли от Пушкина.
* * *
Мы сказали: был Катаев. Остановимся здесь на минуту.
Хотя они приехали вместе, близки Леонов с Катаевым не были. Ни в 1927-м, ни позже.
Быть может, поначалу их ничего не сближало как писателей.
В 1927 году Катаев ещё не стал автором великолепных своих «мовистических» повестей, навеки поместивших его в пантеон русской литературы. Пока он автор нашумевших в 1926-м «Растратчиков» и юмористического романа «Остров Эрендорф». Леонову такая проза кажется чуждой.
И всё-таки: два больших писателя. Катаев, как и Леонов, почти ровесник века, – он прожил без малого 90 лет, родившись в 1897-м. Пересекались сотни раз. Ещё до Сорренто виделись в редакции «Красной нови». Встречались в 1925-м на квартире у писателя Всеволода Иванова, с которым оба были дружны: там часто собирались Бабель, Пильняк, Мариенгоф с женой, актрисой Никритиной, Буданцев; заходил, нежданный, подурневший Есенин.
Потом была эта совместная поездка за границу, и так далее: встречались позже у Горького; часто сидели вместе в президиумах писательских съездов. Есть даже совместная фотография Леонида Леонова с Всеволодом Вишневским, Борисом Горбатовым и Валентином Катаевым в президиуме на собрании писателей в Доме учёных в 1946-м.
Но вообще они, как правило, делали вид, что друг друга не замечают.
Леонов, к примеру, ни слова не сказал про Катаева, уже когда набрасывал несколько заметок о Горьком в том же 1927 году.
Что-то сразу у них не заладилось.
А потом выливалось в какие-то нелепые, а то и подлые истории.
К примеру, в 1938-м Леонов пережил один из моментов наивысшего своего успеха. В один день, 6 мая, состоялись премьеры его пьес сразу в двух театрах: во МХАТе – «Половчанские сады», в Малом театре – «Волк». Такое случается крайне редко: Леонов знал только один подобный пример – с Оскаром Уайльдом. Но вскоре после премьер появляется разгромная, унизительная статья Катаева.
Другой случай. В марте 1962 года Корней Чуковский записал в дневнике, что Катаев встретил его сына Колю «и сказал ему, будто найдено письмо Леонида Леонова к Сталину, где Леонов, хлопоча о своей пьесе „Нашествие“, заявляет, что он чистокровный русский, между тем как у нас в литературе слишком уж много космополитов, евреев, южан…».
Вообще, это всё в духе склонного к нехорошим мистификациям Катаева (он, кстати, по крови русский). Во-первых, письма такого просто нет. Во-вторых, история, выдуманная Катаевым, нелепа не только потому, что Леонов был крайне щепетилен в национальных вопросах, но и по той причине, что судьба «Нашествия» и так сложилась крайне удачно. (Кстати, подобное письмо – о «южанах» – существовало, но написали его Фадеев, Сурков и Симонов в 1949-м, а затем, второе, в 1953-м.)
«Этот тип выжал из знакомства с Горьким всё возможное», – мимоходом брезгливо бросит Леонов о Катаеве много лет спустя.
Как начиналосьВпервые имя Леонова Горький услышал, вернее прочёл, в письме писателя Вениамина Каверина в 1923 году. Каверин тогда поставил Леонова в странный ряд – Лунц, Антокольский – и сказал, что эти люди станут «почвой» для новой литературы.
В июле 1924 года Горький в письме Константину Федину спрашивает о Леонове: «Кто такой?»
«Я не знаю его, – отвечает Федин, – Всеволод (Иванов. – 3. П.) говорил, что он – славный парень. Вышло три его книжки – „Петушихинский пролом“, „Туатамур“ и „Деревянная королева“. Первая сказ. Вторая повесть о Чингисхане, сделана очень хорошо: рассказ о России, какой её нашёл азиатский победитель, – его словами, сквозь его глаза. Третья – в духе Гофмана, но слабо. Знаю ещё о Леонове, что он – зять Сабашникова и что – поэтому – все его книжечки роскошно изданы».
В 1924-м у Горького отношение к Леонову двойственное. То, что он к тому времени прочёл у Леонова, слишком напоминало Замятина (в котором Горький уже разочаровался) и Достоевского (с которым Горький всю жизнь внутренне спорил).
«Леонова я читал две вещи, – пишет он Федину в том же июле, – Ковякина и „Конец лишнего человека“».
На самом деле повесть называется «Конец мелкого человека», – но оговорочка Горького важная: так сказать, в память о русской литературе XIX века, которая извелась по «лишним людям». Другой вопрос, что для Леонова нет никаких «лишних» людей, по крайней мере, в классическом русском понимании, – его куда больше занимает «лишнее» человечество; но Горький пока об этом не догадывается.
«Ковякин – это всё ещё „Уездное“, – пишет Горький дальше. – „Конец“ – это очень Достоевский». И тем не менее добавляет: «Написал, чтоб мне прислали его книги».
Чутьё на дар у Горького было отменное. И в случае с Леоновым он тоже знал, что здесь надо копать ещё.
«Обратите внимание – это талант», – рекомендует Горький Леонова литератору Далмату Лутохину уже в августе 1924-го.
В ноябре 1924-го Горький посылает Леонову первое письмо, предлагая сотрудничество в журнале «Беседа» и желая «свободного роста» его таланту.
Леонов отвечает наивно, юношески:
«…получил письмо ваше и немедля сажусь отвечать…»;
«…благодарю за добрые пожелания ваши: грешен человек, люблю хорошие вещи слышать, а тем более от вас…»;
«…ужасно трудно говорить об этом, и слова выходят какие-то неловкие…»;
«…искреннее и большое желание поскорее увидеть вас в России, в Москве. Это всё так, конечно, но только вряд ли московский климат заменит вам Сорренто: вчера выпал снег, дни стали острые, вся Москва хрипит…»;
«…ещё раз благодарю вас за письмо ваше, а самому вам от всего сердца желаю много-много здоровья…»
И всё это, запинающееся и неловкое, пишет великолепный прозаик, которого ценители всерьёз и не без оснований уже именуют великим.
В финале письма своего, уже расписавшись («…Весь ваш Леонид…»), Леонов неожиданно дописывает: «Очень охотно буду отвечать на письма ваши». Мол, пишите, Алексей Максимович.
Но Горький к тому времени был умудрённым человеком, с колоссальным опытом переписки, посему некоторую трогательную неловкость обескураженных его вниманием авторов легко прощал.
Быстро перечитав почти всё опубликованное Леоновым, Горький меняет к нему отношение на противоположное. Никаких «всё ещё Замятин» и «очень Достоевский». Полный, не без горьковской слезы, восторг от самобытности.
Рассказы? Прекрасные! «Юноша оригинального таланта и серьёзных тем», – говорит Горький о Леонове в одной из своих статей в том же 1924 году.
В начале 1925 года, прочитав «Барсуков», Горький пишет Леонову письмо: «Сердечно благодарю Вас за „Барсуков“. Это очень хорошая книга. Она глубоко волнует. Ни на одной из 300 её страниц я не заметил, не почувствовал той жалостной, красивенькой и лживой „выдумки“, с которой у нас издавна принято писать о деревне, о мужиках».
К слову сказать, отношение к деревне – ещё одна суровая ниточка, что поначалу привязала Горького к Леонову: старику, прочитавшему о звериных нравах мужичья в «Барсуках», показалось, что Леонов так же, как он, недолюбливает русское дикое крестьянство (и пометки Горького, сделанные на полях «Барсуков», подтверждают это).
«Я полагаю, крестьянство именно при своей прежней культуре и останется, на уровне почти первобытном… – так, в пересказе Федина, говорил Горький. – Иной мир, иная душа. Высунет человек нос за ворота, глянет направо, налево, пройдёт вдоль слепых изб, выйдет в поле. Дорога сливается с небом, глазу не на чем остановиться, ни конца, ни краю. Одни эти пространства высасывают своей пустотой… обедняют душу. Посмотрит, посмотрит – и назад, к себе, на полати».
Федину явно запали слова учителя в душу, потому что в статье Горького «О русском крестьянстве», опубликованной в Берлине в 1922 году (и никогда после не переиздававшейся), говорится почти дословно то же самое: «Выйдет крестьянин за пределы деревни, посмотрит в пустоту вокруг него, и через некоторое время чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества. Усадьбы помещиков? Но их мало, и в них живут враги. Города? Но они – далеко и не многим культурно значительнее деревни. Вокруг – бескрайняя равнина, а в центре её – ничтожный, маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда».
Более того:
«Жестокость форм революции, – пишет Горький, – я объясняю исключительной жестокостью русского народа.
Когда в „зверствах“ обвиняют вождей революции – группу наиболее активной интеллигенции, – я рассматриваю эти обвинения как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий, или – у людей честных – как добросовестное заблуждение».
И «Несвоевременные мысли» Горького, в сущности, только о том и написаны – о зверстве народа.
«Каторжный мужицкий труд… не способен развить вкус к „праведному“ упорному и честному труду…» – пишет Горький.
«Крестьянские дети зимою, по вечерам, когда скучно, а спать ещё не хочется, ловят тараканов и отрывают им ножки. <…> Милая забава…»
Надо ведь! А пролетарские дети ножки у тараканов не отрывали. Не говоря уж о барчуках.
«Тяжело жить на святой Руси!
Тяжело.
Грешат в ней – скверно, каются в грехах – того хуже», – печалится Горький.
А Леонов, повторим, безо всякой «красивенькой выдумки» повествует о деревне. Близкая душа.
В том же письме Горький продолжает: «Вы сумели насытить жуткую, горестную повесть Вашу тою подлинной выдумкой художника, которая позволяет читателю вникнуть в самую суть стихии, Вами изображённой. Эта книга – надолго».
Отметим одно интересное совпадение. В 1925 году Горький заканчивает «Дело Артамоновых», где есть такое место: «Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краёв полную мудрости». Это, безусловно, навеяно одним пассажем из рассказа Леонова «Халиль» 1922 года: «А старики ехали, блестя глазами, как сосуды с драгоценным римским вином, надменные и недвижные, потому что боялись расплескать мудрость».
О Леонове с добром Горький упоминает в письмах той поры писателям Ивану Касаткину и Михаилу Слонимскому.
Летом 1925-го у Горького гостит Павел Марков, завлит МХАТа, уже познакомившийся с Леоновым. Так Горький его буквально заваливает вопросами: откуда Леонов, что у него за биография, быт, привычки – как истинный почитатель интересуется. Марков отмечал, что ни к одному из молодых советских писателей (а была уже целая плеяда!) не было у Горького такого интереса.
«Что делает Леонов? – спрашивает Горький и у Всеволода Иванова в сентябре 1926-го. – Слышу, что всё собирается писать огромнейшие романы, это – знаменательно, значит, люди чувствуют себя в силе».
Из Сорренто, а слышит. Прислушивается.
В марте 1927-го, уже незадолго до приезда Леонова, Горький пишет критику Илье Груздеву, что в Леонове предчувствуется «большой русский писатель».
В гости к Горькому «большой русский писатель» буквально напросился: он хоть и был приглашён, но ещё в 1925 году.
Двенадцатого июня 1927-го, выехав уже в Европу, Леонов писал: «Сидим сейчас в Рапалло, дорогой Алексей Максимович, и собираемся посетить Вас».
Горький отвечает радостно, не без стариковского кокетства: «Писано было мне… <…> что имеете вы великодушное намерение заглянуть ко мне, старику, и был я этим весьма обрадован, но – усумнился.
Теперь же, получив письмецо ваше, того более обрадовался и – нетерпеливо жду вас с жёнами и детями».
Детей, кстати, за их отсутствием, никто не обещал везти, но Горький и на детей был согласен.
«Поселитесь же вы через дорогу от меня в месте тихом и красивом…
И – выпьем.
<…> День приезда – телеграфьте».
И теперь Леонов здесь, в Сорренто, в отеле, только что с дороги. Смотрит внимательно, мягкая улыбка. Мыльная вода в тазу покачивается.
– Ну, собирайтесь, и – жду вас, – говорит Горький.
Вилла, море, литераторыВилла Горького стоит почти у края обрыва, над морем. Двухэтажное здание арендуется у некоего дюка Сера-Каприола, живущего в Неаполе.
У дома постоянно стоит, как напишет после Леонов, «синьор в богатых усах, с зонтиком и в лихо приспущенной до бровей борсалине». Шпик. Мало того что шпик – он к тому же одноглазый.
Ещё проходя мимо виллы Горького, Леонов заметил колючие и пыльные опунции на каменной ограде. Это – род кактусов с плоскими сочными членистыми ветвями. Леонов тогда уже в них разбирался и остался верен своему увлечению всю жизнь.
Кто только не побывал в Сорренто, но никто эти опунции не заметил, а если и видел, то название не знал. Даже Горький скорее всего ничего в них не понимал. Он вообще кактусы терпеть не мог.
Зато любил сад: он большой, и в нём апельсины. Соломенные щиты защищают от солнца. Под щитами прячутся домашние, потягиваясь на складных парусиновых креслах.
Горький приветлив, куцая собачка Кузя реагирует на голос Горького: крутит хвостом, хотя приветствует он чету Леоновых. Знакомит со своими. А это: любимая женщина Мария Игнатьевна Будберг, Иван Николаевич Ракицкий – художник, друг Горького, живущий в его доме постоянно, сын – Максим Пешков с чадами и женой, Надеждой Алексеевной Пешковой, которую в семье ласково зовут «Тимоша», о чём Леонов немедленно узнаёт…
Горький в тот же день ненадолго увёл молодого писателя от родных и близких, «определив» супругу Леонида Максимовича к «домашним», чтобы не скучала.
Проходят в кабинет. На столе, заметил Леонов, множество журналов с разрезанными страницами, то есть прочитанных или как минимум пролистанных. Среди них – дом родной для Леонова – «Красная новь» и многие иные, о которых, живя в России, Леонов не слышал. И десятки, если не сотни писем.
– Хорошую литературу пишете, сударь! – говорит Горький Леонову.
Рассказывает что-то, чтобы раскрепостить, а может быть – очаровать Леонова. Горький это умеет. Сам себя обрывает и задаёт вопрос о Москве, о её людях, о стране.
– Замечательные дела делаются! – то ли спрашивает, то ли утверждает. Или спрашивает так, чтобы услышать желанный ответ. Сам при этом смотрит чуть искоса, заметит Леонов.
Рассказать можно разное. Прошлым летом Леонов с женой и его брат, Борис Максимович Леонов, ездили в Ярославскую область, в деревню Ескино, на родину матери. Леонид взял с собой фотоаппарат. Много снимал и по этой причине нехорошо поругался с мужиками на деревенской свадьбе.
Запомнил это настолько, что спустя год напишет заметку: «Я вознамерился было снять одну презанятную, в повойнике, старуху, но, значит, чрезвычайным городским видом своим с аппаратом на штативе слишком нарушил старинное благолепие праздника. Все, хозяева и гости, обступили меня, недобро загалдели, и была острая минута, когда я опасался за целостность своего Тессара… – Вот сымешь нас, а потом в газетке пропечатаешь: как замечательно, дескать, живут мужички, – лучше нельзя! Видали в газетках. А ты и дырявые крыши наши сымай, чтобы все видели…»
(Потом Леонов спародирует самого себя в «Соти», изобразив там чуждого народу немца с фотоаппаратом.)
Сказать про дырявые крыши и злых мужиков? Горький всё поймёт по-своему.
Тем более что было и другое.
Мимо деревни матери, по Любимскому округу, протекает река Соть, та самая, что потом даст название роману. На Соти уже начинается новая бурная жизнь: весной 1926-го в четырёх километрах от Балахны запустили строительство крупнейшего в Европе предприятия по производству газетной бумаги. Так что не одни дырявые крыши на всю погоревшую Россию.
В зиму с 1926 на 1927 год Леонов впервые побывал на Сясь-строе.
И они говорят обо всём.
Леонова тоже, наверное, интересует мнение Горького о происходящем в Стране Советов. Не меньше, чем Горького, мнение Леонова. Но напрямую Леонов, конечно, не спросит: «Не считаете, что этот перекувырк был слишком болезненным для самочувствия человека и для России?»
Совсем недавно Леонов написал в «Воре»: «…и душу отменили, и собственность: до последнего срама раздели человека…» – с традиционной леоновской хитрецой наделив этими словами непутёвого героя Манюкина.
Не спросишь ведь у Алексея Максимовича: «До последнего срама или нет, как думаете? Есть чем срам прикрыть?»
Поэтому – много рассказывает сам, следит за реакцией.
Горький слушает, щурит глаза. Улыбка его, запомнит Леонов, «испытующая, с лукавой приглядкой, бесконечно дружественная».
Насчёт испытующей и лукавой Леонов угадал. По поводу дружественной, тут сложнее. Нет, дружественная, конечно, но не всё принимающая, не всепрощающая.
* * *
Внешне за три чудесные недели пребывания Леоновых в Сорренто всё было замечательно. Леонид был несказанно счастлив и помнил свои впечатления долгие годы. Он – в начале жизни. И он – признан Горьким. Это многого стоило!
Гуляли, дышали густым ароматным воздухом. К пыли привыкли – зато есть море, прозрачное и голубое, паруса, ветры, чайки… Гудят жуки, дымит жуткий Везувий. Художник Юрий Анненков, гостивший чуть ранее у Горького, говорил, что цвет Везувия – лиловый. И любимое ругательство у Горького было «черти лиловые», вспомним некстати.
Впрочем, Леонов увидел цвета иными: «…весь голубой, как юноша только что получивший тогу, дремлет Везувий… постоянное облачко над ним, как сновидение, то розовое на заре, то голубое в полдень».
На заре Леонов вставал; шли купаться с женой на пляж – в маленькую бухту Regina Giovanna; шпик провожал их одним глазом и снова разворачивался к вилле Горького. Почтальон как раз нёс корреспонденцию: едва ли не половину его сумки занимали письма и пакеты из Советской России.
До полудня Горький работал, читал газеты, отвечал на письма и потом выходил к семье, к гостям.
Хорошо, сытно, красиво обедали (Леонов впервые, чуть озадаченный, попробовал варёного осьминога). Владелец отеля «Минерва» Джованни Кокачио заходил в гости с женой.
В первый же общий обед Горький сам налил Леонову рюмку водки. Про отношения Леонова со спиртным мы уже говорили. Он сострил тогда: вот, мол, не горьким опытом наученный он, а Горьким опыту наученный.
Леонов вспомнил, когда был сильно пьяным в последний (или, если верить Полонскому, в предпоследний) раз. Приехал в деревню, зашёл к соседу и угодил в самый эпицентр тяжёлого мужицкого разговора.
Объяснялся народ колоритно и витиевато. Леонов не стерпел и решил записать несколько слов, выражений. Прямо на колене.
– Ну-ка! – остановили ею. – Чего ты там пишешь, голубчик?
Леонов объяснил, что он писатель. Это не успокоило.
– И чего он о нас напишет, этот писатель? – спросил кто-то раздражённо.
Повисла пауза.
– Да вот Горький же писал, – ответил другой.
– А ну-ка, налей ему, – приказал тот, кого принимали за старшего.
Мадеркой называли самогон с мёдом.
«Мне налили её в миску, густую, так что ложка качалась в ней, как маятник», – рассказал Леонов.
Выпил и упал.
A утром мужичьё ушло в леса, подальше от советской власти.
Алексея Максимовича история позабавила…
Леонов с интересом наблюдал за отношениями Горького и его возлюбленной Марии Будберг. Тридцатипятилетняя, вовсе не красивая, но чем-то пленяющая и даже таинственная Будберг вела себя за обедом как хозяйка. Алексей Максимович обращался к Будберг на «вы».
(Только потом Леонов прочитал письмо Горького Будберг, поразившее его: «Вы относитесь ко мне, как „барыня“ к „плебею“, позволяете покрикивать на меня, а ведь вы – единственная женщина, которую я люблю…»)
Горький с доброй наивностью хвалился Леонову, что Будберг ведёт свою родословную от Петра Великого. «Мария, пожалуйста, продемонстрируйте!»
«Она сбросила юбку и вышла в розовеньких рейтузах, – говорил потом Леонов. – Поставила одну руку на бедро, другую отвела в сторону, откинула голову назад – и мы увидели Петра».
Незадолго до смерти Леонов неожиданно признается одному из своих гостей, что в тот приезд Будберг хотела его… соблазнить.
– Но зачем мне это надо было? – усмехнулся старик Леонов. – Молодая жена… Горького бы обидел… Увильнул.
Все вместе посещали траттории, ели персики и виноград. Огромной, весёлой, шумной компанией ходили на местные базары «Forcella» и «Ducesca». Видели восхитительный неаполитанский аквариум. Были на спектаклях известного оперного театра «San Carlo».
Горький платил за всех. Он даже не позволил Леонову расплатиться за отель – расходы за проживание взял на себя. Был заботлив в каждой мелочи.
Выезжали на машине: Леонов, Горький и Максим Пешков за рулём. Катались по полуострову. Объезжали окрестности Неаполя от Сорренто до Мизенского мыса. Поднимались на Везувий, спускались в пещеру Кумской сивиллы.
Возвратившись, разжигали костёр: Горький страстно любил огонь. В «Русском лесе» один из героев вспомнит, как в гостях у Алексея Максимовича разожгли в ложбинке, под цветущими агавами такой костёр, что приехали местные пожарные. Неизвестно, случалось ли это в действительности, но такие шутки вполне были в духе Горького.
Весёлой пиротехникой радовали порой и сами итальянцы – Муссолини ценил праздники. Вечерами Горький созывал всех на балкон смотреть, как вокруг залива взлетают ракеты и римские свечи.
– Это в Торе Аннунциата! – радовался Горький и руки потирал. – А это в Неаполе! Ух, как зажаривают!
Так жили.
Леонов привёз и сюда свой «Тессар». Умело пользовался им. Остались снимки того лета.
На одном – Горький, одна из лучших его фотографий.
Есть совместная фотография в кабинете Горького, где запечатлены он сам, Будберг, приехавший в гости к Горькому биолог Николай Кольцов и Леонид Максимович.
На третьем снимке Леонов и Горький вдвоём, на балконе дома. Леонов – молодой, крепкий, красивый, что называется, кровь с молоком. Тяжёлые, явно не летние ботинки, тёмные брюки. Рубашка с засученными рукавами и на груди расстёгнута: молодость. Улыбается хорошо и Горького приобнял.
Ни по одной леоновской фотографии тех лет не скажешь, о чём думает этот, в сущности, юноша, какие непомерные глыбы ворочает в голове. Но есть и другое ощущение: всмотревшись, понимаешь, что этого полного жизни, очаровательного человека ничего кроме литературы не интересует.
Горький на том же фото строг, рубашка застёгнута, руки сложены крест-накрест на колене.
Горький вообще часто спрашивал у писателей об их отношении к музыке, к песне; немного позже ругал Всеволода Иванова, что тот не знает, не понимает песенного искусства.
Леонов – иной случай. Он пел в числе иных разбойные песни, которые помнил после работы над «Вором»: «Среди лесов дремучих / Разбойнички идут. / А на плечах могучих / Товарища несут…»
Рассказывал Горькому, как собирал материал к ещё не прочитанному им «Вору»: посещал суды, часто присутствовал на допросах убийц, грабителей.
Между прочим, поведал Горькому несколько случаев.
Жил тогда такой бандит – Жорж Матрос, харьковский. Его поймали, приговорили к расстрелу: было за что. Когда пришла его любовница к тюрьме, он крикнул из-за решётки: «Подними юбку!» Она подняла. Жорж Матрос смотрел, вцепившись в прутья. Потом махнул рукой и отошёл от окна.
Горький записал в дневнике:
«Вчера Леонид Леонов рассказал, что бандит, приговорённый к расстрелу, увидав свою жену в тюремное окно… <…> предложил ей поднять подол, и нагота её даже на расстоянии успокоила его возбуждённую чувственность.
Леонов… не понял трагического смысла в жесте старика, не понял последней вспышки в человеке слепой воли к жизни».
Леонов позже отмахивался, когда ему говорили об этой записи Горького, – мол, сам он не понял. «Это было прощание с жизнью, – такие слова запишут за Леоновым, вспомнившим случай с бандитом. – Это было не просто половое переживание. Для него закончилась вся радость жизни. Это было как затухание на кресте».
Горький внимательно слушал Леонова, щурился, вертел какие-то вещички в руках, карандаш, спички, сигарету – он много курил. Конечно же Леонов был интересен ему. Но нечто не совсем понятное иногда раздражало Горького в Леонове, в его суждениях, в поведении его.
Сильнее всего Леонов разозлил Горького, когда они посещали вместе Помпейский зал Неаполитанского музея.
Горький бывал там десятки раз, в музее его знали и уважали настолько, что специально для него открывали недоступные залы.
Горький запишет:
«Леонов ходил в Помпейском зале Неаполитанского музея, и, глядя на фрески, бормотал: „Не понимаю, не понимаю“. Должно быть, заметив, что его нежелание понимать несколько огорчает меня, он продолжал уже более задорно и как бы с целью посмотреть: а что дальше?
– Не понимаю, – повторял он настойчиво. Раз двадцать слышал я это слово, печальное и неуместное, в устах талантливого художника. За обедом я сказал ему:
– Леонид Леонов интересен и значителен не тем, что отказывается что-то понимать, а тем, как он понимает и почему не понимает.
Мальчик обиделся на меня. Самолюбив он не очень умно. Невежественен – очень.
Но – талантлив…»
Горький, наверное, был в чём-то прав. Ну да, Леонов оказался самолюбив. И, кажется, действительно желал позлить, и даже провоцировал осмысленно. Зачем только?
Потом, многие годы спустя, Леонов утверждал, что никого он и не собирался злить. «Вся живопись Помпейского зала мне не нравится, – сказал он литературоведу Александру Овчаренко. – Я не люблю эти сухие тона. Я считаю великолепным Неаполитанский музей. Там стоит Праксителева Психея. Это усечённый торс… и эти девственные ключицы… изумительно! А Помпейский зал… Да, я говорил: „Не понимаю, не понимаю“, но говорил так мягко только из уважения к Горькому. Фрески мне просто не нравились».
Ох, лукавит старик Леонов! Надо же какое уважение: двадцать раз подряд сказать «Не понимаю!», искоса поглядывая на Горького… Мог бы ведь и смолчать.
«В Помпейском зале чувствуется какая-то сухость, от температуры, может быть… – пояснит своё неприятие Леонов позже. – Но, правда сказать, всё ведь сделано графически плохо, сделано примитивно».
А по поводу своего «невежества» Леонов заметил, что есть запись Горького, где он назвал серым и невежественным человеком Чехова.
* * *
Но расстались они не без нежности и долгих рукопожатий.
А когда же вы к нам, на родину? – спросит Леонов. Пожалуй, на следующую весну. Охота повидать друзей, по Волге проехать хочется… И вообще… очень многого хочется, – ответит Горький.
И не обманет – приедет.
«Поездка в Сорренто оправдалась, – напишет Леонов в том же году, – в Сорренто я познакомился с человекомАлексеем Максимовичем Пешковым».
В устах Леонова слово «человек», да ещё с разбивкой – значит много. Человека он ищет постоянно.
«Поездка оправдалась» – не менее важное замечание. Как будто ехал услышать какие-то важные слова: и услышал их. Если ещё раз вернуться к разбивке, то можно и так сказать: ехал, чтобы найти человека и опору себе отыскать – в человеке. И, кажется, нашёл её.
«Я возвратился буквально влюблённым в Горького», – будет ещё долго повторять Леонов, рассказывая о своих ощущениях августа 1927 года.








