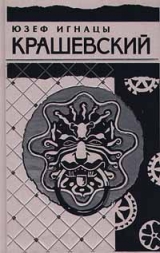
Текст книги "Князь Михаил Вишневецкий"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
– Вероятно, до самых выборов, – сказал Михаил.
– Но она захочет так же управлять будущим королем, как управляла теми, кто поддерживает его кандидатуру… В конце концов мы этого не потерпим. Радзивиллы наши открытые враги… а они заодно с Собесским.
Князь Михаил спокойно поправил его:
– С женой маршалка Собесского.
– Ты прав, этот прелестный селадон, до сих пор так обожает свое божество, что повинуется всякому мановению ее руки… Правда, красавица Мария не избаловала его слишком большой любовью со своей стороны и других дарит улыбками, более нежными, чем мужа…
– Дает ему почувствовать, какую большую милость она ему оказала, выйдя за него замуж, – прошептал князь Михаил. – Собесский всем обязан ей.
Пац перебил его язвительным рассказом о чрезвычайно интимных отношениях жены маршалка с французами. При дальнейшем разговоре он перебрал все ходившие в обществе сплетни…
Князь Михаил равнодушно слушал это; видно было, что он был только зрителем в этой жизни, не вмешиваясь в нее активно, между тем как Пац принимал горячее участие во всем происходившем.
Дав Михаилу немного отдохнуть, Пац встал и, не позволив ему остаться дома, повлек его с собой. Вишневецкий был ему нужен для антуража и напоказ, точно так же, как некогда князьям Острожским был нужен каштелян или воевода в качестве дворецкого или, как называлось у них, маршалка двора, "гофмаршала"…
Поэтому молодые люди вместе выехали из дома на углу Медового переулка и начали длинный ряд посещений в те дома, в которых Пац хотел напомнить о себе, а князю Михаилу пришлось сопровождать приятеля.
III
Была весна. Приближалось время, назначенное для выборов, а примас больше всего проводил время в Ловиче, куда ежедневно съезжались все друзья Кондэ…
По лицам и настроениям гостей легко можно было судить, что дело французского кандидата развивалось весьма успешно. Примас перед своими интимными друзьями откровенно говорил, что он уверен в исходе выборов.
Заблаговременно уже распределялись вакансии, какие открылись или могли представиться в период между предварительным съездом ("конвокацией") и избирательным сеймом ("элекцией").
Старик Пражмовский раздавал их, посоветовавшись со своими помощниками и не сомневаясь, что воля его будет исполнена… Несмотря на эту уверенность, они все-таки вели себя бдительно, и Пражмовский ежедневно получал из провинции известия о настроениях, которые там назревали.
Трое самых деятельных приверженцев герцога Кондэ, – архиепископ, Собесский и канцлер Пац, – находились как раз в кабинете Пражмовского на обычном совещании, когда старший придворный доложил о приезде стольника Гоженского… и Пражмовский приказал его тотчас же впустить…
Пан Цедро Гоженский, родом мазур, очень дальний родственник семьи архиепископа, скромный и незаметный человек, почти скрывавший себя и свои сношения, был одним из тех верных слуг Пражмовского, которые исполняли его приказания и наблюдали за подготовкой будущих выборов – anima damnata [22]22
Преданная душа (лат.).
[Закрыть] своего старого господина. Гоженский имел особый дар всюду проникнуть, играть различные роли, смотря по надобности, и получать нужные сведения.
Никто бы не догадался, что этот скромно одетый, несколько лысый, покорный, тихий стольник является главным орудием примаса, который как бы не знал его, – даже не позволял ему никогда показываться в Ловиче.
Гоженский пользовался значительным доверием у шляхты и никогда не задевал. Его не опасались, потому что никто не подозревал в нем деятельного помощника приверженцев Кондэ…
По отношению к своему покровителю и его друзьям, Цедро казался таким покорным, послушным, мягким, точно сам по себе он ничего не значил и не мог, а между тем, благодаря своей необыкновенной гибкости, он умел незаметно выследить все, что ему было нужно, и направить согласно своему плану панов братьев.
Появление Гоженского в этот час не представляло ничего исключительного: почти ежедневно он являлся к примасу с донесениями и за приказаниями… Присутствие Собесского и Паца, перед которыми у него не было тайн, не мешало примасу конфиденциально переговариваться с своим верным слугой.
Стольник скромно остановился у порога, очень низко поклонился всем по очереди сановникам и ждал.
Примас с видимым удовольствием посматривал на явившегося, он его явно любил и ценил.
– С чем явился, милый Цедро? – сказал архиепископ своим тихим в мягким голосом. – Quid novi [23]23
Что нового? (лат.).
[Закрыть]?
Гоженский, казалось, минутку раздумывал, бросил вопросительный и многозначительный взгляд на примаса, но получил немой ответ, что может говорить откровенно. Все-таки самый вопрос и колебание предвещали что-то чрезвычайное, и Пражмовский беспокойно зашевелился.
– Quid novi?.. – повторил он.
Гоженский погладил свою лысину, покачал головой и, немного колеблясь, начал:
– Действительно, приношу кое-что новое, – сказал он, – хоть это, может быть, и нелепая болтовня, требующая подтверждения…
Глаза всех с любопытством обратились к говорящему.
– Шляхта в Калишском, Сандомирском и Краковском воеводствах, – продолжал Гоженский, – бродит немножко…
– Ох! – перебил примас. – Она еще будет иметь время перебродить…
Цедро покачал головой…
– Покамест собираются против Кондэ, – сказал он, – только из-за того, что сенаторы и primates regni [24]24
Первые люди государства (лат.).
[Закрыть] за него… Движение это крепнет…
Примас поморщился.
– А кого же они хотят? – почти с гневом спросил он, – может быть, Лотарингского?
– Вовсе нет, – ответил шляхтич, – они сами не знают, кого поставить… Пяст ксендза Ольшовского немного вскружил им головы.
– Absurdum [25]25
Нелепость (лат.).
[Закрыть], – проворчал примас, – я не вижу в этом никакой опасности, так как я никогда не соглашусь ни на какого Пяста. Что нам мешает, если они потешатся фантасмагорией? Какой Пяст? Который? Где? – все более возбуждаясь, говорил примас. – Ольшовский – это настоящий turbator chori [26]26
Нарушитель хора, расстройщик (лат.).
[Закрыть]. Я подозреваю даже, что он в шутку рекомендует Пяста, лишь бы прибавить нам забот, так как он отлично знает, что такого нет и быть не может.
Гоженский почтительно молчал и, когда примас, окончивши, умолк, он начал снова:
– При всем том, среди шляхты идет сильная агитация, если не против Кондэ, так как его ни в чем упрекнуть не могут, то против панов сенаторов и старшей братии.
– Вот еще! – горячо отозвался примас. – Старая история; дух противоречия, наваждение сатаны… подрыв всякой дисциплины… всякого повиновения власти, назначенной от Бога… Началось это давно и не скоро кончится… "Равный воеводе" звучит, как лозунг [27]27
Намек на польскую пословицу: «шляхтич на загроде, равен воеводе» (загрода – усадьба).
[Закрыть]…
Он помолчал немного.
– Ну, – прибавил он, – правду говаривал этот великий канцлер Замойский, что шляхте нужно накричаться, а потом она скоро остынет. Знал ее в этом отношении и Хмельницкий. Надо дать перебродить, а потом все успокоится и усмирится…
Гоженский не прерывал его, но, когда наступило молчание и глаза примаса снова обратились к нему, спокойно проговорил:
– Не хочу повторять злобных клевет, но они выставляют то, что Кондеуш подкупил-де всех, что он деньгами подбирается к короне, которую он уже заранее, еще при Яне Казимире, подготовил себе.
Собесский и Пац взглянули друг на друга и канцлер Литвы [28]28
Крыштоф Пац.
[Закрыть] стал бормотать что-то себе под нос.
Маршалок, молчавший все время, сказал довольно равнодушно:
– На всех выборах всегда должна была проявиться чья-либо оппозиция, потому что шляхте чуть ли не самое главное иметь случай показать, что она чувствует за собою известное значение. Лишь наш последний государь получил, благодаря казакам unanimitatem [29]29
Единогласие.
[Закрыть], но и тому пришлось предварительно упросить своего соперника князя Карла, чтобы тот сам уступил ему, сняв свою кандидатуру.
– О Пясте не может быть и речи, – проговорил примас, – боюсь, что это фокусы Лотарингского, который, спутав ходы сопернику, хочет воспользоваться мутной водой… Шаваньяк много хитрее и ловчее, чем многие думают…
Говоря это, архиепископ поднял вверх руку и начал потряхивать головой…
– Лотарингского, – смело сказал Собесский, – вовсе нечего опасаться. Даже его собственный посол считает его дело проигранным…
– В таком случае нет и соперников, – сказал Пац, – так как Нейбургского я не беру в счет, хотя у нас на Литве, как я слыхал, некоторые носятся с ним.
Говоря это, он взглянул на Собесского, не желая называть имени родственных ему Радзивиллов.
– Я ничего об этом не знаю, – возразил Собесский, – но не думаю, чтобы кто-нибудь оказывал ему такую плохую услугу, выставляя на смех его кандидатуру, раз за него никто не стоит…
После короткой паузы Гоженский снова заговорил:
– Мне не впервые видеть панов шляхтичей в сильном возбуждении и воодушевлении, но за всю свою жизнь я еще не помню такого раздражения. И я предполагаю, что на дне всего этого находятся чьи-то дрожжи…
– Чьи же это? – кислым тоном спросил примас. – Лотарингский обнаружил бы себя, а если не он, так кто же еще?
Гоженский помолчал.
– Правда, что говоря о Пясте, – прошептал он, немного погодя, – они не могут указать кого-нибудь и становятся в смешное положение с этим Поляновским.
Все встретили смехом имя этого лихого воина, но малозначительного человека. Гоженский тоже улыбнулся.
– Вероятно, потешным кандидатом является князь Димитрий Вишневецкий, – сказал примас. – В этой семье, впрочем, уже иссякла кровь ягеллонов, а ничем другим они не выделялись.
Говоря это, он пренебрежительно пожал плечами.
– Ни один из наших лучших сановников и панов не взял бы на себя этого бремени, – прибавил он, – потому что все они отлично знают, что им пришлось бы надеть терновый венец, так как все на свете восстали бы против Пяста…
Гоженский терпеливо слушал.
– Все это движение и горячка пройдут, – говорил примас тихим, пониженным голосом, – когда они соберутся на выборном поле… Но кто же вызывает этот задор и кто руководит ими?
Стольник потирал руки.
– Именно в этом-то и заключается трудность, чтобы доискаться начала, – сказал он, – и узнать, кто вызвал это зарево… Полагаю, что оно разгорелось где-то в Сандомирском, но от чьей руки началось, я еще не знаю.
– Это первый случай, – сказал Пражмовский, – что ты не сумел добраться до корня… и по правде, сегодня ты пришел ни с чем…
– Я сам не очень высоко ставлю то, что я вам принес сегодня, – ответил Гоженский, – и я, может быть, и промолчал бы, но я полагал, что моя обязанность – дать знать и об этом…
– Постарайся же узнать, откуда дует этот ветер, – перебил его примас, – и нечего говорить, что нужно отделывать и высмеивать этих крикунов…
Зная манеры примаса, Цедро понял, что эти слова означали конец аудиенции, и поэтому он, раскланявшись со всеми по очереди, также покорно, как и при входе, выскользнул из кабинета…
После его ухода некоторое время царило молчание. Три вождя партии Кондэ, пошептавшись немного, казалось, успокоились. Первым встал канцлер Пац, наклонился к руке примаса, издали поклонился Собесскому и, сопровождаемый до двери, исчез…
По уходе его Пражмовский с большей свободой наклонился к Собесскому.
– Грустно признаваться, – тихо сказал он, – но я не совсем доверяю канцлеру… Правда, он должен действовать заодно с нами, но… но…
Он не докончил. На лице Собесского проскользнула улыбка и он покрутил свои усы.
– Я тоже не доверяю Пацам, – ответил он, – но в Литве, этого нельзя отрицать, они достигли значения и силы. Они очень пошли в гору.
– Но, ведь с Радзивиллами они не могут тягаться? – возразил примас.
– И тем не менее всюду, где могут, они подставляют им ногу, – говорил Собесский. – Раньше или позже у них дело дойдет до борьбы.
– Пока что, нужно их беречь! – закончил примас. Собесскому надо было в тот же день вернуться в Варшаву и потому он тотчас после этого краткого разговора попрощался с примасом.
Гетман и маршалок, один из наиболее видных и деятельных сановников того времени, Ян Собесский, которому не давала покоя жена, действовавшая с еще большей горячностью, непрерывно суетясь и хлопоча, принадлежал к числу выдающихся вождей партии Кондэ или вернее, того кандидата, какого Франция хотела бы посадить на польский трон.
В данную эпоху это была еще туманно обрисовывающаяся фигура, которой тщеславие и жадность его жены, Марии Казимиры придавали ложное освещение.
Злополучная судьба хотела, чтобы этот превосходный и замечательный во всех отношениях человек, сохранивший наряду с западным воспитанием и лоском неизгладимый тип польского шляхтича, слишком рано влюбился в очаровательную воспитанницу королевы Марии-Луизы.
Красивая, но бессердечная француженка, принесшая сначала в жертву Собеского Замойскому, ради его богатства и положения последнего, согласилась потом, не выказывая особой любви, выйти замуж за первого же наиболее подходящего поклонника, зная, что он будет послушным орудием в ее руках.
Первые годы этого брака, когда жену маршалка можно было обвинять чуть не в уходе от мужа, были страшным испытанием, которое должен был выдержать до сумасшествия влюбленный муж… Требовательная, ненасытная, капризная, прекрасная Марысенька оказала сильное и пагубное влияние на слабохарактерного Собесского. Только каким-то чудом этот знаменитый военачальник там, где дело касалось служения Речи Посполитой, не давал собой командовать, даже этой всемогущей пани…
Но в ту эпоху, когда начинается этот рассказ, несмотря на то, что он был гетманом и маршалком, то есть, стоял на самой высокой ступени государственной иерархии, – еще нельзя было поручиться, что красавица Марысенька не прикажет ему продать все и убраться с нею во Францию. Путешествие туда и пребывание там Собесской, может быть расхолодили ее и убедили, что лучше быть гетманшей в Польше, чем одной из множества маркиз или графинь на берегах Сены…
Стесненный непомерными расходами жены, Собесский, как гетман и маршалок, кроме всего часто должен был из собственного кармана и войску платить, и одарять подарками послов, так что, например, после отъезда татарского посла он даже писал, что пришлось пожертвовать последним серебряным кувшином с ковшом, поэтому теперь он был поглощен заботами, главным образом о деньгах… Это ему обещали во Франции и на эти деньги очень рассчитывали, как гетман, так и его жена.
Оба они, а в особенности сама пани Собесская, имели из-за ее характера больше врагов и завистников, чем преданных себе людей… Это делало жизнь трудной, потому что надо было во всем поступать с большой осмотрительностью.
Даже те, кто шел в тесных рядах партии Кондэ, под предводительством Примаса и Собесского хотя по виду были в самых лучших отношениях с ним, втайне завидовали и вредили ему.
Богатая семья Пацев, три корифея которых соперничали в блеске с самим Радзивиллом и их родственниками Собесскими, лишь снаружи прикрывали свою ненависть к гетману.
В высшей администрации тоже мило улыбались им, но осуждали их и старались за углом вредить им. Всему этому виной была Мария Казимира, гордость и самоуверенность которой настраивали враждебно и отталкивали всех…
Собесский, который был создан скорее для лагерной и семейной жизни, чем для запутанных интриг, в которые его втянула жена, вертелся, как истинный мученик, в этом огне; служебные обязанности гетмана заставляли его следить за безопасностью страны, поддерживать выборы непопулярного кандидата, наконец, нужда – хозяйничать в обширных поместьях, где он строился, рассаживал тюльпаны и деревца и даже кареты должен был сам заканчивать дома под своим личным наблюдением.
Влюбленный в женщину, которая показывала нежность только тогда, когда ей нужно было чего-нибудь добиться, заваленный различными делами, Собесский не имел времени даже передохнуть.
Марысенька была безгранично требовательна, а он покорен вплоть до утраты собственной воли…
Бессильный перед женщиной, к которой его привязывали больше темперамент и чувственность, чем душа, гетман был неизмеримо талантливее и образованнее, чем та женщина, которая им командовала.
Жаждая знаний и научных занятий, любя книги, предпочитая больше всего общество людей ученых, будучи отличным стратегом и гетманом, он стоял на высоте эпохи, в которой жил, но обладал также и всеми слабостями, пороками и недочетами того времени. Непомерным стремлением к наживе и деньгам заразила его жена; поэтому продажа родной короны герцогу Кондэ не казалась ему преступной продажностью, а лишь нормальной коммерцией, при которой можно было торговаться.
Этот французский кандидат, известный стране только из того, что о нем сообщали его сторонники, у шляхты и в войске был самой непопулярной личностью, так как французы надоели еще со времен Яна Казимира и Владислава, а возраставшее самомнение французов все более вооружало против них.
Начиная с париков, которые называли "пудлами", и кончая чулками, башмаками, манжетами и жабо – все в них казалось смешным. Предпочтение, какое сказывалось им при дворе, и подражание их обычаям в панских кругах лишь увеличивало это нерасположение. Кровавым образом подшутить над французом было самым приятным развлечением для шляхтича.
Итак, Кондэ вовсе не привлекал к себе сердца, а самый способ, каким издавна подстраивалось это подчинение Польши верховенству и владычеству Франции, лишь усиливал это отвращение…
Раньше осуждали сторонников француза за то, что вопреки основным законам они хотели его выбрать и провозгласить еще при жизни Яна Казимира, а теперь не соглашались на его кандидатуру уже потому, что-де уговоренный, вынужденный, обманутый Казимир отрекся от престола лишь для того, чтобы освободить место этому французу.
Отсюда можно было ожидать оппозиции, но паны слишком надеялись на свое могущество и влияние, чтобы бояться ее. За шляхтой издавна установилась слава, что она громко кричит, горячо кидается, но скоро остывает и, пороптавши против Сената, послушно идет за ним.
гетман, вернувшись из Ловича, заехал прямо в дом, который он занял, не имея возможности или, вернее, не желая силой занимать цейхгауз, полагавшийся ему, как квартира на время сеймов и выборов. Этот двор и два соседние с ним, вместе с кухнями, конюшнями, флигелями и другими службами, еле могли вместить, и то со стеснением и при некоторых неудобствах, красавицу Ма-рысеньку и деятельного гетмана.
Несмотря на бережливость, Собесские не могли уклоняться от требований, предъявляемых к их высокому положению; гетман любил торжественные выступления, а для Марии Казимиры составляло необходимость блистать и занимать первое место.
Двор с кортежем, который привел с собой Собесский, доходил до нескольких сот человек. Не хватило конюшен для размещения лошадей, много людей расположилось по постоялым дворам и всяким другим закоулкам.
Один дом весь занимала для себя лично жена гетмана; у нее, когда она была дома, никогда не переводились гости обоего пола. Сюда стекались и отсюда расходились всякие новости и лозунги.
Но это было ничто в сравнении с канцелярией и апартаментами Собесского, где толпа не расходилась. Ежеминутно прибывали курьеры, ежеминутно также отправляли их. Нескольких десятков писарей еле хватало на писание писем и переписку донесений… Начальство с трудом поддерживало порядок. Теснились военные, проталкивались штатские, втирались евреи…
Стража одних молча впускала, других без милосердия выталкивала.
Сам гетман должен был делить себя между гостями и канцелярией…
Но это была странная натура. Собесский никогда не чувствовал себя ни сильным, ни здоровым, каждый день жаловался и в то же время был способен вынести и бессонницу, и напряженную работу, и беспрерывное возбуждение. Редкий день Собесский обходился без совета какого-либо лекаря или подлекаря, и в то же время он с юношеским увлечением по целым дням скакал на охоте, ночевал в лесах и без отдыха совершал спешные поездки… Часто также старые друзья заставляли его выпить вечером больше, чем следует, за что на следующий день он должен был расплачиваться.
И в этот день возвращение гетмана приветствовала кучка ожидающих его людей из его поместий и из войск, которые приехали из разных концов страны, так что ему не дали даже переодеться, а тут уже не раз открывались двери, и посыльные пани гетманши звали его как можно скорее к ней.
Поздороваться с Марысенькой было для него важнее всех неотложных дел.
Она ждала его не одна, а среди блестящей группы дам и светской молодежи. В освещенных комнатах уже издали слышался веселый говор; в маленьком зале кружком сидели нарядные дамы, занятые оживленными разговорами со стоящими перед ними, большей частью молодыми господами. Все были, ча немногими исключениями, во французских костюмах и париках.
Среди дам госпожа Денгоф, с черными, выразительными, подвижными глазами, громче всех разговаривала и смеялась, смелее всех высказываясь, хотя каждое даже незначительное восклицание ее вызывало чуть заметное дрожание губ и бровей на красивом лице хозяйки.
Марысенька, уже извещенная о возвращении мужа, ожидала его, нетерпеливо помахивая веером, у боковой двери маленького, зала, через которую он обыкновенно появлялся…
Еще удивительно свежая и молодая, несмотря на значительное число прожитых лет и перенесенных болезней, гетманша отличалась блеском своего очарования среди многочисленного букета красивых лиц, окружавших ее. Холодом и гордостью веяло от нее, но классическая правильность черт лица, необыкновенный нежный и белый цвет лица, полные огня глаза – придавали ей величие победоносной, торжествующей красоты. Она ничем не привлекала, даже скорее вызывала, может быть, какое-то беспокойство, хотя не трудно было угадать, что, постаравшись быть милой и обворожительной, она могла покорять сердца и царить над ними.
Женщины все, без исключения, незаметно обращали к ней глаза, но смотрели опасливо и недружелюбно. Она, однако, вовсе не старалась никому нравиться, за исключением нескольких господ, для которых она на время смягчала выражение своего лица. А когда она обращалась к другим, то лицо ее тотчас же принимало свое обычное деспотическое выражение.
Глаза госпожи Денгоф, которая беспрестанно то наклонялась к кому-нибудь, то подзывала к себе кого-либо и, по-видимому, весьма оживленно разговаривала, не отрывались от лица хозяйки.
Из их скрещивающихся взглядов даже посторонний мог угадать натянутые отношения, дружественные лишь по внешней необходимости, а внутренне полные взаимной антипатии.
Госпожа Денгоф не могла, да и не думала, состязаться с нею из-за Парисова яблока за первенство в красоте, но обе они боролись из-за влияния и значения, из-за роли в политических интригах, в которых обе принимали деятельное участие.
Вынужденная щадить госпожу Денгоф, прекрасная Марысенька иногда напоминала рысака, грызущего железные удила.
Собесский тихими шагами подошел к двери, задрапированной гобеленовыми портьерами, где его ожидала жена со сдвинутыми бровями и с недовольным выражением лица. Он шел к ней, весь охваченный радостью, посылая воздушные поцелуи, и опустился бы, может быть, на колени перед своим божеством, если бы не боялся этим навлечь на себя его гнев.
Марысенька не позволила ему приблизиться к своим губам, отдернула от его губ свою белую ручку и сдвинула брови:
– Ты оставил меня одну на весь день, – начала она, нисколько не трогаясь при виде мужа, пожиравшего ее глазами, – ты по-пустому проводил где-то время, забывая о том, сколько лиц здесь ожидают тебя. Египтянка, – понизив голос, выговорила она, – сегодня так весела и щебетлива, что я подозреваю, что она нам устроила какую-то пакость. Она не закрывает своего рта и все жалит. Видел ли ты Варденского, привез ли он денег? Я не знаю. Арендатор, как мне говорили, за аренду нагрузил воз одних лишь боратынков [30]30
Медная монета ценностью 1/3 гроша, чеканившаяся при Яне Казимире. Названа так по имени монетчика XVII века – итальянца Боратини.
[Закрыть]. Не надо бы их принимать.
– Ах, божество ты мое, – прошептал Ян, – нам так нужны деньги, что я вынужден брать хотя бы боратынками.
Мария Казимира повела плечами.
– Опять убыток. Один лишь меняла Аарон выгадает на этом… Воспользовавшись минутою задумчивости жены, Собесский невзначай схватил ее ручку и запечатлел на ней горячий поцелуй.
– Как поживает Фанфеник?
– Здоров, но кричит несносно и уже такой же упрямый, как и отец, – ответила гетманша.
– Упрямый? – улыбаясь, спросил муж.
– Деспот! – отвечала Мария Казимира. – Для вида ты меня всегда успокаиваешь послушанием, чтобы отделаться, а потом делаешь по-своему.
Гетман вздохнул.
– Имеешь какие-нибудь распоряжения для меня?
– Будь полюбезнее с египтянкой (Денгоф), а то она догадается, что я жаловалась на нее, – прошептала хозяйка и, отойдя от двери, ввела мужа с собой.
Лицо пана гетмана, которое для жены было ласковым и точно растроганным, уже у порога облеклось сановной важностью, и в то же время спокойствием. Он хотел показать, что не имеет никаких забот и очень доволен всем ходом дел.
Господа, которые занимали нарядных дам, увидев его, по очереди стали подходить к нему и здороваться, а гетман приветствовал всех так свободно, с такою барскою простотою, точно среди них не было ни одного лицемерного или сомнительного друга.
Среди других был здесь и молодой Михаил Вишневецкий, только не с Пацем, а со своим зятем Любомирским, и занимал очень второстепенное место в сторонке, несмотря на свою молодость, наружность, имя и род.
Уже не первой молодости, очень нарядная и вся осыпанная драгоценными камнями, вдовствующая княгиня Радзивилл занимала его своим разговором.
Другие дамы с презрительным сожалением посматривали на молодого человека, который не имел за собой ничего, кроме воспоминаний о несчастном отце и своего миловидного лица. Никто им здесь не интересовался, а княгиня Радзивилл лишь потому его занимала разговором, что никого другого более подходящего для беседы не имела. Вишневецкий тоже видимо чувствовал себя не на своем месте и лишь вынуждаемый необходимостью оставался здесь.
Когда Собесский приблизился, он подошел засвидетельствовать хозяину дома свое почтение, но гетман едва приветствовал его небрежным кивком головы, как бы мимоходом, и отошел в сторону с Любомирским. Шел общий оживленный разговор о Яне Казимире и его щедрых подарках своим друзьям. Завидовали ему относительно Уяздова, но слухи об экс-короле были самые разноречивые: одни утверждали, что он уже сожалел о своем отречении от престола, а другие, что он радовался своему шагу и много надежд возлагал на спокойное безмятежное пребывание во Франции, где король якобы обещал ему пожалование аббатств и пенсий.
С усмешкой пересчитывали всех тех, которых он взял с собой или же отправил вперед.
– Я не поверю, чтобы ему не было скучно без нас, – говорил воевода киевский; – во всяком случае, мы его любили, а он к нам привык. И сами французы не смогут быть более приятными.
– Ах, – прервал его коронный полевой писарь, – с тех пор, как он женился на покойной королеве, никто его не видал танцующим, а в Кракове, представьте, он разошелся, вспомянул старину и был вообще в очень хорошем настроении.
– Во всяком случае, – вмешался саркастически воевода русский, – Польшу и поляков он ругал все время и решительно ни о ком из нас не сказал ни одного доброго слова.
– У Яна Казимира это все было не что иное, как минутное раздражение, – прервал его опять киевский воевода, – он каждого легко мог полюбить и также легко разлюбить; душа у него была добрая, но он больше действовал под наитием минуты. Многое ему следует простить, так как он во всю жизнь не знал ни в чем счастья.
После этого случайного общего разговора все общество снова разделилось на небольшие группы, и в каждой из них потихоньку начали обсуждать то, что на тогдашнем языке посвященных называлось гиацинтами, то есть будущие выборы короля (элекцию).
Так как все собравшиеся были за герцога Кондэ, то о его соперниках говорили без стеснения. Нейбургский не имел за собой ни малейших шансов на то, чтоб к его кандидатуре отнеслись серьезно; дела Лотарингского тоже были неважны, хотя опытность и ловкость его посла Шаваньяка заставляла всех быть настороже.
Со всеми он был в слишком хороших отношениях, слишком чистосердечно он перед всеми признавал себя побежденным, чтоб ему в этом можно было поварить. Госпожа Денгоф утверждала, что несомненно Шаваньяк не лроведет своего государя к короне, не имея вовсе денег или имея их очень мало, но что во всяком случае другим он с большим успехом может с своей стороны затруднить достижение ее.
– Что он от этого выиграет? – спросила хозяйка дома.
– Будет иметь, по крайней мере, в свое оправдание, что и другим также не повезло, как и ему, – возразила госпожа Денгоф.
Тут Морштын референдарий [31]31
Докладчик канцлера.
[Закрыть], которого по его внешности и выговору можно было принять за подлинного француза, начал говорить несколько цинично, но как бы полушутя:
– Нетрудно Шаваньяку оправдаться в своей неудаче, для этого стоит лишь показать свой пустой кошелек. Что в наше время делается без денег? Лотарингский хотел бы быть избранным в кредит, но кто же может нам за него поручиться, что он впоследствии оплатит свои долги?! Ведь самая дешевая из всех элекций, а именно последняя, обошлась в полтора миллиона князю Карлу, который никогда не мог забыть этой потери. Шаваньяк, когда ему придется стать перед лицом Сейма и рекомендовать своего кандидата… не знаю, каким образом он раздобудется для этого приличной кавалькадой и кортежем. Жаль мне его беднягу, так как, вообще говоря, он человек очень милый и практичный.
– Князь Лотарингский, – прибавил кто-то со стороны, – сначала рассчитывал на содействие короля французского.
– И совсем напрасно утруждал себя, – шепнул коронный хорунжий.
Гости во время этого разговора начали понемногу расходиться; Любомирский уже прощался с хозяйкой дома, которая едва соблаговолила взглянуть на его спутника князя Михаила.
Как это всегда бывает, не успели двери закрыться за ними, как уже они стали предметом злостных замечаний.
– Князь Михаил, – отозвалась хозяйка, – должно быть, очень оплакивает смерть сына нашей королевы, которая питала к нему слабость. Однажды я слышала, как она шутя предсказывала, что этот юноша когда-нибудь станет королем.
Все гости безудержно громко засмеялись, так всем это показалось чем-то до уродливости странным.
– Лишь в голове такого чуждого нашему свету человека, как епископ холмский, – сказал Морштын, – могла зародиться в настоящее время мысль посадить Пяста на трон. Никогда это не осуществится, потому что в таком случае все государство несомненно распадется, страна возмутится, и начнется брожение и междоусобные схватки.
– Королева Мария питала слабость к князю Михаилу, когда он еще был мальчиком, – продолжала гетманша, – но она не предвидела, что из этого довольно смазливого мальчика так непредвиденно вырастет такое холодное деревянное существо. Я его никогда не видела веселящимся по-молодому.
– Невозможно от него требовать, чтоб он тешился, когда нечем, – произнес референдаций. – Каждый день приходится ему слушать жалобы матери и смотреть на ее заботы о расстроенных поместьях; в доме у них терпят почти нужду. Недавно я встретил в дороге княгиню Гризельду. Ехала она в допотопном облезлом возке, лошади худые, ливреи на челяди выцветшие и устарелые. От кредиторов она не может отбиться.








