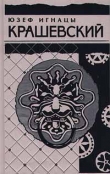Текст книги "Графиня Козель"
Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Когда Август впервые приехал в Польшу, он, беседуя со шляхтичами, прибывшими на встречу с ним, стал, ко всеобщему изумлению, сгибать в руках серебряные кубки, гнуть талеры и ломать подковы. На обеде в Пекарах после состоявшегося перед чудотворной иконой торжественного обряда куявский епископ, видя, как государь бахвалится своей силой, решил про себя, что это не предвещает ничего хорошего для Речи Посполитой, и упомянул как бы вскользь об одном молодом человеке, который тоже способен на такие штуки. Это задело короля за живое, он вспыхнул, но сдержал себя, очевидно, потому, что это были первые дни его пребывания в Польше. Август только выразил желание повидать человека, который может состязаться с ним в силе, так как до сих пор в жизни своей такого не встречал. Куявский епископ обещал, когда они приедут в Краков, представить королю после коронации обедневшего шляхтича, происходящего, впрочем, из знатного, а когда-то даже могущественного рода Закликов. Разговор этот был бы забыт среди множества других, более важных дел, епископ не возобновил бы его, уразумев, что некстати упомянул про Заклику, ежели бы государь сам о нем не напомнил и не потребовал немедленно привести к нему Раймунда Заклику.
Юноша этот недавно окончил с грехом пополам иезуитскую школу и теперь шатался без дела, не зная, что предпринять. Он был не прочь пойти служить в войско, но ему не на что было нанять вооруженных слуг, а иначе родовитому шляхтичу не подобало.
После долгих поисков Заклику удалось раскопать в какой-то канцелярии, где он волей-неволей вынужден был орудовать пером. Когда потребовалось представить молодого человека королю, то оказалось, что у него ни порядочной одежонки, ни сабли, ни даже пояса нет. Делать нечего, епископу пришлось просить гофмейстера экипировать Заклику с ног до головы; затем, осмотрев юношу и убедившись, что краснеть за него не придется, епископ стал ждать подходящего случая. Король обычно силу свою показывал на пирах, когда был в настроении. И вот как-то он снова принялся расплющивать жбаны, потребовал подковы, которые придворные всегда держали под рукой. Епископ сидел молча, и король обратился к нему:
– Где же ваш силач, отец мой?
Заклику привели. Юноша был высокий, как дубок, стройный, румяный, ладный, скромный, как девушка, и вовсе не казался геркулесом. Август взглянул на него и усмехнулся. Так как Заклика был шляхтичем, его допустили к государевой руке. Разговаривать с ним пришлось по латыни; ни по-немецки, ни по-французски он тогда ни слова не знал. К счастью, слова не понадобились. Перед королем стояли два одинаковых серебряных кубка. Август взял один своей мощной ладонью, сжал, смял, будто лист бумаги, и расплющил. На дне было вино, оно брызнуло вверх. Насмешливо улыбаясь, король пододвинул второй кубок Заклике и сказал:
– Попробуй, если согнешь, твой будет.
Заклика робко подошел к королевскому столу, потянулся за кубком, обхватил рукой твердый металл, поколебался с минуту… Но вот кровь юноши взыграла, и кубок расплющился. На лице короля изобразилось недоумение, а потом и недовольство, когда он взглянул на епископа. Тут все, кто опомнился, принялись уверять Августа, что кубок-де был тоньше, а может, и надломленный.
Король стал подковы ломать, как бублики; велели попробовать и Заклике. Раймунд гнул их легко, без всякого усилия. Август взял талер, сжал его обеими руками и тоже сломал. Дали и Заклике, пожалуй, еще потолще, испанский. Раймунд задумался на мгновение, но уже вошел в азарт, а это сил придавало, он и талер согнул.
Король сделался мрачнее тучи, а вслед за ним и весь двор помрачнел от столь нелепого исхода состязания. Август велел наградить Заклику, подарил ему оба кубка, а потом, подумав немного, сказал, чтобы его оставили при дворе. Юноше нашли какое-то местечко, а на следующий день гофмейстер шепнул Заклике на ухо, чтобы он не смел нигде показывать свою силу или бахвалиться ею, не то ему несдобровать.
Так вот застрял горемыка при дворе, положили ему несколько сот талеров содержания, дали роскошную придворную одежду, дела у него не было никакого, свободы много, только вот если король куда отправлялся, то юноша непременно должен был следовать за ним, Заклика был смирный и покладистый, потому жилось ему неплохо. Король, правда, никогда словом с ним не обмолвился, но помнил о нем, спрашивал и наказывал, чтобы он ни в чем не нуждался. Времени свободного у Заклики было вдоволь, а так как он беспрестанно слышал немецкую и французскую речь, то и принялся оба языка усердно изучать и через два года уже бойко на них тараторил. Но от безделья и оттого, что не любил общаться с «немчурой» (так презрительно он их называл), salva reverentia[3]3
Сохраняя уважение (лат.).
[Закрыть] лишь к его величеству королю, Раймунд исходил вдоль и поперек все деревушки и леса вокруг Дрездена. Человек от природы любознательный, он взбирался на горы на другом берегу Эльбы, да такие обрывистые, что, глянешь с них, и… abyssus vocat.[4]4
Пропасть влечет (лат.).
[Закрыть] Но с ним никогда ничего не случалось.
Во время одной из таких прогулок попал Раймунд Заклика в Лаубегаст и расположился, на свою беду, отдохнуть в тени под липой. Тут как раз вышла погулять графиня Анна Гойм. Увидев ее, юноша обомлел от восторга, дух у него захватило. Он протер глаза, думая, что видит все это во сне, что такого вообще на свете быть не может. Просидел бедняга, не сходя с места, допоздна и все глядел и глядел, и наглядеться не мог. Казалось ему, что так он насытится вволю, но чем дольше смотрел, тем больше хотелось ее видеть. В душу закралась тоска или безумие, он голову потерял и стал бегать в Лаубегаст как одержимый.
А так как никому он своей тайны не открыл, то никто и не подсказал ему, что от такой болезни есть одно только средство: не бросаться в огонь, а бежать от него. Юноша так влюбился, что с лица спал и совсем одурел.
Женщины, служившие у Анны Гойм, выследили его и, догадавшись, в чем дело, смеясь, рассказали хозяйке. Та тоже посмеялась вместе с ними и даже, стараясь быть незамеченной, пошла взглянуть на Раймунда. Ей, быть может, стало жаль юношу, она велела позвать его к себе, пожурила строго за то, что он здесь околачивается, и сказала, чтобы ноги его больше в Лаубегасте не было.
Разговор у них был с глазу на глаз, а одурь придала, видно, Заклике храбрости, он ответил, что смотреть ведь не грех, а больше ему ничего не надобно, и добавил, что, если в него даже каменьями будут кидать, он все равно ходить сюда не перестанет, потому что тоска грызет его нестерпимо.
Анна Гойм затопала в гневе ногами, грозилась, что пожалуется мужу, но Раймунд не испугался. Анна несколько недель потом не показывалась там, где он мог ее встретить. Гуляла вдоль Эльбы, пока однажды не заметила, что Заклика, чтоб увидеть ее, по шею в воду зашел, хотя вода была холодная. Анна страшно разгневалась и стала звать людей. Но Раймунд нырнул и исчез. Он едва не утонул тогда, его схватила судорога, да и мокрая одежда тянула ко дну, но все же спасся. С тех пор он как будто исчез с глаз, да не тут-то было. Просто нашел другую засаду и, глядя оттуда, вбирал в себя отраву этой красоты. Знала ли об этом ее сиятельство графиня, неизвестно, разговоров о Заклике больше не было. А так как при дворе о Раймунде мало беспокоились, и король был бы даже рад, если бы он где-нибудь ненароком шею себе свернул, то никто о нем и ведать не ведал. Он же делал, что хотел, и бродил, где хотел.
Один только раз призвали Заклику ко двору – король в приступе сильного гнева одним махом отсек голову здоровенной лошади. И захотелось Августу доказать, что этого даже силач Заклика сделать не сможет. Привели старую костлявую драгунскую лошадь, Заклике шепнули, что коль дорога ему королевская милость, то пусть к лошади не прикасается или хотя бы удар ослабит. Но ему было все равно, а уж раз о силе речь зашла, да кровь у него, как говорится, закипела – разве его остановишь? В присутствии короля, важных сановников и множества зрителей Заклика выбрал клинок поострее и, как бритвой, отхватил лошади голову. Говорили, что у него потом с неделю плечо болело, но ничего, прошло. Король не вымолвил ни слова, только плечами пожал, а конфуз залили вином. На Заклику никто и взглянуть не пожелал, а те из придворных, кто был с ним на дружеской ноге, посоветовали ему убраться поскорей отсюда подобру-поздорову, не то при малейшем удобном случае не миновать ему заточения в Кенигштейн.
Раймунд пожал плечами, ничуть не испугавшись. Но король на этом не успокоился. Он хотел испытать еще, сколько Заклика сможет вина выпить, но тот пил только чистую воду да изредка кружку пива или рюмочку вина – больше он не мог. Тщетно Август приказывал: пей да пей. Раймунду насильно влили в рот кубок венгерского, от которого он как свалился, так целую неделю в горячке пролежал, и чуть было не отправился на тот свет. Но пришел в себя, и даже как будто силы у него прибавилось.
И снова стал Заклика ходить в Лаубегаст, бездумно высматривая там Анну. Любовь словно переродила его, он стал гораздо серьезней, взялся за науку, даже внешне изменился к лучшему.
Графиня Гойм, ничего не таившая ни от мужа, ни от его сестры, о Заклике не обмолвилась ни словом, она, казалось, забыла о нем.
В Лаубегасте день кончался рано, с сумерками запирали ворота и двери на замки и засовы, как повсюду в то время; собак спускали с цепей, слуги ложились спать с петухами, а хозяйка, если и засиживалась подольше в тоскливые вечера за книгой, то никто о том не ведал.
В ту ночь, когда в замке предавались разгулу, бушевал осенний ветер, а в Лаубегасте он с такой свирепостью выворачивал деревья и пригибал к земле липы, что о сне не могло быть и речи.
Прелестная Анна читала, лежа в постели, Библию, это было ее излюбленное чтение, особенно Апокалипсис и послания св. Павла. Потом она долго размышляла над ними и даже плакала.
Было далеко за полночь, и вторая свеча догорала в ее комнате, когда возле дома послышался топот, потом кто-то стал ломиться в железные ворота, и собаки так отчаянно залаяли; что даже бесстрашная хозяйка не на шутку встревожилась. Набеги на поместья, особенно близ столицы, стали редкостью в те времена, но все ж бывали. Беглые рекруты, случалось, скрывались, бродяжничая, в горах, – они-то и чинили беззакония, хотя потом им приходилось расплачиваться за это головой, ежели на них устраивали облавы.
Анна стала звонить, подняла всех на ноги. В ворота колотили все сильней, собаки лаяли все громче. Вооруженные люди вышли во двор и тут-то увидели, что стучит и кричит королевский гонец. У ворот стояла запряженная шестериком карета с лакеями и слугами. Собак посадили на цепи, ворота отворили, гонец передал письмо.
Когда Анне принесли среди ночи письмо, она сразу решила, что случилось что-то недоброе. Она побледнела, но, узнав руку мужа, хотя и нетвердую, успокоилась немного. Мелькнула мысль об опальном канцлере Бейхлинге, он был в величайшей милости у короля, и вдруг однажды ночью его отправили в Кенигштейн, лишив всего имущества. Сам Гойм неоднократно признавался Анне с глазу на глаз, что он королю не верит, и до тех пор не будет чувствовать себя в безопасности, пока не покинет Саксонию и не вывезет свое имущество за границу.
Ни для кого не было тайной, что чем король ласковей, тем больше надо его опасаться. Ему доставляло наслаждение сначала усыпить бдительность своей жертвы, а потом низвергнуть ее с высоты. И Анна забеспокоилась, не постигла ли ее мужа участь канцлера; введя акцизный сбор, Гойм настроил против себя всю страну, к тому же недоброжелатели вовсю травили его.
Каково же было удивление Анны, когда она узнала почерк мужа, хотя и нетвердый, торопливый. Он повелевал ей тотчас прибыть к нему в присланной за ней карете. Нельзя же было не подчиниться мужу на виду у людей, да и любопытство ее разгорелось. Анна приказала слугам быстро готовиться в дорогу. Не прошло и часу, как она уже сидела в карете, и ворота мирного лаубегастского дома затворились за ней навсегда.
Странные мысли нахлынули на нее в пути. Анну охватил страх и какая-то грусть, даже плакать захотелось. Она не знала, что грозит ей и грозит ли ей что-нибудь вообще, но на сердце было тревожно. О возвращении короля после долгого его отсутствия знали все. Вместе с королевским двором в Дрезден возвращались интриги, козни, борьба за благорасположение и влияние, борьба, для которой все средства были хороши. Дела там творились на первый взгляд пустячные и безобидные, а на самом деле трагические. В то время как жертвы со стоном низвергались в ямы и темные подземелья, победители под бальную музыку праздновали свое торжество. Не раз Анна смотрела издали на синюю гору Кенигштейн, на замок, полный тайн и жертв.
Ночь была темная, но дорогу освещали люди, ехавшие с факелами впереди; лошади мчались во весь опор. Не успели оглянуться, как карета остановилась на мостовой перед домом на Пирнайской улице. Слуги, не дождавшись министра, заснули крепким сном, и их с трудом удалось добудиться. В доме, где Гойм занимал второй этаж, у Анны не было своих комнат. Были там комнаты для приема посетителей и спальня министра, внушавшая Анне отвращение. И, наконец, канцелярия и помещения, заваленные бумагами. Кабинет министра прилегал к большому залу, богато обставленному, но понурому и унылому.
Не застав мужа дома, графиня удивилась еще больше, но слуги объяснили ей, что сегодня ночью у короля пиршество, а пиршества эти длятся всю ночь напролет, а то и дольше – несколько дней и ночей. Ничего не поделаешь, надо было найти какой-нибудь укромный уголок в этом чужом, незнакомом доме мужа, чтобы прилечь и отдохнуть. Графиня выбрала кабинет рядом с канцелярией министра, в стороне от остальных комнат, велела приготовить себе там походную постель и, запершись со служанкой на засов, попыталась заснуть. Но сон не смыкал усталых век, она тревожно дремала, просыпалась и вскакивала при малейшем шорохе.
Уже совсем рассвело, когда, впав в недолгий глубокий сон, Анна очнулась, услышав, что двери в кабинете Гойма отворились, и кто-то вошел. Полагая, что это муж, она вскочила и стала с помощью служанки торопливо одеваться. Туалет был утренний, небрежный, но он придавал ей еще больше прелести. Усталость, лихорадочное волнение оттеняли царственный блеск ее дивной красоты. Анна с нетерпением отперла дверь в канцелярию министра и остановилась на пороге.
Перед ней стоял незнакомый человек, весь облик и лицо которого произвели на нее странное впечатление. Это был пожилой мужчина в черном длинном одеянии протестантского священника, с лоснящейся лысой головой, вокруг которой редкие седые встрепанные волосы образовали как бы нимб. Пожелтевшая кожа так обтягивала лоб, что на нем отчетливо проступали жилы. Глубоко запавшие серые глаза, горькая усмешка на губах, невозмутимое презрение к миру во взгляде и при всем том какая-то умиротворенность и сосредоточенность придавали этому некрасивому в общем и незначительному лицу выражение столь удивительное, что от него нельзя было оторвать глаз.
Анна смотрела на него, но и он, пораженный, казалось, ее дивной красотой, стоял неподвижно, устремив на нее полный преклонения взор. Он стоял изумленный, и губы у него дрожали, потом поднял руку, словно благословляя и отталкивая одновременно.
Два эти человека, совсем незнакомые, с минуту изучали друг друга, священник медленно отступал к двери. Анна искала глазами мужа. Она хотела было уже вернуться в комнату, но тут священнослужитель, взглянув на нее с состраданием, спросил:
– Кто ты?
3
– Скорее я должна спросить, кто вы такой и как попали в мой дом?
– В ваш дом? – повторил изумленный священник. – Как? Вы, значит, жена министра?
Анна надменно кивнула головой. Священнослужитель досмотрел на нее с неимоверной жалостью, он смотрел долго, и в глазах его под сморщенными веками блеснули слезинки: в горьком отчаянии сжал он руки.
Анна с любопытством наблюдала за ним. Неприметный, поблекший, усталый, сломленный жизнью, он, казалось, оживал, преображался под наплывом каких-то чувств, становился значительным и величественным. Гордая женщина почувствовала себя рядом с ним робкой, покорной, как дитя. Вдруг старец пришел в себя, огляделся встревожено и подошел к Анне поближе.
– Зачем ты, кого всевышний создал во славу свою, яко кладезь добродетели, ты, излучающая сияние, ангелоподобная. не стряхнешь с ног своих оскверненных прикосновением блудного Вавилона и не убежишь, разодрав одежды свои белые, из этого обиталища порока и разврата? – промолвил он с внезапным состраданием. – Зачем ты здесь? Кто ввергнул тебя в огонь? Кто этот негодный, швырнувший в гнусный мир чудесное дитя божье? Почему ты не убегаешь? Почему стоишь, безмятежная и, быть может, не подозревающая об опасности? Давно ли ты здесь?
Анна в первую минуту остолбенела, но голос старца так потряс ее, что она, возможно, впервые в жизни почувствовала себя покоренной и оробевшей. Ее возмущал его тон, но сердиться на него она не могла. Она хотела ему ответить, но он не дал ей.
– Знаешь ли ты, где находишься, – продолжал он, – знаешь ли ты, что земля, на которой ты стоишь, колеблется под твоими ногами? Что стены эти разверзаются по первому приказанию и люди, ставшие помехой, исчезают бесследно; что жизнь человека здесь ни во что не ставят и готовы пожертвовать ею ради крупицы наслаждения?
– Что за страшные картины рисуете вы, отец мой, – вымолвила, наконец, Анна Гойм. – И почему хотите запугать меня?
– Ибо по невинному лицу твоему и по глазам, дитя мое, – отозвался священник, – я вижу, что ты простодушна и неопытна и не подозреваешь о том, что творится вокруг. Ты, верно, недавно здесь?
– Несколько часов, – ответила, улыбнувшись, Анна Гойм.
– И, конечно, не здесь, – старик горько усмехнулся, – провела ты детство и молодость свою?
– Детство я провела в Гольштинии. Вот уже несколько лет, как я замужем за Гоймом, но он держит меня в деревне, взаперти. И Дрезден я видела лишь издали.
– И ничего, верно, не слышала о нем, – добавил старик, содрогнувшись. – Все, что говоришь ты, я прочитал на челе твоем и в глазах твоих, – промолвил он грустно. – Бог позволяет мне иногда проникать в душу человеческую. Безмерная жалость овладела мной, как только я увидел тебя, прелестная графиня. Мне казалось, что я смотрю на белую лилию, расцветшую в глухом углу, которую стадо разъяренных животных хочет растоптать. Тебе бы цвести там, где ты выросла, и благоухать в пустыне во имя бога.
Старец задумался. Анна, взволнованная, подошла поближе. Видно было, что она растревожена до глубины души.
– Отец мой, – спросила она, – кто ты?
Старец, казалось, не слышал, так глубоко он задумался. Анна повторила свой вопрос.
– Кто я? – молвил он. – Кто я? Жалкое существо, грешное и презренное, которому никто не внемлет, над которым все глумятся. Я глас вопиющего в пустыне, я тот, кто предрекает разруху, гибель, дни покаяния и бедствий. Кто я? Послушное орудие в руках божьих, доносящее порой до людей могучий голос всевышнего, но люди не слушают моих пророчеств, а то и насмехаются надо мною. Я тот, черное одеяние которого забрасывают грязью уличные мальчишки, я нищий среди богачей, но честен и чист перед богом, оставаясь невозмутимым среди безумств, с молитвой на устах среди разврата.
Последние слова старец проговорил угасшим голосом и умолк, опустив голову.
– Странная примета, – отозвалась Анна, не отходя от старца, – после нескольких лет спокойной жизни в деревне, куда до меня едва долетал шум столицы, я внезапно приезжаю в город по вызову мужа, и вот на пороге вы – предостерегающий и указующий. Не перст ли это божий?
Анна содрогнулась, И по телу ее пробежала дрожь.
– Впрямь странно! – повторила она.
– Это промысел божий, – молвил старец, – беда тем, кто не внемлет милосердному божьему предостережению. Ты хочешь знать, кто я? Никто, бедный проповедник в храме божьем; говорят, что согрешил я на амвоне и теперь месть земных властителей преследует меня. Зовут меня Шрамм. Граф Гойм знавал меня еще в детстве, я пришел просить его защиты, ибо все угрожают мне. Вот почему я здесь сегодня. Но что привело вас сюда? Кто разрешил вам приехать?
– Собственный муж, – ответила Анна.
– Скажи ему, пусть отправит тебя назад, – зашептал, тревожно оглядываясь, Шрамм. – Я видел прелестниц этого двора, их здесь толпе на улицах показывают, как кукол, ты их красивей стократ. Горе тебе, если ты останешься здесь, опутают тебя сетями интриг, обовьют ядовитой паутиной, усыпят и опоят, вскружат голову сладкими напевами, убаюкают сердце медоточивыми речами, заставят глаза привыкнуть к бесстыдству, приучат к пороку, и настанет день, когда ты, оглушенная, изнеможенная, низвергнешься в бездну.
Анна Гойм нахмурила брови.
– Нет, – воскликнула она, – не так уж я слаба, как вы думаете, и не так уж несведуща в придворных интригах, да и удовольствий не слишком-то жажду. Нет, свет не прельщает меня, я выше этого.
– Но ты лишь очами души своей его видела, лишь чутьем угадала, – возразил Шрамм, – не доверяй себе, беги из этого ада. Изваяния королей превратились здесь в уголь, вымазаны сажей, уходи отсюда, мне жаль тебя и чистую, невинную душу твою.
Шрамм замахал руками, словно хотел скорей прогнать ее отсюда, но Анна стояла все такая же невозмутимая, и на ее устах блуждала насмешливая и вместе с тем жалостная улыбка.
– Куда мне бежать? – отозвалась она. – Судьба моя связана с судьбой этого человека, разорвать узы не в моей власти. Я верю в предопределение – что суждено, того не миновать, но им не удастся усыпить меня, опьянить и подчинить. Нет, не они, а я буду властвовать над ними.
Шрамм взглянул с беспокойством на Анну: она стояла гордая, сильная, величественная, с насмешливой улыбкой на губах.
Тут отворилась дверь, и граф Адольф Магнус Гойм, сконфуженный, еле передвигая ноги, появился, шатаясь, на пороге. Если вчера за столом среди блестящего общества вид у графа был неприглядный, то сейчас, при дневном свете, после изнурительной ночи, он выглядел еще ужасней. Гойм был высокого роста, широкоплечий, сильный и нескладный. Выражение его лица – заурядного, без тени благородства, то и дело судорожно менялось. Серые глаза то гасли под веками, то вдруг вспыхивали, рот кривился в улыбке, лоб то морщился, то прояснялся, казалось, будто кто-то сидит в нем и властно дергает веревочки, меняя весь его облик. При виде жены Гоймом овладели самые противоречивые чувства. Он улыбнулся ей, но тут же чуть не взорвался гневом, нахмурился, но поборол себя и, поколебавшись немного, вошел в кабинет. Заметив Шрамма, Гойм сердито насупил брови и позеленел от злости.
– Ах ты, безумец, фанатик, комедиант несчастный, – закричал он, даже не поздоровавшись с женой, – опять накуролесил, опять пришел ко мне, чтобы я тебя из ямы вытащил? Не так ли? Я все знаю; уберешься отсюда, от прихода подальше, в деревню, в пустыню…к простачкам…в горы.
Гойм сделал жест рукой.
– И не жди, что я за тебя заступлюсь, – продолжал он, распаляясь, – еще бога благодари, если два драгуна выпроводят тебя в дыру какую-нибудь, могло быть и похуже. Ты что думаешь? – горячился министр, подойдя к Шрамму так близко, будто хотел схватить его за шиворот, – ты что думаешь, будто здесь, при дворе, все дозволено? Да разве можно это твое слово божье в неподслащенном виде преподносить тем, кто к сладким речам привык? Вдохновенного апостола из себя разыгрывать, обращающего язычников на путь истинный? Сотни раз твердил тебе, Шрамм, я помочь тебе не в силах, ты сам себя губишь.
Шрамм, ничуть не смутившись, спокойно стоял, глядя министру прямо в глаза.
– Но я служитель бога, – промолвил он, – я дал обет нести правду божью в мир, и если нужно сделаться мучеником во имя ее, то да будет так.
– Мучеником! – рассмеялся Гойм. – Много чести! Тебе дадут пинка и, оплевав, выгонят из города.
– И уйду, – ответил Шрамм, – но, пока я здесь, уст моих никому не закрыть.
– Ну и будешь проповедовать глухим, – язвительно добавил, пожимая плечами, министр. – Впрочем, довольно; делай что хочешь, помочь тебе я не могу, да и не хочу, мне бы сейчас впору себя отстоять. Я тебя предупреждал, Шрамм, надо уметь молчать, уметь подольститься, иначе тебя затопчут в грязь. Такое уж время настало, ничего не поделаешь: Содом и Гоморра. Прощай, у меня нет больше времени.
Шрамм молча поклонился, взглянул с сожалением на жену Гойма, с немым изумлением на него самого и направился к двери.
– Ладно, жаль мне тебя, – проворчал Гойм, – ступай, я сделаю что могу, но смотри, заройся в Библию и держи язык за зубами, в последний раз тебе это советую.
Шрамм, уже не слушая его, вышел. Супруги остались одни. Гойм так и не поздоровался с женой, они давно уже были не в ладах. Не зная, очевидно, с чего начать, он стоял растерянный, злой и теребил концы своего парика.
– Граф, зачем вы так внезапно велели мне приехать сюда? – надменно, с укором спросила Анна.
– Зачем? – вскричал, подняв глаза к ней, Гойм и забегал взад и вперед по кабинету как безумный. – Зачем? Потому что я сошел с ума, потому что эти негодяи напоили меня, и я не знал, что делаю, потому что я идиот, несчастный и сумасшедший, да! Сумасшедший! – повторил он.
– Значит, я могу ехать обратно? – спросила Анна.
– Из ада назад не возвращаются, – захохотал Гойм, – а ты, сударыня, по моей милости в ад попала: ведь здесь сущий ад!
Он разорвал на груди душивший его жилет и грохнулся на стул.
– И впрямь рехнуться можно, но с королем воевать не станешь.
– Король? Причем тут король?
– Король! Фюрстенберг! Все! Все! Даже Вицтум и, кто знает, может, даже сестра моя родная, все сговорились против меня. Проведали, что ты, сударыня, красавица, а я дурень, и велели мне показать жену.
– Кто же им рассказал обо мне? – спросила, все еще сохраняя спокойствие, Анна.
Не в силах признаться, что сам он во всем виноват и теперь его ждет расплата, министр заскрежетал, зубами, затопал ногами и вскочил со стула. Но вдруг раздражение его как рукой сняло, он побледнел, стал холодным, язвительным.
– Довольно, – заговорил он, понижая голос, – обсудим все хладнокровно. Чему быть, того не миновать. Я вызвал вас потому, что меня заставили это сделать, король так захотел, а Юпитер, как известно, поражает тех, кто дерзнет его ослушаться. Удовольствия для короля – превыше всего, королевскими стопами попирает он чужие сокровища и бросает их в навозную кучу, и тут, как от смерти, нет спасенья. – Гойм понизил голос и умолк, словно ожидая возражений. – Я побился об заклад с графом Фюрстенбергом, что ты, жена моя, красивей всех здешних красавиц, которые пользуются влиянием при дворе. Ну не дурень ли я? Скажи мне это в глаза, разрешаю. Пресветлейший государь сам вызвался быть нашим судьей. Я выиграю тысячу дукатов.
Анна сдвинула брови, отпрянула от Гойма, с величайшим презрением глядя на него.
– Какое вы ничтожество, граф, – вскрикнула она в гневе. – Как? Вы держали меня, словно невольницу, взаперти, отказывая даже в воздухе и свете, а теперь выводите, как комедиантку, на сцену, чтобы я выиграла вам пари блеском глаз и улыбками. Какая беспримерная подлость!
– Не щади меня, не скупись на выражения, говори, что хочешь, – промолвил с горестью Гойм, – я стою этого, заслужил. Самой тяжкой кары мало, чтобы наказать меня. Я обладал чудеснейшим в мире созданием, оно цвело и улыбалось только для меня, я был горд и счастлив, но дьявол попутал меня, потопил мой разум в вине.
Гойм заломил руки. Анна молча смотрела на него.
– Я еду домой, – заявила она, – здесь я не останусь, мне было бы стыдно самой себя. Лошадей, карету!
Она бросилась к дверям. Гойм стоял, горько усмехаясь.
– Лошадей! Карету! – повторил он. – Ты не понимаешь, верно, где находишься, в каком окружении. Ты – невольница и не можешь ни шагу ступить отсюда, вероятно, даже у дверей дома стоит сейчас стража. Вздумаешь бежать, драгуны схватят тебя и вернут силой; никто не осмелится отвезти тебя обратно, никто не дерзнет прийти тебе на помощь. Ты и понятия не имеешь, куда попала.
Графиня заломила в отчаянии руки, Гойм смотрел на нее с каким-то смешанным чувством; ревность была в его взгляде и жалость, боль, издевка и беспокойство.
– Выслушайте меня, – сказал он, слегка коснувшись ее руки, – быть может, все еще не так страшно. Будем хладнокровны и рассудительны. Гибнут те, кто хочет погибнуть. Вы же, если захотите, можете казаться не столь красивой, можете сделаться неприятной, суровой, отталкивающей, можете, чтобы спасти себя и меня, даже стать отвратительной.
Гойм понизил голос.
– А знаешь ли ты, сударыня, нашего всемилостивейшего повелителя короля Августа? – спросил он со странной усмешкой. – Это самый благородный, самый щедрый государь, он сорит золотом, которое я, акцизный, выжимаю из заплесневелого хлеба бедняков. Нет ему равного по великодушию и по тому, как неутомимо жаждет он дорогих и диковинных развлечений. Ему ничего не стоит сломать подкову и сломать женщину, а потом швырнуть их оземь; ничего не стоит сегодня заключить в Кенигштейн канцлеров, которых только вчера он обнимал. Добрый и милостивый государь, он улыбается тебе до последней минуты, чтобы усладить твою участь перед эшафотом. Он человек сердобольный, но не дай бог ему воспротивиться.
Гойм говорил все тише, тревожно поводя вокруг глазами.
– Знаешь ли ты нашего государя? – О, это очень любопытно, – продолжал министр шепотом, – он любит женщин все новых и новых, как тот дракон в сказке, пожиравший девушек, которых перепуганные жители доставляли ему в пещеру. Кто перечтет его жертвы? Ты, может быть, слышала их имена, но, кроме тех, что всем известны, втрое больше давно забытых. У короля странные вкусы и наклонности, день-другой он влюблен в шелка и атлас, но, когда они приедаются ему, он не прочь поохотиться и за лохмотьями. Люди знают трех побочных королев, я могу насчитать их двадцать. Кенигсмарк еще красива, Шпигель вовсе не стара, а княгиня Тешен пока в милости, но все они надоели ему. Он ищет, кем бы еще поживиться! Хороший государь! Милосердный государь, – продолжал Гойм, смеясь, – ведь надо же ему поразвлечься, для того он и на свет родился, чтобы все было к его услугам; красив, как Аполлон, силен, как Геркулес, сладострастен, как Сатир, и грозен, как Юпитер.
– Зачем ты мне все это рассказываешь? – возмутилась Анна. – Неужели ты считаешь, что я так низко пала, что по первому кивку государя могу сойти со стези добродетели? Плохо же ты меня знаешь! Это оскорбление!
Гойм посмотрел на нее с состраданием.
– Я знаю мою Анну, – возразил он с усмешкой, – но я знаю двор, знаю монарха и знаю силу его соблазна. Если бы ты любила меня, я был бы спокойней.