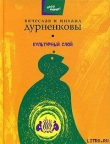Текст книги "Страсти по четырем девочкам"
Автор книги: Юрий Яковлев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– А куропатка съедает в день всего 22 грамма.
Наверное, эта фраза, как шифр, скрывала что-то важное, о чем необходимо было сообщить Маме.
Я же так и не проронил ни слова: был поражен, что мы с Таней одну и ту же женщину приняли за свою Маму. Кто из нас ошибался? А может быть, в этой странной мистерии, которая разыгрывается в моем Театре, одна Мама для всех?
Пьеро сжимал в руках тоненькую школьную тетрадку. Арлекин уронил голову на грудь. Маска со смеющимся ртом выглядела нелепо – смеялась, когда надо было плакать. Но в эту минуту маски моих помощников снова стали маленькими щитами, которые надежно закрывали их лица. Лицо-то можно закрыть личиной, а как защитить сердце?
– Почему ты не предупредил нас? – глухо спросил Пьеро. – Мы думали, что это простая тетрадь.
– Давай уйдем отсюда! – предложил Арлекин. – Ведь это Театр...
– Отсюда не уйдешь, – вздохнул Пьеро. – Этот Театр в каждом из нас. А разве можно уйти от самого себя?
Эти слова он произнес с горечью.
И глядя вслед уходящей Маме, сказал:
– Уйти из Театра – значит изменить самому себе и... своей Маме.
Может быть, он тоже принял ее за свою Маму.
Нет, они не ушли, эти два моих помощника, и не сорвали с лица маски. Одна маска хмурилась, другая смеялась. Но я чувствовал, что под масками по лицам текут слезы. Те самые, невидимые миру. Миру-то они не видны, но они твои... слезы:
– А куропатка съедает в день всего 22 грамма.
Песнь третья
Если бы в моем Театре был занавес, на нем бы, как мхатовская чайка, был бы вышит опавший лист. Там на заснеженном сквере лежал дубовый, а теперь нам предстоит найти каштановый – большой, разлапистый, цвета бронзы. Похожий на перо жар-птицы. Опавшие листья – человеческая память! Следы жизни.
Человеческая память напоминает архив после разгрома, где все дни, события, годы жизни свалены в одну кучу. Самые дорогие воспоминания твоей жизни порой пропадают здесь, как в пресловутом спецхране. Но мой Театр имеет доступ в этот спецхран, он бросает вызов забвенью и возвращает к жизни то, что особенно дорого людям, дорого всегда.
В моем Театре оживает не только моя жизнь – она и не заслуживает своего театра – я возвращаю к жизни тех, кого уже нет: их жизнь продолжается в моем Театре. Театр приближает их к нам.
Не покидайте мой Театр! Ведь ни один театр в мире не может существовать, если зрительный зал пуст и если у входа никто не спрашивает: "Нет ли лишнего билетика?"
Таня Савичева отступила в тень. Сейчас на сцену выйдет другая девочка – Анна Франк.
Она еще не появилась из-за кулис, а два моих спутника, Пьеро и Арлекин, уже рядом. Они входят в роль, настраиваются, как оркестр перед спектаклем:
Милые ребятки,
Не играйте в прятки.
Ведь играют в прятки,
Если все в порядке.
И Арлекин с поклоном продолжает:
Пальцы в перчатке
Играют в прятки.
В раковину устрица
Прячется, как узница.
И не обнаружена
Боль ее – жемчужина.
И вот тогда откуда-то донесся сдавленный, дрожащий голос:
Я в прятки не играю,
Я прячусь от врагов.
Я каждый день сгораю
И возрождаюсь вновь.
Место действия – Амстердам! Вращается глобус. Как опавшие листья, шуршат листки календаря. Мы идем вдоль рек и каналов. Вода в них зеленоватая. Маленькие буксирчики, как жуки-плавунцы, снуют взад-вперед. По мостовой мчатся велосипедисты. Амстердам – город велосипедов. Все дети, взрослые, старики – жмут на педали, словно общими усилиями заставляют вертеться землю. Узкие дома стоят тесно, как солдаты в строю. Черепичные крыши напоминают чешую красных рыб. Мы ищем убежище Анны Франк. Выясняется, что мои спутники не понимают, какая разница между убежищем и домом.
– Убежище – это берлога в дремучем лесу? – спрашивает Пьеро.
– И в ней живут медведи, – шутит Арлекин и умолкает, поняв, что сейчас шутки неуместны.
– Когда человек скрывается от преследования – любой дом превращается в убежище. Иногда такой дом найти труднее, чем берлогу в лесу, – объясняю я, и мы прибавляем шагу.
– Как, же мы найдем это убежище? Где оно?
Эти вопросы повисают в воздухе.
Но время открывает тайны, со временем они утрачивают свой смысл тайное становится явным. То, что люди чести хранили под страхом смерти, теперь знает множество людей. Спросите любого полицейского голландской столицы, и он укажет вам дом Анны Франк. Убежище снова стало домом, правда, в нем уже нет прежних жильцов...
Мы не просто идем по Амстердаму, мы перемещаемся во времени: ищем не только дом, но и жестокое время Анны Франк. А дорогу туда не укажет ни один полицейский.
Встречаются и расходятся каналы, по набережным и мостам мчатся велосипедисты – жмут на педали, крутят землю в обратную сторону. Меняются времена года: на смену весне приходит зима, зиму сменяет осень. Снег, дождь, снег. Меняются лица: старики становятся молодыми. И вдруг барабанная дробь, грохот:
Фашистские солдаты
Вступают в Амстердам.
На шеях автоматы,
Трам-там-там!
И свастика паучья,
И проволока колючая,
И на стене приказ:
Комендантский час.
И я отчетливо понял, что нахожусь в тылу врага в незнакомом городе, занятом фашистами. Без документов, без оружия, без легенды – кто я и откуда. И еще не один – с двумя парнишками, с Пьеро и Арлекином, которые знают о войне только по фильмам, и поэтому жизнь во вражеском тылу для них увлекательное приключение. Мне стало не по себе, а они с интересом смотрели по сторонам. Рассчитывали, что маски защитят их от всех превратностей судьбы? Они шли, стараясь не отставать от меня, "артисты драмкружка, освистанные школой". А для меня это был реальный мир моей юности. Никаких театральных условностей: война!
Сыпал мокрый снег – из серой бездны неба медленно опускались крупные хлопья, словно кто-то крошил курам белый хлеб: цып-цып-цып. Подлетая к зеленоватой воде каналов, снег у самой воды зеленел. Такой это был зеленый снег!
И вдруг откуда-то снова донесся сдавленный, уже знакомый голос:
Я слепну, как слепнет старуха.
В глазах от-бессилья темно.
И слушает мир мое ухо
Мое слуховое окно.
Вокруг столько крыш, столько слуховых окон! Которое из них окно убежища, откуда был послан этот сигнал? Мосты, каналы, площади, велосипедисты – им снег не помеха – мы спешим, выбиваемся из сил. Я забываю об опасности. Откуда только хватает сил! Ах, да я же молодой, время вернуло меня в юность, поэтому нет одышки.
Неожиданно рядом с нами вырос кирпичный дом, он кажется красным от накала, наверное, снежинки тают, касаясь его стен. И вдруг откуда-то сверху, непосредственно с неба, обрушивается удар колокола. Еще удар – мы задираем головы – дом оказывается башней, Она устремляется ввысь, и верхние этажи пропадают в мутном месиве снега. И кажется, колокола звенят прямо в небе. И обрушиваются на землю.
– Так это же Восточная башня, – делаю я открытие, – значит, мы где-то близко. Вперед!
Слева – канал. Справа – ряды узких домов, неизменно жмущихся один к другому. Черепичные крыши со слуховыми окнами. Старинные блоки с цепями: когда-то с их помощью разгружали суда.
И вдруг на снегу – сухой листок. Большой, разлапистый, с ребрышками и прожилками. Это опавший листок каштана, похожий на оброненное перо жар-птицы. Сухой листок – тайный знак: каштан растет во дворе Аниного дома – значит, здесь убежище Анны Франк!
Крадучись, подходим к крыльцу. Стараясь быть незамеченными, проскальзываем в дверь. Темный коридор уперся в шкаф-тупик. Куда дальше? Сезам, откройся! Шкаф со скрипом поворачивается – это потайная дверь. Мы заходим. Шкаф-дверь закрывается. Перед нами крутая лестница – в Голландии все лестницы крутые: экономия места. Поднимаемся на этаж... еще этаж. И вот убежище. Тяжело дыша, останавливаемся и замираем.
Чердак. Слуховое окно.
Бесцветного неба пятно.
А ночью звезда чуть заметная.
И снова неделя бесцветная.
Где Анна? Терпеливо ждем. Тихо. Слышно, как стучат сердца. Все трое думаем об одном:
Глухой чердак. Убежище. Тюрьма.
Здесь медленно сойдешь с ума.
Анна Франк появилась в луче лунного света. На ней был какой-то странный наряд: голубой хитон, перешитый из маминой нижней юбки. Сверху сборки. На груди бант. В таком хитоне танцуют балерины. Но у Анны на ногах вместо пуант обыкновенные спортивные туфли. Скрестив на груди руки, она зябко обнимает себя за плечи. Может быть, только что участвовала в каком-то странном спектакле и прямо со сцены шагнула сюда, в холодную чердачную каморку со скошенным потолком.
Анна не удивилась, увидев в убежище незнакомых гостей, а может быть, приняла нас за действующих лиц своего спектакля?
– Вы слышите веселую музыку? – спросила она. – Это в соседнем доме играет радио. Идет передача для счастливых. Вы не знаете, есть где-нибудь передачи для несчастных? Создается впечатление, что во всем мире живут одни счастливые... Всюду музыка! Фашисты расстреливают людей под оркестр. Вы не знаете, под музыку умирать веселей?
Анна говорила не умолкая, видно, ей давно не приходилось видеть новых людей, хотелось выговориться. А в слуховом окне был виден клочок неба, побеленные морозом ветви огромного каштана и вдали, в кисее метели, как призрак вырастала кирпичная башня с часами. Мы молчали.
– Люди могут понять и пережить чужое горе, если воспринимают его как свое. Я вам не кажусь старухой? Брюзгой?
Мы переглянулись. Пьеро хмурился, Арлекин бессмысленно улыбался. А какое выражение лица было у меня?
Нас выручила Снежинка, залетевшая в чердачное окно и ставшая участницей нашей мистерии.
Я – Снежинка.
Я – маленький атом.
Я ложусь на крыльцо
И на каски солдатам.
Где начало мое – там конец.
Я в окно залетаю, как глупый птенец.
Я к тебе залетела в окно слуховое,
Принесла с собой запахи воска и хвои.
И рождественской елки свеченье
Я тебе принесла в заточенье.
Я одна, но почувствуй
Нас много до жути.
Опускается снег на большом парашюте
И земли не коснувшись,
Все кружится, кружится.
Я – Снежинка.
Я белое кружевце.
Снежинка недолговечна, как нечаянная радость. Она растаяла, исчезла, но, видимо, белая резная звездочка сохранилась в сознании Анны.
От холодной звездочки почему-то исходило тепло. И Анна снова закружилась в танце, а потом подплыла к Пьеро и спросила:
– Почему ты такой хмурый? Ты, наверно, еврей и боишься фашистов?
– И вовсе я не хмурый, – выдавил из себя Пьеро.
И тут взгляд Анны упал на Арлекина:
– Что ты улыбаешься? Ничего смешного нет.
– Да не улыбаюсь я! – запротестовал Арлекин, и я почувствовал, что ему очень хочется сорвать маску, но Анна схватила обоих за руки и втянула в свой танец.
Арлекин – теперь его штатная улыбка до ушей была как нельзя кстати воскликнул:
Ты собралась на бал?
Мы очень рады, Анна!
Ты слышишь, за стеной
Играет фортепьяно?
Сейчас зажгут огни,
И окна распахнутся.
Ты мне в глаза взгляни
Мои глаза смеются.
И Анна, поверив улыбке маски, ответила, танцуя:
Ах, музыка и смех воображенье дразнят.
Мне кажется, сейчас придет веселый
праздник!
Пьеро и Арлекин кружились в танце. Они не понимали, что этот танец был для Анны боем, который она давала безысходности заточения, а красота этого танца была красотой, спасающей мир.
Сколько раз в минуты отчаянья Анна разыгрывала в убежище спектакли, чтобы удержаться, не поддаться отчаянию. Выстоять! Это был ее подпольный Театр, Театр для самой себя. Сейчас на сцене этого Театра появился еще один персонаж – Праздник. Он, видимо, знал тайну убежища, поднялся на чердак, отворил дверь и предстал перед Анной в образе седого благообразного старичка в черном сюртуке, с котелком на голове. Острая бородка была вызывающе поднята, как бы прокладывала ему путь. В руках он держал хрупкую скрипочку и смычок.
Я – веселый праздник Пурим.
Посидим, побалагурим.
На столе такая штука
Фаршированная щука.
Как ледок хрустит маца.
Ламца-дрица-аца-ца!
Я – старинный праздник Пурим,
Прохожу сквозь стены тюрем.
Я – частица мироздания.
Я – улыбка состраданья,
Я – дающий отдых слезам,
День, прожитый под наркозом.
Хейби, Анна, встретим Пурим,
И лукаво глаз прищурим.
Старичок артистично положил скрипку на плечо, взмахнул прутиком смычка, словно подстегнул невидимых лошадей, и заиграл. Он играл в полную силу, не боясь, что с улицы услышат фашистские патрули. Играл как в мирное время. Анна и два ее кавалера – Пьеро и Арлекин – кружились в танце и, казалось, в самих масках произошли некоторые перемены: Арлекин улыбался шире, а Пьеро хмурился меньше. Вот какими они стали, "артисты драмкружка, освистанные школой".
А я отчетливо понял – в этот миг красота оказалась сильнее войны. Маленькая победа! Она вытеснила мрачные думы о том, что в любое мгновенье сюда могут нагрянуть фашисты. Страдание затихло, как затихает боль. Музыка заполняла чердак. Смычок взлетал и опускался, едва касаясь струн, словно они обжигали. Дети кружились в танце. Маски стали карнавальными масками...
И вдруг в такт мелодии послышались далекие удары – шаги. Маленький праздник – островок мира среди большой войны – насторожился, стал затихать, сворачиваться. Исчезли улыбки. Только маска Арлекина продолжала механически улыбаться. Шаги приближались. Смычок в руке старичка повис в воздухе, танцующие остановились, не завершив па. Теперь шаги звучали как удары молота, как шаги каменного командора, спешившего наказать Дон Жуана. Но когда дверь от удара ноги распахнулась, вошел не командор, а слово, материализовавшееся в краснорожего громилу с железным голосом. В мистерии и такое возможно. Слово – "фашист".
Я здесь. Я явился. Вот он.
Стучусь я в дверь и в окно.
Ферботен! Ферботен! Ферботен!
Значит за-пре-ще-но!
Ферботен – больным лечиться,
Здоровым – ходить в кино.
Еврейским детям учиться
Ферботен – запрещено!
Ферботен смотреть на небо
Людям низших сортов.
Вкус молока и хлеба
Не для еврейских ртов.
Добытое кровью, потом
Отнято, отменено.
Жить евреям ферботен,
За-пре-ще-но.
Он повернулся и, высоко поднимая ногу в блестящем сапоге, ушел прочь, растворился во мраке. И долго еще в воздухе дрожало эхо этого проклятого слова, принявшего образ человека. Человека ли?
Да, это был призрак, а призраки, как известно, не причиняют зла. Но праздник погиб. Музыка умолкла и не оживала. А старичок со скрипочкой развел руками – что я могу поделать!
– Как хорошо мне жилось в вашей мистерии, – сказал он грустным голосом, – но теперь жизнь человека как снежинка: дохнут погорячей – и растает. Прощайте, люди!
Он повернулся и, сутулясь, пошел прочь. И когда он повернулся спиной, на его черном сюртуке мы увидели желтую шестиконечную звезду и слово "юде", что означает "еврей".
– "Боже, утоли печаль мою", – одними губами произнесла Анна, и ее слова прозвучали как молитва. Это были слова из Библии. И вдруг, подумав совершенно о другом, она сказала: – У меня был товарищ, его в школе звали "Защитник лягушек". Он всем доказывал, что лягушки очень полезные, очень красивые существа, и защищал их. Как жаль, что защитники лягушек не могут защитить людей.
– Говорят, есть лягушки величиной с кошку, – невпопад сказал Арлекин, и остренькая на язык Анна, блеснув глазками, спросила:
– А величиной с человека бывают?
Лягушки отвлекли моих друзей от тяжелых дум, и Анна, кажется, забылась. Но в это время на лестнице снова послышались шаги. На этот рез легкие, крадущиеся.
Анна вздрогнула:
– Слышите?
– Анна, если придут фашисты, мы задержим их, а ты спасайся. Ты можешь вылезти на крышу через слуховое окно... – предложил Арлекин.
А у Пьеро было на уме совсем другое:
– Анна, почему фашисты хотят тебя схватить? Ты взрывала мосты? Ты расклеивала по городу листовки? Ты стреляла в них?
Анна покачала головой.
– Что они от тебя хотят? – допытывается Пьеро. – Почему они все время рядом с тобой, не отступаются от тебя даже ночью? Ты в чем-нибудь виновата перед ними? В чем твоя вина?
Анна как-то странно посмотрела на нас, в этот миг глаза ее были большими и темными, словно она испытывала боль.
– Моя вина в том, что я еврейка, – одними губами произнесла она.
– Какая же это вина, если ты родилась такой? – спросил Пьеро.
– Ну и что, что еврейка, – заволновался Арлекин. – Какая разница? Я русский, Пьеро – армянин. Не все ли равно?
– Фашистам не все равно, – глаза Анны не отрывались от двери: шаги приближались. – Есть люди, которые считают, что если сосед несчастен, то сами они от этого будут счастливее. Если один народ несчастен, другой сразу заживет лучше.
– Так надо объяснить им! – воскликнул Арлекин. – Они чего-то не понимают!
– Их не убедишь. Они возвышаются, унижая других. Но это им только кажется, что они возвышаются. Они падают в бездну и вслед им летят человеческие проклятья.
– Идем с нами отсюда! – решительно предложил Пьеро.
– Мы спасем тебя! – поддержал товарища Арлекин.
– Я не могу, – сказала Анна, – я уйду, а как же Петер?
– Петер? Кто это Петер? Он тоже скрывается в убежище? – сразу столько вопросов задал Анне Арлекин.
– Мы возьмем с собой Петера... если он хороший парень.
– А как же папа и мама, и сестра... и товарищи по беде... Нас так мало и так много. Разве вы можете всех спасти?
– Всех мы, наверное, не сможем, – согласился Пьеро.
– Я не могу оставить их. Это будет предательством.
Шаги приближались. И наконец замерли у самой двери.
Все в убежище затаили дыхание.
– Значит, нас выследили... фашистские ищейки, – тихо произнесла Анна... – Вылезайте в окно, на крышу. Спрячьтесь на чердаке соседнего дома. Скорее!
– Мы никуда не уйдем, – был ответ.
Я не понял, кто из моих спутников ответил Анне, но каждый из них мог так ответить. Дверь медленно отворилась.
Вместо фашистов на пороге стояла улыбающаяся девочка. Она обвела всех взглядом, а увидев смешную маску Арлекина, даже прыснула в кулак.
– У вас здесь маскарад? – спросила она. – Как забавно!
– Кто ты? – сухо спросила Анна.
– Ну вот! – девочка скривила рот. – Ты меня прекрасно знаешь и не узнаешь. Может быть, у тебя в целом свете нет подруги ближе меня.
– Анна, это действительно твоя подруга? И ты не узнаешь ее? Смешно, воскликнул Арлекин.
– Не вижу ничего смешного, – заговорил Пьеро. – Или у Анны что-то с памятью. Или это никакая не подруга.
– Я ее никогда в жизни не видела, – растерянно сказала Анна.
Теперь все выжидающе смотрели на незнакомую девочку.
– Эх ты! – девочка с укором взглянула на Анну. – Я – Кити.
– Кити?!
Она подошла к гостье и положила ей руку на плечо.
– Я представляла тебя совсем другой. Но как ты узнала меня? Ведь прежней Анны нет. Перед тобой стоит совсем другая Анна. За это время я прожила целую жизнь. Повзрослела.
– Но мы же видимся с тобой каждый день, – воскликнула Кити.
– Да, да, я забыла. Я все чаще думаю, что мне лучше умереть.
– Ты мне об этом ничего не говорила. А как же Петер? – спросила Кити.
– Петер, – прошептала Анна, и глаза ее загорелись. Она вся преобразилась. – Петер... Наверное, надо сжаться и терпеть... перестрадать... дождаться, когда кончится война. Шпетер, как говорят немцы. Шпетер... Потом.
Есть немецкое слово "шпетер",
Что означает "позже".
Есть прекрасное имя Петер,
И нет ничего дороже.
И я говорю тебе, Петер:
– Шпетер, шпетер, шпетер.
Устали с тобой мы от этого слова.
Часы на стене, как шаги часового.
Луна за окном, как солдатская каска,
А в окнах зашторенных черная краска.
И я говорю тебе Петер:
– Шпетер, шпетер, шпетер!
Когда же затихнут шаги часового
И время на нас заработает снова,
И каждому сердцу сердца отзовутся,
И губы в улыбке опять расплывутся.
Забудем с тобою мы, Петер,
Чужое, немецкое "шпетер"
Забудем немецкое "шпетер"
И ругань солдат "доннер веттер!".
– Анна! Но это неправда, – воскликнула Кити. – Я прекрасно знаю, что ты не хочешь ждать, ты просто не умеешь ждать. Никаких "шпетер". Я помню твои слова, – продолжала Кити и, как по написанному, произнесла: "Сегодня утром я заметила, что Петер смотрит на меня как-то по-другому".
– Да, да, по-другому. Я не смогла тебе объяснить, как по-другому. Чувствует ли он то, что чувствую я?
Мы все поняли, что этим странным, близким и одновременно незнакомым подругам надо поговорить о чем-то очень важном, своем. И мы отступили в тень. Но все равно оказались свидетелями исповеди. Я заметил, какой интерес вызвала эта исповедь у Пьеро и Арлекина:
– "Каждое утро я выхожу дышать свежим воздухом на чердак. Остальные окна закрыты. Ставни не пропускают свет", – произнесла Кити так, словно читала эти слова.
И Анна подхватила начатое подругой:
– "Здесь занимается Петер. И виден кусок неба и голые ветки каштана. Мы сидели с Петером на кушетке. Он все больше и больше притягивал меня к себе, пока моя голова не склонилась на его плечо..."
Анна умолкла, словно ей надо было перевести дыхание. Тогда ее рассказ продолжила Кити – она читала мысли подруги:
– "В половине десятого я встала, подошла к окну, где мы всегда прощаемся. Я все еще дрожала, я была той, другой Анной".
– "Он подошел ко мне, – Анна исповедовалась перед своей подругой. Он подошел ко мне, я обхватила его шею руками и поцеловала его в левую щеку. Но когда я хотела поцеловать его в правую..."
Анна замерла. Ее лицо залилось краской. Она не могла говорить, но за нее ее слова произнесла Кити:
– "Мои губы встретились с его губами. В смятении мы прижались губами еще раз и еще, без конца..."
Я посмотрел на своих спутников и сделал странное открытие: маски на их лицах стали прозрачными и я увидел два встревоженных мальчишеских лица. Брови подняты, рты полуоткрыты. Мальчики настороженно слушали разговор подруг, боясь пропустить слово. Это было не любопытство, а открытие чего-то нового, неведомого. И я догадался, что их сердца бьются учащенно, что они забыли, в каком времени находятся, какую роль играют. Маски ожили.
И тут Анна неожиданно подошла к Пьеро и долго разглядывала его, словно под этой, печальной маской скрывался не чужой мальчик, а ее Петер.
– Ты слышал легенду про французскую девушку Маргариту? Она очень любила одного юношу, но видеться с ним могла только когда цвел миндаль такое было поверье. Маргарита стала молиться, и ее молитвы дошли до неба миндаль начал цвести каждый месяц...
Анна вдруг сделала паузу и подошла к Арлекину. Может быть, он больше походил на Петера.
– Нет, ты представляешь: зима, кругом снег и вдруг – цветущее дерево миндаля. Все думают, что на ветках лежит снег, а это цветы!
Арлекин стоял не дыша, словно каждое слово относилось к нему, но Анна отошла от него и снова вернулась к Кити.
– А я бы молилась, чтобы миндаль цвел каждый день, – горячо сказала она, – чтобы он не переставал цвести!
И тут в слуховом окне все увидели заснеженную ветку каштана, и всем показалось, что это зацвел миндаль – зимой, белыми цветами.
И сразу стены убежища раздвинулись, крыша раскрылась, как переплет книги, и космические миры резко приблизились к темной маленькой мансарде. А может быть, само убежище взлетело ввысь, и там внизу, у подножья Восточной башни, бессильно метались потерявшие всякий смысл фашисты?
Анна молча прошлась по комнате и остановилась подле меня. В тусклом свете ее глаза казались больше обычного, в них мерцал отблеск снега. И в этот момент лицо ее показалось мне до странности знакомым. Я знал ее раньше, только не помню, когда и где? А она стояла передо мной и, вероятно, тоже силилась вспомнить, кто я. И вспомнила! И в первый раз обратилась ко мне:
– Здравствуй! Как ты нашел меня?
– Мне помог сухой лист каштана.
– Он похож на перо жар-птицы, оброненное на снег. Правда?
– Он и мне показался пером.
– Хорошо, что ты пришел. Ко мне сюда редко приходят люди с воли. Хотя там, за стенами дома, тоже нет воли.
Я не знал, за кого она меня принимает, но разговаривала со мной Анна на равных, как будто я был ее сверстником. И мы оба из одного общего детства.
– Может быть, воли здесь, в убежище, больше, чем там, – сказал я. Здесь мы свободно говорим, о чем хотим, а там...
– Я тоже так думаю. Только воля здесь тяжелая. И у нее нет ни начала, ни конца.
– Придет конец, ведь война кончится.
– А куда денутся фашисты? – резко спросила Анна. – Ты рассуждаешь как ребенок, а я... я уже взрослая.
Мы как бы поменялись местами. Но неужели она не видит моих морщин, седых волос, грузной фигуры. Или в полумраке я кажусь ей мальчишкой. Но почему разговор у нас получился такой не детский?
– Ты все такой же, – прошептала она.
И в это мгновенье я узнал ее. Мне показалось, что передо мной стоит моя первая любовь. Я узнавал глаза, волосы, губы... Знакомые нотки звучали в ее огрубевшем голосе. И странное, волнующее чувство оживало, поднималось во мне. Я вспомнил свою первую любовь. Нет, нет, я никогда не забывал. Она никогда не умирала, была во мне, в тайниках моей души. И вот теперь, разбуженная чужой любовью, вышла из своего тайника.
В Театре полная смена декораций! Я вижу себя на берегу большой русской реки Мсты. Вокруг поля и перелески, и два холма, поросшие соснами. Вероятно, это старые курганы, насыпанные над братскими могилами богатырей. На одном холме одинокая сосна – ветви в стороны – напоминала крест.
Мы сидели под этой сосной так близко, что я чувствовал тепло ее плеча, а когда она поворачивалась ко мне, то прядь ее волос нежно касалась моей щеки. От волос пахло солнцем. У меня перехватывало дыхание, и я хотел подвинуться еще ближе. Но ближе было некуда... "Я обнял ее за шею руками и поцеловал в левую щеку. Но когда хотел поцеловать в правую... мои губы встретились с ее губами. В смятении мы прижались губами еще раз и еще... без конца". Откуда Анна знает об этом?! Или первая любовь только кажется неповторимой, а на самом деле похожа одна на другую? Впрочем, тогда я не знал, как называется это чувство. Какое это имело значение! Это было моим открытием. Моей тайной. И я не догадывался, что эта тайна написана у меня на лице, угадывается в моем поведении, накладывает печать на все мои поступки. Как я молился тогда, чтобы миндаль цвел каждый день! Но моя любовь уехала, ветка миндаля завяла и больше уже никогда не покрывалась цветами.
И вот теперь, рядом с Анной, мне показалось, что миндаль цветет, где-то близко сверкает река Мста, зеленеет курган с сосной, похожей на крест, запах солнца – запах волос.
И тогда я повернулся и посмотрел в зеркало. Из мутного Зазеркалья на меня смотрел немолодой, усталый человек. Куда девался юный обладатель первой любви?! От него остались только глаза. Сейчас они насмешливо смотрели на меня. И я подумал: человек ни к кому не бывает таким жестоким, как к самому себе!
Я отвернулся от зеркала, чтоб не видеть этих насмешливых глаз. Анны уже не было рядом. Я увидел ее со спины. Она уходила. Трепетная и невесомая девочка шла по лунной дорожке. Ветер развевал ее фантастический хитон, снежинки оседали в волосах. Она шла навстречу своей любви, и не было в мире такой силы, которая бы смогла остановить ее. Шла навстречу и одновременно прощалась.
Я говорю последнее "прости"
Фиалке, не успевшей расцвести.
Ведь я сама такая же фиалка.
Я будущего маленький побег,
Но нежный стебель засыпет снег,
И лепестков моих ему не жалко.
Я говорю любимому: "Прощай".
Хранить любовь свою мне обещай.
Ведь первая любовь не умирает.
Прощай, весь мир, все божьи существа,
Прощайте, все любимые слова,
Моя свеча беззвучно догорает.
Установилась глубокая тишина. Мой Театр напряженно работал, и сквозь маски моих спутников, которые стали прозрачными как стекло, по-прежнему проступали черты удивленных, не понимающих все до конца, ребяческих лиц. Что ожидает Анну и ее друга на крохотном островке любви, окруженном врагами?
Окажется ли любовь сильнее – спасет ли красота мир?
Так думали мои друзья, так думал я.
Потом Арлекин нарушил молчание:
– У меня тоже была девочка... Мне тоже хотелось обнять ее, но я не решался. Мысленно я так много говорил с ней, а когда встречался, не мог выдавить из себя ни слова... Как-то она сказала: "Поцелуй меня... Меня никто не целует..." И все кончилось.
И снова тихо. Снова спектакль ушел внутрь.
– А у меня все кончилось иначе, – признался Пьеро. – Моя девочка однажды сказала мне: "Почему ты меня не целуешь, ведь меня все целуют". Смешно, правда?
Но никто не засмеялся. Только маска Арлекина бессмысленно улыбалась.
Ничего-то они не поняли, мои мальчики, наверное, не пришло еще время понять это. Кити же загадочно улыбалась.
И тут послышался шорох и в слуховое окно влетел бумажный Журавлик театральное "ружье" снова "выстрелило". Он совершил посадку у ног Кити:
– Я прилетел к тебе, Анна!
– Меня зовут Кити, – ответила девочка.
– Кто ты, Кити?
– Я подруга Анны Франк. Ты бумажный Журавлик, а я бумажная подруга. Но иногда человек доверяет бумаге больше, чем людям. Я знаю все об Анне.
– Ты читала ее дневник?
– Я и есть дневник Анны Франк – ее бумажная подруга.
У основания Восточной башни, как у ноги великана, стоит девочка. Худенькая, вытянутая, в коротком платье. Ножки тонкие. Руки за спиной, и поэтому живот чуть-чуть выступает вперед. Типичная детская поза! Большие глаза смотрят из глубины. Верхняя губка небрежно пришлепнута к нижней. Когда на улице становится людно, кажется, что девочка смешивается с толпой и идет вместе со всеми. Куда?
Когда же колокола на башне вызванивают мелодию Баха, девочка замирает и напряженно слушает. Может быть, даже тихо подпевает. Ля-ля, ля-ля, ля-ля. Кто знает? В это мгновенье она наполняется такой легкостью, что вот-вот оторвется от земли. Плечи отведены назад, а лопатки проступают сквозь платье, как маленькие крылышки – в самый раз взлететь. Но в последнюю минуту девочка вспоминает, что она бронзовая и никакие крылья не оторвут ее от земли. И снова замирает на своем вечном бессменном посту. Это Анна Франк сегодня.
Песнь четвертая
Розовое облако лежало на влажном склоне священной горы Токо. Оно то возникало, то растворялось в дымчатых волокнах утреннего тумана. Потом неожиданно возникло желтое облако, потом – вишневое. Нет, это были не облака: на склоне горы шло бурное цветенье. Туман закрывал одни кущи и открывал другие. Сакура, дроки, хлива в разрывах тумана, они сменяли друг друга, и казалось, что вся огромная гора находится в движении. Светомузыка весны.
Гора Токо встретилась мне на пути к японской девочке Сасаки Садако и стала декорацией к новой картине мистерии.
В апрельский день искать опавшие листья – тщетное занятие. В блестящей от дождя траве нет следов прошлого, следов войны. Воронки от бомб давно заполнились дождевой водой и превратились в пруды, как бы сотворенные самой природой.
В обгоревших пустых лесах появились гнездовья. В мертвые города вернулись люди. Время помогает забыть горе. Горе прошлого – обезболенное горе.
Скошенные вагончики фуникулера ползут по наклонным рельсам к вершине горы Токо. Эту гору, как уважаемого человека, в Японии называют Токо о сан.
Наверное, наша маленькая героиня тоже поднималась в таком вот вагончике, а потом шла по аллее, по краям которой растут огромные священные деревья – обоо, а под ними стоят изображения Будды – только не старого и мудрого, а Будды-мальчика. Эти Будды-мальчики как бы провожали Сасаки к храму. А там, в храме, гремел гонг, ухал барабан и в полутьме горел костерик из сухих благовонных веток. Надо было подойти к нему и ладонью грести к себе сизый дым. Этот горьковатый, щиплющий глаза дым, обволакивая лицо, помогает от всех болезней. И маленькая Сасаки все загребала и загребала дым: очень хотела избавиться от своего недуга. Покраснели глаза, по щеке медленно поползла горькая слезинка. Монахи в деревянных башмаках кигуцах и черных кимоно стояли за ее спиной и бормотали молитвы. Гонг и барабан отгоняли злых духов.