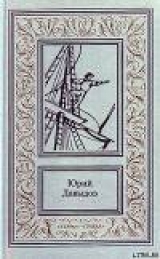
Текст книги "Доктор Елисеев"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Исафет подал знак – не то свист, не то пронзительное шипение, – залп грянул, и все исчезло в плотном пороховом дыму.
В загоне для скота послышался хрип, в том хрипе слились и гнев, и боль, и что-то похожее на удивление… Сердце у Елисеева прыгнуло в горло и застряло там, мешая дышать.
Эс-сбоа медленно всплыл из порохового дыма. Положив на зарезанного быка передние лапы, он стоял в лунном свете как из бронзы вылитый. Его очи метали желтую ярость, его бугристая грудь, голова с огромным лбом и широким носом были повернуты в ту сторону, откуда только что прогремели выстрелы.
У Елисеева дрогнули руки. Не от страха. От чего-то иного. Ему почудилось в ту минуту, что лев глядит на него в упор, глядит с презрительным вызовом и поистине львиным бесстрашием, и Елисеев мгновенно и остро почувствовал себя подлецом, убийцей.
Исафет выстрелил первым. Елисеев механически – следом. И опять загон заволокло пороховым дымом, словно затем, чтоб скрыть от всех агонию льва.
Все было кончено. Он разметался подле бычка, его гривастая окровавленная голова была откинута, в луже крови плавал лунный серпик.
Деревня ожила. Загон окружили факелы. Люди вопили и плясали. Велик Аллах! Все спасено! Велик Аллах! Вот он валяется, дохлый эс-сбоа, его можно пинать ногами, его можно дергать за хвост.
Елисееву был неприятен восторг толпы. Еще четверть часа назад все эти люди дрожали при одном имени эс-сбоа, а теперь… Благородно ль радоваться, видя мертвого льва? Но, думал Елисеев, твои чувства определяются тем, что ты, ты-то сам ничего не терял оттого, что лев жил в этих лесах, ты ничего не терял, доктор Елисеев, они же могли потерять все, ибо что еще есть у этих бедняков, кроме коровенок да коз? Да-а, труп врага хорошо пахнет… А вот и Али. Ишь, так и жмется к старику Исафету. А в глазах-то восторг, почтение, любовь… Ну-с, на сей раз мальчишка, кажется, распростится с тобой, доктор Елисеев. И, чувствуя что-то похожее на зависть к старому охотнику, чувствуя неожиданную грусть от того, что Али словно бы бросает его, Елисеев растерянно улыбнулся.
6
Алжир, Алжир… Благодать земная, солнечная благодать. Алжир – это Африка, но до Алжира рукой подать из Европы.
Еще Наполеон повелел военному министерству начертать план алжирской кампании. Однако у Наполеона недостало для нее времени. Девять лет спустя после того, как английские тюремщики зарыли труп Наполеона в долине Лонгвуд, что на острове Святой Елены, в 1830 году, король Франции Карл X спустил на Алжир генерала Бурмона.
Генерал располагал солдатами, пушками, маркитантами. Он не располагал только совестью. И поэтому Бурмон имел честь сделаться родоначальником так называемых «африканских генералов». Это были дикари в эполетах, повторявшие «цивилизация, цивилизация» чаще, чем «черт побери», и считавшие, что там, где начинается Африка, там кончается все человеческое.
В восемьсот тридцатом Алжир услышал французские пушки, и воспитанники французских военных училищ доказали, что они натасканы расшибать не одни лишь парижские баррикады и умеют стрелять не в одних лишь парижских блузников.
Взять штурмом Константину и учинить в ней такую резню, что жители, обезумев, кинутся в бездонные пропасти? Отлично! Вперед, ребята, во имя бога и короля!.. Сабли вон, руби руки арабским горожанкам – где там возиться, срывая с них браслеты? И да здравствует Франция!.. В этих пещерах попрятались тысячи алжирских женщин, стариков, детей? Полковник Пелисье приказывает заложить входы в пещеры сухими дровами. Теперь – огня! Оля-ля-ля, мы заставим их поплясать в дыму. Живей, молодцы, живей!.. Но что это? Алжирцы не сдаются? Они поднимают мятежи? Они бьют французское воинство? Пусть пеняют на себя. «Африканские генералы» взывают к отечеству: солдат, солдат и еще раз солдат, пушек, пушек и еще раз пушек, свинца, побольше свинца… Десятого Карла сменяет Луи Филипп, Луи Филиппа – Луи Бонапарт, племянник императора, замыслившего покорение Алжира… Многое меняется во Франции. Одно неизменно: плывут в Алжир войска, артиллерия, боеприпасы. А следом спекулянты, авантюристы, разорившиеся помещики, попы, коммивояжеры, трактирщики, подрядчики, ростовщики. И вся эта сволочь, урча и закатывая зенки, рвет Алжир – его земли, его пастбища, его оазисы. Скорее! Хватай! Набивай мошну! И да здравствует король, император, республика, черт, дьявол!..
Елисеев прибыл в Алжир в пору, когда отпылали восстания. Вот уже два года как угас в изгнании Абдаль-Кадир, арабский Шамиль. Французские колонизаторы напрочно, надолго располагаются в стране. Алжирцы прокладывают дороги, которые принадлежат французам. Алжирцы строят артезианские колодцы, которыми владеют французы. Алжирцы возводят отели, в которых живут французы, рестораны, где они пьют и танцуют канкан, магазины, в которых они торгуют, причалы, у которых грузят свои корабли… В стране царит строжайшая законность: француз – гражданин полноправный, алжирец имеет полное право на кандалы и смертную казнь, и притом – зачем бумажная волокита? – без следствия, без суда.
Елисеева не прельщает э т о т Алжир. Его тянет, как замечает доктор в дневнике, «далее от европейской показной культуры, в глубину алжирской Сахары, где власть цивилизации не успела еще тронуть особенностей жизни, развившейся при естественных условиях, а не внесенных пришлыми цивилизаторами Европы».
Он торопится еще и потому, что его гонит хронический недуг, неподвластный медицине, – нехватка денег. Он торопится, хотя и не любит быстрой езды. Он любит следить, как природа и люди постепенно меняют облик, любит переливы и полутона, панораме предпочитает миниатюру. Но пока ему приходится сидеть в поездах и дилижансах. А быстрая езда – как современные живописцы: отметая частности, пренебрегая мелочной отделкой, создают пейзаж летучими штрихами. И потому северный Алжир запечатлелся в его памяти широким полотном, выполненным свободной кистью.
Горы, воспетые древними как «опора неба», горы, то в шапках и шубах лесов, то нагие; города с разительной несхожестью арабских и европейских кварталов; долины в молниях узких потоков и геометрия плантаций…
Наконец последний дилижанс. Высокий, поместительный экипаж с кондуктором в картузе, как у питерских дворников, и четверкой лошадей цугом. И в лицо Елисееву бьет золотистый ветер пустыни. И словно бы вместе с ним несется череда видений: «Принцесса Фатима», капитан Марчеллини, паломники… Кондуктор на козлах щелкает бичом, лошади разом выносят дилижанс на перевал. Возница осаживает четверку и снимает картуз. Уф-ф, можно и передохнуть малость.
Елисеев вышел из дилижанса. Вот она! Вот она, великая Сахара… Она впереди, до горизонта, распахнутая, бесконечная. А справа и слева отроги гор. Но глазу наскучили горы. Взор тянется, скользит и скользит, отдыхая, по песчаным далям до красновато-желтого горизонта. И так же, как на руинах Карфагена в голову не приходило ничего, кроме избитого латинского изречения, так и сейчас, на перевале, одно лишь избитое сопоставление: словно море, настоящее море…
И опять гремит дилижанс. Там, за холмами, – Бискра. Но прежде, конечно, форт. Он тезка парижского предместья, его зовут Сен-Жермен. Пушки, часовые, казармы, шест с флагом. Алжир умиротворен? О да, разумеется. А форт с пушками? С ними, знаете ли, надежнее. Никогда нельзя положиться на благоразумие алжирцев, которым сделано столько добра. Шальные головы, спят и видят, знаете ли, избавление от франков…
Итак, форт Сен-Жермен, за ним кипарисовая аллея. Кипарисовой аллеей запыленный дилижанс вкатывается в Бискру, где есть гостиница «Сахара», где выстроились кирпичные домики, обвитые плющом, где раскинулся базар, окруженный кофейнями.
Из Бискры путь один – на верблюдах. Теперь забота – найти попутчиков. Хозяин отеля «Сахара», пузатый краснощекий плут, подсказывает русскому путешественнику: потолкуйте, сударь, вон с теми господами. Господа оказываются коммивояжерами. Они везут товар в Туггурт и Уарглу. Бог торговли покровительствует Елисееву, хотя он в жизни и пуговицы не продал. Может, потому, что он исправный покупатель? Вот и в Бискре он набивает целый тюк покупками. Местный аптекарь разводит руками: «Я вас правильно понял, месье доктор? Вы хотите даром лечить любого туземца?» Елисеев объясняет: антропология. Носатый аптекарь, с бородкой как у короля Генриха IV, пожимает костлявыми плечами: «Если месье нужны антропологические измерения, то вы идите к местным властям, и вам без долгих слов пригонят сколько угодно туземцев». – «Нет, – говорит Елисеев, – сие не в моих правилах. Я уж лучше распущу слух, что странствующий москов собирает целебные травы, и это привлечет ко мне кочевников».
От Бискры на юг до оазиса Уаргла верст триста. Если все пойдет ладно, доктор доберется туда в несколько дней.
Началось ладно. Верховые верблюды – голенастые, сильные, отъевшиеся – взяли с места бодро. Верблюды вьючные – тяжелые, мохнатые, горбастые – вышли раньше.
Елисеев не заметил, как пропал из виду городок. Он не оглядывался. Перед ним пустыня. Ее дали манили. Доктор знал это чудодейственное притяжение и был рад вновь его испытать. Он знал и ту особенную зоркость, которую обретает в пустыне зрение, и это тоже было в отраду. Прозрачный, как дистиллированная вода, воздух разливался над пустыней. И все виделось удивительно четко: куст тамариска и альфа (та самая альфа, что тяжелыми связками ложилась в корабельные трюмы и доставлялась в Европу на писчебумажные фабрики), высохшие, как мумии, ложа рек, и змеиный волнистый след, и одинокий колодец с десятком пальм, и оазис с тысячами пальм.
От оазиса к оазису плыл караван, как пирога полинезийцев плывет от атолла к атоллу. Мерой пространства были теперь не километры, а дневные перегоны, мерой времени – не часы, а восходы и заходы.
По ночам шевелились, шуршали, ползли полчища желтых и полчища темных скорпионов. Ни костер, ни ножи, ни палки не могли остановить их натиска. Вздрагивая, ежась, вскакивая и яростно топоча ногами, Елисеев отбивался от этих батальонов. А они ползли, шуршали, шевелились. Казалось, вся пустыня каждой своей песчинкой обратилась в желтых и темных скорпионов. Не было сна, не было роздыха, не было ровного, ясного, немерцающего света звезд, а был только этот гнетущий, этот устрашающий шорох…
Ночи сменялись ослепительными днями, и вновь баюкал Елисеева вековечный ритм караванного шествия.
Глиняная Уаргла рассыхалась под солнцем и плесневела в испарениях окрестных болот. Настоящая Уаргла, великий город Сахары, ведомый еще Геродоту, приказал долго жить. Река, струившаяся некогда подле города, сгинула в песках, оставив по себе память в задумчивых легендах и унылых топких озерцах.
Прежде в Уарглу хаживали богатые караваны из Судана, с берегов Нигера.
Теперь коммивояжеры везли сюда залежалую галантерею марсельских и тулонских лавок.
Глиняная Уаргла гибла: мечети осыпались, дома кособочились. Сахара грозила начисто поглотить ее, как некогда лава Везувия поглотила Помпею. Но люди жили в Уаргле, как живали они в Помпее, не думая о гневе вулкана. Люди растили детей и финиковые пальмы, ходили на базар и в мечеть, спорили и смеялись в узеньких улочках-коридорчиках, и зажиточный араб задирал нос перед бедняком, и все угрюмо подчинялись чужеземцу-правителю.
Самих же французов было немного: они обосновались за городом, в пышнейших фруктовых садах и виноградниках, пред которыми меркли Шампань и Анжу. Один из таких колонистов, некий господин Албаньель, прослышав о приезжих, зашел в грязный караван-сарай и был столь любезен, что пригласил Елисеева под свой кров.
Клод Альбаньель, господин лет шестидесяти, умеренно упитанный, чистюля с аккуратно подстриженной бородкой и густыми, не очень поседевшими волосами, являл тип человека, довольного «самим собой, своим обедом и женой». Тридцать с лишним лет назад студент Клод мечтал о славе романиста и, сидя с приятелями в кабачке на бульваре Сен-Мишель, стучал кулаком по столу, суля свернуть шею новоявленному императору Наполеону III и всем его присным. За эти свои посулы студент Клод, как и многие его собутыльники, поплатился высылкой в Алжир. Некоторое время он хранил верность заветам Робеспьера. Потом сообразил, что заветами сыт не будешь, и пустился в спекуляции. Дела у него шли не очень-то удачливо, но все же Клод сколотил круглый капиталец. Приобретя некоторый коммерческий опыт и блондинку Лауру, прошлое которой было не совсем ясно, он забрался в далекую Уарглу.
Именуя себя «пионером культуры», Альбаньель обстроился, обжился, пустил, что называется, корни, а блондинка Лаура подарила ему дочь. Как раз накануне приезда Елисеева ей исполнилось двадцать.
То ли заботы о подходящей партии для нежно любимой Эжени, то ли любопытство, а может, и то и другое привели Альбаньеля в караван-сарай к Елисееву.
Как бы там ни было, но Елисеев вполне оценил уют просторного дома Альбаньеля, стол, сервированный на террасе, где был слышен перезвон ручья и пахло олеандрами и жасмином.
Нельзя сказать, чтобы он остался совсем равнодушен и к Эжени. Девица не была дурнушкой: красивые волосы, унаследованные от матери, и шустрые глазки, точь-в-точь как у самого Альбаньеля.
Коротко говоря, наш доктор премило убил вечер. Он болтал о том о сем и прилежно отдавал должное кулинарному искусству мадам Лауры. А потом он с наслаждением растянулся на свежих простынях в отведенной для него комнате.
На другой день затеяли верховую прогулку. Эжени оделась амазонкой; ей хотелось выглядеть наездницей Булонского леса, о которых она вычитала у Альфонса Карра и Жюля Жанена – давно позабытых во Франции сочинителей. Мадам для пущей авантажности покрылась неимоверно широкополой шляпой из пальмовых листьев. Месье Альбаньель был в костюме жокея. Взглянув на дам, Елисеев не без труда подавил усмешку: вспомнилась городничиха и ее дочь из «Ревизора».
Для начала доктору была показана вотчина. У «пионера культуры» невольников не было. А вот эти работники? Оказывается, если бы не месье Альбаньель, они околели бы с голоду.
Покинув владения доброго семейства – а владения эти, помимо всего прочего, были показаны доктору и для того, чтобы он имел представление о приданом Эжени, – кавалькада устремилась дальше.
Проехав верст шесть пальмовым лесом, всадники выбрались на рубеж оазиса. Лошади встали, как на краю бездны.
Пустыня лежала рыжая, гневно горячая. Оттуда, из кристальной дали, валом накатывал густой раскаленный воздух.
Елисеева так измучили «скорпионовы ночи», что его уже не трогала магия пространств и воздуха пустыни. Но чуть передохнув, он вновь ощутил таинственное притяжение Сахары. И, позабыв о своих спутниках, весь охваченный нетерпением, завороженно глядел на пустыню… Уаргла – последний французский пункт в Сахаре. Уаргла – ворота великой Сахары. И грош ему будет цена, если он не выйдет за эти ворота…
– Что с вами, месье доктор? – рассмеялась Эжени. – У вас такой вид, точно вы влюблены. – И она опять рассмеялась.
– Влюблен, – отвечал Елисеев совершенно серьезно.
– О-о-о! – протянула мадам Альбаньель.
– О! – произнес месье Альбаньель.
А мадемуазель опустила короткие реснички.
«Какой пылкий молодой человек», – со вздохом подумала мадам. «Однако он скор», – с некоторым беспокойством подумал месье. «Но зачем же здесь?» – с легкой досадой подумала мадемуазель: согласно рецептам Карра и Жанена влюбленный сперва признается наедине с возлюбленной.
Несколько затянувшееся молчание удивило Елисеева. Посмотрев на Эжени – ее лошадь стояла вровень с его лошадью, – Елисеев вспыхнул. Черт возьми, да они вот что… Доктор почувствовал ужасную неловкость. Объясниться? А, глупости… Объясниться все-таки следовало не мешкая, потому что мадам Альбаньель, доверительно тронув его кончиком хлыстика, сказала с ласковой задумчивостью:
– Мой милый, у нас есть еще время поговорить обо всем.
– Да нет, вы только взгляните, – решительно начал Елисеев, – вы только взгляните. – И он протянул руку в сторону Сахары. – Так и влечет остаться один на один с этим безмолвием… – Доктор воодушевился, он не желал замечать гримаску мадемуазель Эжени. – Но, господа, пустыню только тот поймет, кто увидит ее ночью, – говорил Елисеев, радуясь своему красноречию. – Да-а, лунной ночью, когда вся она полнится серебристой голубизною, когда звезды горят как планеты – не мерцая, и все это в молчании, которое, право, действует сильнее говора волн. Ну как же не почувствовать себя влюбленным?! Только там сознаешь правоту и мудрость древних египтян. С пустыней отождествляли они божество всеобъемлющего пространства и божество всепоглощающего времени. – И он обратился к Эжени, точно у нее одной надеялся найти полное понимание: – Помните у Леконта де Лилля? Как это?.. Вы не подскажете, мадемуазель?
Мадемуазель дернула плечиком: нет, она не помнит никаких стихов, и вообще она не терпит этого Леконта де Лилля.
– Поедемте, господа. Я боюсь мигрени. – И мадам Лаура повернула лошадь.
После обеда, сидя вдвоем с хозяином в удобных креслах и закурив сигару, Елисеев сказал, что его самое пылкое желание – проникнуть подалее в Сахару, хотя бы за несколько переходов от Уарглы, а при счастливом случае, так и в Гадамес.
– В Гадамес?! – воскликнул Альбаньель. – Полноте шутить, доктор!
Елисеев отвечал, что не шутит.
– Да вы знаете, что случается на пути в Гадамес?
Елисеев отвечал, что знает, отлично знает.
– Нет, вы ничего не знаете!
Альбаньель вскочил с кресла, заходил по террасе и, размахивая сигарой, зажатой меж пальцев, принялся живописать, как кочевники-туареги несколько лет назад расправились с отрядом полковника Поля Флаттерса и как изрубили на куски трех французских миссионеров.
– Теперь вам ясно? – заключил Альбаньель, взмахнув рукой, и дым его сигары оставил в воздухе сабельный след.
Елисеев подождал, пока хозяин уселся в кресло.
– Поверьте, месье, я тронут вашей заботливостью. Право, тронут. Но я вовсе не кидаюсь очертя голову в авантюру. Некоторые соображения… Да, вот вы говорите о злосчастном полковнике Флаттерсе. Совсем другое дело, месье. Ведь полковник шел с разведочной миссией, и туареги могли видеть в ней (между нами, не без основания, не правда ли?)… туареги могли видеть в ней угрозу своей свободе, своей независимости. А она им, разумеется, дорога. А я? Я, месье, странствую как географ, как врачеватель, как москов. И в одиночку. У меня только аптечка…
– Аптечка… – пробормотал Альбаньель. – Плевать они хотели на вашу аптечку, сударь. Укокошат, и все тут.
– Позвольте не согласиться. Вы же знаете, молва быстрее телеграфа. И я убедился в этом здесь, в Уаргле. Мы еще только подходили к вашему прелестному оазису, а меня уже окружили жители. Они приветствовали доктора и просили медицинской помощи.
– Но, сударь, здесь вам покровительствует Франция!
Елисеев улыбнулся на это горделивое восклицание и продолжал свои доказательства, из которых выходило, что путешествие в Гадамес (при наличии попутного каравана, конечно) будет хотя и нелегким, но успешным.
В конце концов Альбаньель нехотя согласился разослать своих слуг по караван-сараям Уарглы. Пусть поищут, нет ли кого-нибудь из Гадамеса.
К вечеру гонцы стали приходить один за другим. И все с неутешительными вестями. Елисеев приуныл и затворился в комнате с каким-то дурацким романом, взятым у мадемуазель Эжени. Перед ужином хозяин заглянул к нему.
– Не знаю, к добру или к худу, но… нашелся.
Елисеев отбросил книгу.
– Кто такой? – И весело отмахнулся: – Впрочем, его имя мне ничего не скажет.
– Да, вам оно ничего не скажете Но я свидетель – почтенный старик.
– Как мне теперь быть, месье?
Альбаньель улыбнулся его нетерпению.
– Вам? Да никак. Я пошлю за ним и сам столкуюсь.
– Не знаю, как и благодарить…
– Благодарить будете небо, коли вернетесь подобру-поздорову.
– О месье, надо верить в судьбу, – отшутился Елисеев.
А вечером пришел старик, житель далекого сахарского оазиса Гадамеса. Он приехал в Уарглу по каким-то делам и завтра же отправлялся обратно. Старика звали Ибн Салах.
7
Серебробородый голубоглазый старец с тонким, чуть горбатым носом и прекрасным высоким лбом вежливо слушал месье Альбаньеля.
Альбаньель взялся за переговоры рьяно. Он и радел о русском, денежные средства которого были невелики, и ему доставляла удовольствие сделка сама по себе. Альбаньель приготовился торговаться хоть до ночи и был сбит с толку, когда Ибн Салах, не размышляя, принял плату, назначенную «благородным франком» за доставку путешественника в Гадамес. Альбаньель был озадачен сговорчивостью араба. Уж не хочет ли старикан завести молодого человека в объятия туарегов?
– Господин, – усмехнулся Ибн Салах, видимо догадавшись, о чем думает «благородный франк», – господин, я стар для коварства. Аллах не прощает лжи. Я молю бога, чтобы доктор живым и здоровым приехал ко мне в Гадамес. В доме моем печаль, господин. В доме моем два сына, прекрасные, как пальмы, но они тяжко больны. И я буду беречь моего гостя, как воду.
– А! – вырвалось у Альбаньеля. – Хорошо, хорошо… – Он понял, что мог бы предложить старичку еще меньше. – Хорошо, я тебе верю. А господин доктор, несомненно, исцелит твоих сыновей. Он – великий доктор.
Ибн Салах поднял на Елисеева улыбающиеся глаза. Елисееву показалось, что он где-то видел старца, когда-то знал его… Но припоминать было некогда, потому что Альбаньель уже расспрашивал Ибн Салаха, много ли в караване людей и животных, сколько дней возьмет переход в Гадамес, да как, по его мнению, отнесутся к чужеземцу туареги.
Ибн Салах отвечал, что людей с ним двое, что верблюдов шесть, что в Гадамес они придут за полмесяца в что среди туарегов у старого Ибн Салаха найдутся друзья.
Караван выступил утром. На радостях Елисеев неоднократно приложился к ручке мадам Лауры и наговорил комплиментов мадемузель Эжени.
А в полдень путник уже изнывал, как каторжник. Страда началась. И завязалась у Елисеева тягостная распря с солнцем: кто кого. Не спасал ни берберский головной убор, ни советы Нгами, слуги Ибн Салаха, скуластого толстогубого парня, выросшего в Нигерии, тысячи за две верст от Гадамеса. Да и что могло помочь, когда солнце работало как локомотив? В висках у Елисеева будто поршень стучал, глаза слепило белым сиянием солончаков, желтым пламенем дюн. И таких вот, впадая в уныние, думал Елисеев, таких дней будет пятнадцать, шестнадцать, семнадцать…
В четыре пополудни Ибн Салах велел разбить шатер. Нгами со вторым слугой Юсуфом принялись за дело. Шатер был черный с белыми полосами. Внутри настелили красно-черно-желтый ковер с вышитыми шелком павлинами и «древом жизни». И Елисеев свалился на это «древо» в полуобмороке. Ибн Салах почти силком заставил его проглотить чашку крепкого кофе. Нгами принес влажную тряпку – великая милость в пустыне, – обтер Елисееву лицо, грудь.
В шесть вечера караван опять пустился на юго-восток. Ехали допоздна – голубые в голубом, почти незримые, плыли рядом тени – густые, как деготь.
Караванная тропа то спускалась в котловины, то сливалась с ложем давно умершей реки, то огибала высокие дюны, напоминавшие издали изображение лунных кратеров в книге Фламмариона.
– Тебе не скучно? – Тень всадника легла рядом с тенью Елисеева и его верблюда.
– Скучно? – рассеянно отозвался Елисеев. – Какая ж скука в такую ночь?
– Ты прав, – продолжал Ибн Салах, – в такую ночь скучают лишь глупцы. И ведь это не ночь, не тьма. Это только отсутствие солнца. Звезды и луна заменяют его, и морем света не перестает быть Сахара. – Он помолчал. Их тени сдвинулись, означив на серебристо-голубом песке многоногое и четырехголовое чудище.
Ибн Салах негромко окликнул Елисеева. Тот не ответил. Он плыл в этом море света, на звезды и тени не глядя, а попросту существуя под этим небом, на этой земле. А Ибн Салах, словно бы для себя одного, с той терпеливой искусностью, которая досталась от предков, резчиков по платановому дереву, сказывал о своих странствиях в земли черных людей, где растут злаки и хлопок, о великой реке Нигер, о славном городе Тимбукту… Он говорил и о последнем дальнем своем странствии из Гадамеса в благословенную Мекку. Елисеевым исподволь завладела напевная речь старика. Елисеев слушал все внимательнее. А Ибн Салах вил свой сказ о корабле с огненной машиной и о том, что даже люди пустыни, где камни вопиют от зноя, где жалобным протяжным гулом и звоном, как египетские сосуды из горного хрусталя, поет дрин, даже они, люди пустыни, падают под тамошним солнцем, точно овцы под ножом мясника, и что так было с ним, Ибн Салахом из Гадамеса, но бог послал спасение в облике путника из далекой неведомой страны «Москов»…
– Тебя зовут Ибн Салах? – У Елисеева был такой вид, будто он впервые услышал имя старика. – Ибн Салах из Гадамеса? – И разом все вспомнилось: палуба «Принцессы Фатимы», изнывающие паломники и вот этот старик («чистейший арабский тип»), которого он велел перенести в свою каюту. – Так это ты, Ибн Салах?
– Вот уже семьдесят лет, как меня зовут Ибн Салах. А тебя я признал, как только увидел в доме франка.
– Но… но отчего же молчал?
– Старый Ибн Салах никогда не делает того, чего не хочет тот, кого он считает своим другом. Я думал, ты меня тоже признал, но не хочешь подавать виду при этом франке. А потом, когда мы выступили в путь, я ждал, ждал и наконец понял, что ты забыл меня, ибо встретил за это время многих арабов.
– Вот так штука! – протянул Елисеев по-русски и даже руками развел. И прибавил по-арабски: – Здравствуй, Ибн Салах, здравствуй, почтенный хаджи. Рад тебе, очень рад!
– И я тебе рад. Ты будешь в Гадамесе дорогим гостем. Тот франк пугал тебя? Скажи по совести?
– Пугал, это верно. Да ведь и не зря?
– Ты будешь гостем пустыни. Ни один волос не упадет с твоей головы. Это говорю тебе я, старый Ибн Салах, который прожил в пустыне долгую и честную жизнь. Лживый франк! Кто посмеет обидеть в пустыне странствующего? В пустыне убивают франков, ибо они несут нам неволю и свою поганую веру… – Он поднял руку и громко позвал Юсуфа. – Видишь колодец? Там будет ночлег. Поспеши и набери воды.
Елисеев не мог объяснить, почему последующие переходы пустыней дались ему куда легче, чем тот, первый, когда он обессилел уже к полудню. Быть может, двухдневная нега в доме Альбаньелей подействовала расслабляюще? А может, потребовалось время, чтобы войти в походную колею? Или после ночной беседы с Ибн Салахом он уверовал в свою безопасность? Как бы там ни было, но теперь он не чувствовал себя при последнем издыхании. Напротив, мог даже предаться честолюбивым мыслям.
И впрямь: ведь он, доктор Елисеев, первым из всех своих многомиллионных соотечественников проник в глубь Сахары. Первым!.. А в первенстве всегда есть прелесть. Вернувшись в Россию, он явится на Чернышеву площадь, ту, что позади Александрийского театра и впереди лабазов Апраксина двора, промарширует по чистым кафельным плитам входной залы, мимо щитов с этнографическими экспонатами, мимо бюстов знаменитых мужей географии, мимо публики, шепчущей: «Вот он… вот он… Елисеев», и войдет в сводчатую залу с рядами кресел, с тяжелой бронзовой люстрой и высокой дубовой кафедрой. И посмотрит в залу, набитую публикой, как смотрел Василий Васильевич Юнкер. И положит на кафедру рукопись. Для нее уже придумано название: «Антропологическая экскурсия в Сахару через Триполи, Тунис и Алжир». Название точное. Правда, несколько скромное. Какая же это экскурсия? Настоящее путешествие. Нет, пусть так и будет: экскурсия; скромность украшает… Да, ну так вот… Он положит на кафедру рукопись, а старый служитель в усах и подусниках, который знавал некоторых учредителей общества, таких, как Даль Владимир Иванович и барон Врангель, не говоря уж об адмирале Литке, умершем три года назад, этот служитель поставит на кафедру стакан крепкого чая. Настоящего китайского чая… Настоящего чая…
И тут мысли доктора приняли в теперешних его обстоятельствах естественный оборот. Елисеев уже не думал о своем докладе на заседании Русского географического общества, а думал об ароматном, изумительном, свежезаваренном чае, об этом непревзойденном напитке с таким потрясающим запахом, уютным и усладительным, таким… ну, одним словом, таким чайным… И ему кажется, что он вдыхает этот запах… Ах, господи!.. Да-с, чай… А не желаете ли, милостивый государь, «живой водицы» из вонючего бурдюка? Впрочем, и такой, кажись, нет… Однако что такое? Сиуфы, эти громоздкие продолговатые дюны, будто расступаются?
– Айн-Тайба, – говорит Ибн Салах.
Со вчерашнего дня караван томился ожиданием небольшого озера с топкими тростниковыми берегами. Дюны скрывали озеро, как драгоценность. Вот оно сверкает и переливается, точно алмаз Великих Моголов. И верблюды мычат, вытягивая шеи, а лица у Нгами и Юсуфа, у Ибн Салаха и Елисеева делаются сладостными.
Озерцо напоило караван. Озерцо наполнило кожаные мешки водой. Но Ибн Салах не снялся с привала, он сказал: «Дневка». И это была благодать. Водная рябь бодрит в пустыне, как проблеск огня в заполярной тьме. Можно растянуться под пальмой, можно внимать шороху тростников, возне пернатых, вскрику и всплеску озерной суеты, которая не внушает, как пустыня, высоких и важных мыслей о «всепоглощающем времени и всеобъемлющем пространстве», но так и сыплет, так и брызжет беспечной радостью…
– Нгами!
– Да, господин!
И они уходят.
Вечное огорчение: изо всех странствий Елисеев привозит небогатые коллекции. И только потому, что никогда не может нанять больше одной лошади, больше одного верблюда, никогда не может нанять носильщиков. Но растения пустыни он соберет. И передаст ботаникам в Петербурге.
Взобравшись на дюну, видишь далеко. Днем пустыня – не лунный пейзаж. Она как молоко, жирное, желтоватое, как закипающее молоко в пузырях, готовое вот-вот убежать. И на этой неверной, на этой коварной, прокаленной земле, которую и землей-то назвать язык медлит, с терпеливым мужеством бедствуют пасынки и падчерицы пышной капризницы по имени Флора. Они похожи друг на друга, как люди, обойденные судьбой: внешне сухие, колючие. И, как люди, обиженные, затворившиеся в себе, не тянутся они ввысь, не разбрасываются вширь, а уходят в глубину, чтобы там, в темноте, схоронить, сберечь, удержать всю свою затаенную нежность и любовь к жизни.
За озерцом Айн-Тайба, в котловинке, среди блекло-золотистых дюн, отбрасывающих фиолетовые тени, стояли, не шелохнув, заросли дрина. «Я иссох, как трава, и дни мои как уклоняющаяся тень…» Любила матушка читывать вслух псалмы, они трогали ее до слез; Елисееву почему-то особенно запало в душу: «Я иссох, как трава, и дни мои как уклоняющаяся тень…» И теперь эта скорбная жалоба вспомнилась ему, и он подумал, что исторг ее тот, кто видел заросли дрина, эти пустые, выбеленные солнцем стебли.








