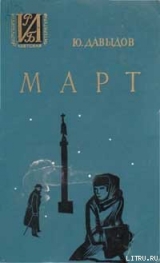
Текст книги "Март"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Глава 9 СУНДУК С ДИНАМИТОМ
Камер-лакеи, раздирая рты зевотой, лениво смахивали пыль. Полотеры с карминными пятками лунатически поплясывали на узорчатом паркете. У караульных гвардейцев слипались веки. В Зимнем дворце одни уже проснулись, другие досыпали предутренние сладостные сны.
Император только что отпустил градоначальника. Вопреки правилам, тот примчал во дворец и самолично, победительно сияя всеми морщинами, доложил его величеству о ночном происшествии в Саперном переулке. Александр обрадовался, поздравил и поблагодарил генерала.
Но теперь, сидя в кресле в своем малом кабинете, у походной койки, на которой он изредка спал, подражая спартанскому обыкновению покойного родителя, теперь, сидя в кресле и рассеянно поигрывая витым шнурком халата, Александр не радовался. Полиции помог случай. Чистый случай, и только. Как тогда, на Московско-Курской дороге. Полиции помог случай. А Третье отделение опять оплошало. В Саперном схвачены не коноводы. Вожди, закоперщики на воле, тут где-то, совсем рядом, неуловимые и вездесущие.
В малом кабинете было хорошо натоплено, но император вдруг ощутил холодное дуновение. Он оглянулся, хотя знал, что сквозняка нет. Иное было: холодное дуновение близкой и страшной опасности. Как некогда в заповедных новгородских лесах.
Он ездил туда со свитой, с балетными дивами, но на медведя ходил один. Лез по валежникам, перебирался болотами. Темный бор высокомерно гудел над ним. И вот тогда веяло зябким ощущением близкой опасности. Идешь и знаешь – где-то тут, за той ли корягою, в тех ли кустах, где-то тут притаился «хозяин»… О, без шуток, без хвастовства, Александр был отменным стрелком, ходил на медведей с пистолетом в руке и с запасным за поясом. Случалось, подходил, как дуэлянт к барьеру, и бил без промашки настоящего матерого зверя. Не то что прыщавый принц, который гостил однажды в Петергофе и подстрелил смиренного Потапыча, «сморгонского студента», как зовут егеря медведей, обученных в Сморгони. Нет, он-то бил настоящего матерого зверя.
За окнами тек свинец петербургского утра. Александр позвонил камердинеру. Пора было на прогулку.
Он вышел из Собственного подъезда. Нева ширилась, недвижно-серая. С наличников дворцовых окон щерились львиные морды. Александр – шинель с бобровым воротником, военная фуражка – шел тусклой, в наледях набережной.
Впереди мельтешил начальник охраны. Именно в этот час, час традиционного моциона, капитан Кох раздражал Александра. Дед – Павел Первый, и дядя – Александр Первый, и отец – Николай Первый – все они прогуливались запросто. Да и он сам некогда расхаживал без опаски, катался в открытой, на одного седока, модной коляске, что звались «эгоистками», и отвечал на поклоны легким прикосновением двух пальцев к козырьку фуражки с красным околышем. Так было, так не может быть. И вот впереди мельтешит Кох, а позади проворно перебирает кривыми кавалерийскими ногами ординарец Кузьма.
Во дворец император вернулся через Иорданский подъезд. Поднялся, одолевая одышку, по белой с золотом Главной лестнице, праздничной даже в ненастные утра.
Завтракая, он подумал, что шеф жандармов, апоплексический толстяк Дрентельн, уже прослышал о ночном бое в Саперном, о разгроме осиного гнезда и теперь дожидается в приемной с тем замкнутым и обиженным выражением на широком, кирпичного цвета лице с тяжелой челюстью, какое у него бывает при служебных неудачах. Что и говорить, градоначальник мазнул-таки по губам Третье отделение… На пороге кабинета император едва не столкнулся с мужиком в кожаном переднике. Мужик бухнулся на колени, будто его дубиной огрели.
– Кто такой? – спросил Александр, косясь на ординарца.
– Столяр, ваше величество, – виновато пояснил ординарец. – Замешкались, не поспели увесть, ваше величество.
– Встань, встань, братец, – кивнул император.
Он улыбнулся. Хоть и одними губами, коротко, рефлекторно, но улыбнулся. Он всегда хотел и почти всегда умел казаться un charmeur44
Обаятельным (франц.)
[Закрыть].
* * *
Краснодеревец уже несколько месяцев служил в Зимнем. Десятки раз, исполнив очередную тонкую поделку и возвращаясь в свою полуподвальную клетушку, он дивился мебелям и гобеленам, картинам и вазам, каминным часам, оружию, этим колоннам, одетым яшмою, малахитом, мрамором, этим узорчатым паркетным настилам. Пожалуй, и не сама по себе роскошь тысячи с лишком залов, покоев и комнат поражала краснодеревца, а то, как всё здесь было искусно сработано, съединено в нечто цельное, плавно сочлененное. И еще его поражала та прорва ручного труда, терпения и сметки и еще чего-то, чему названия он не знал, вложенного неизвестными ему мастерами в эти вещи. А иногда столяр думал, что было бы справедливо, «по-человечеству» пустить здешнее несметное богатство с молотка, бо-ольшие миллионы выручить да и поделить промеж бедняков.
Нынче, впрочем, направляясь к себе, краснодеревец будто ничего не примечал, ничем не любовался. Нынче поразило его совсем иное: никогда еще так близко, можно сказать, нос к носу не встречался он с царем. Видел царя на картинках, видел, живя во дворце, издали, в кругу важных господ, однажды даже видел с какой-то павой (слуги шептались, что она-то и есть настоящая хозяйка, а не хворая, дышащая на ладан царица), словом, видывал царя, но не так, как минуту назад.
Теперь, переводя дух, краснодеревец пытался вспомнить лицо императора, его улыбку; столяр точно помнил, что государь улыбнулся, однако ничегошеньки вспомнить не мог, кроме своего постыдного страха. Вот прямо-таки сплющило, и все тут. «Хорошо еще, на колена-то догадался», – думал столяр, не признаваясь себе, что вовсе не догадка, а именно этот постыдный страх бросил его на пол.
Ему вдруг захотелось выскочить вон из царских чертогов, вновь очутиться середь своих, там, где все привычно, все знакомо. Но он знал, что не убежит. Нет, не убежит, а будет ждать, ждать, ждать.
Краснодеревец ютился в подвале обок с несколькими мастеровыми и стариком жандармом. Жилось дворцовой прислуге недурно: харчилось сытно, воровалось сподручно, и не токмо самим служителям, а и городским касаткам-полюбовницам перепадали знатные гостинцы. Тащили, не ленились, но столяр робел.
– Боязно, – окал. – Негоже.
Над ним потешались:
– Дура голова! Само присмаливается!
Пентюх из Олонецкой губернии был мишенью благодушных насмешек лакеев, истопников, полотеров, кучеров – словом, многих из той челяди, что угнездилась в клетушках и углах огромного здания.
– Нет, малый, – трунили они, – полировать ты действительно могишь так, что и блоха подскользнется, а вот обращения и корня жисти ну то есть вовсе не знаешь.
– Мы что ж… деревня, – вздыхал столяр.
Потешался над ним и сосед жандарм. Но малый ему очень нравился: руки в работе не слевшат, сам непьющий, смирный. Чем не пара дочке? А дочка-то заневестилась. И старик, ухмыляясь, учил будущего зятька столичным «манирам».
– Эх, дружок, – журил он столяра после ночного внезапного обыска, который был вызван арестом революциониста с планом Зимнего, – ну чего ж ты стоишь, скажем, насупротив господина полковника и затылок пятерней скребешь, ровно гусар кобылу? Хе-хе… А зачем? Зачем ты эдак? Нельзя, дружок, нужно по-благородному. Вот так. – Он тянулся во фрунт, почтительно-преданный воображаемому господину полковнику.
– Ну, где жа нам, – мямлил столяр.
В сводчатой полутемной комнатенке столяр застал сейчас своего пестуна-жандарма и закадыку его, Егора Антоновича, украшенного камер-лакейской ливреей вот уж, почитай, лет с тридцать. Ветшане баловались померанцевой, закусывали вчерашней кулебякой и вели, судя по их лбам, капитальную беседу. «Зятька» снисходительно-любезно пригласили к столу, разговор продолжался.
– Значит, пофатали?
– Всех как есть, – отвечал камер-лакей, моргая красными веками. – Однова не поспели: стрельнул в башку сам себе, шельмец. – Лакей задумчиво облизал губы. – Вот хоть бы раз поглядеть, какой он из себя есть, этот злодей. Хоть бы на улице встренуть, что ли…
– Дак почем его узнаешь? Нешто вывеска писана? – вытянул шею столяр.
– «Пи-сана»! – передразнил Егор Антонович. – Вот оно сразу и видно – лапотник. Эхе-хе… – Он закачал головой, как китайский болванчик, и воодушевился, зашелестел: – Его, брат, сейчас угадаешь. Он, брат, идет, а ты сторонись: того гляди, пырнет. Ничего не боится, черт, глядит высоко, глаз у пего отчаянный. Нет, брат, его сейчас угадаешь, чего там!
Столяр как-то поскучнел, опершись на ладонь, глядел на стариков. А те долго еще прикладывались к померанцевой, беседуя о крамольниках, не верующих ни в сон, ни в чох, и на лицах стариков подрагивало таинственное и наивное выражение, как на посиделках, когда сказывают про домовых, про леших.
Вечерами краснодеревец надевал новый пиджак и новое пальто (справил на сторублевку, полученную к рождеству в награду за отменное усердие), прятал в карман казенный жетон – без этой медяшки не выпустят и не впустят часовые – и отправлялся в город.
На углу Фонтанки и Аничкова моста входил он в некий дом, звонил в некую дверь, ненадолго задерживался у некоего плечистого бородача, потом, прогулявшись по Невскому, вертался восвояси. Часовые наскоро похлопывали по его карманам, по бокам: не несет ли, спаси бог, оружия? Нет, оружием он не баловался, но на груди у него висел полотняный кисет.
В дворцовые столяры попал Халтурин ненароком. Прошлым летом услышал – ищут для Зимнего первейшего краснодеревца. Товарищи шутили: «Валяй, Степа, мастер ты – лучшего не надо, да заодно и царя порешишь…» Осенью, когда уж Степан связался с «Народной волей», призадумался он всерьез. Исполнительный комитет одобрил его план, ссудил паспортом на имя крестьянина Олонецкой губернии, и поспешил Халтурин наниматься. Сделали ему пробу, подивились артистизму золотых его рук да и зачислили в штат.
Все будто шло на лад. Халтурин брал динамит у Квятковского, ссыпал в сундучок. И вдруг беда – арест Квятковского. Заварились в Зимнем ночные обыски, выставили усиленные караулы. Но Степан, «лапотник», «деревенщина», все таскал да таскал на груди полотняный кисет с динамитом. Получал он взрывчатку у Желябова, а для воспламенения припас трубки, начиненные особым составом, который мог гореть без доступа воздуха.
Кажется, хоть сейчас в дело. А тут незадача: то в полуподвале никого, но царь не обедает в малой столовой; то царь кушает, но в полуподвале или жандарм, или мастеровые.
Ежевечерне, как зажгут в Зимнем хитрого устройства газовые рожки, Степан в своем новехоньком пальто долой из дворца. На углу Невского поджидал его Желябов. В черном полушубке, в сапогах, в картузе, похожий на прасола-торговца, он надвигался из вечерней метели. Халтурин угрюмо ронял:
– Нельзя было…
* * *
В начале февраля прилетела депеша о визите в Санкт-Петербург принца Гессен-Дармштадтского и его сына, князя Болгарского. А во вторник, пятого, уже «имел быть» в их честь парадный обед.
Камер-лакеи в ливреях с позолоченными галунами, в мягких козловых полусапожках, седые и благообразные, накрыли стол. В свете газа, многоцветно раздробленного абажурами уральского хрусталя, предстал огромный натюрморт. И камер-лакеи, отступив, озирали его художнически.
В овальных, старинного фарфора блюдах покоились осетры. Янтарный жир источали астраханские тешки. Икра отливала матовой влажностью. Омары подвернули клешни. И алыми пятнами проступала оранжерейная земляника.
Убранство довершали живые букетики почти японского изящества.
Второй стол был накрыт чуть поодаль. Он напоминал Марсово поле в миниатюре. Вместо войск на нем повзводно выстроились мадера и тенериф, медок, лафит, люпель, малага. Артиллерию представляла гаубичная батарея разнообразных водок.
* * *
Лежа на койке, Халтурин, не смигивая, смотрел в госпитальную белизну сводчатого потолка. Сверху, из караульной, доносился топот. Еще выше, как раз над караульной, – малая царская столовая, где с минуты на минуту «имеет быть» парадный обед.
Старик жандарм дежурил, соседей-мастеровых как сдуло. Час пробил: Халтурин один… Он слушал, как в караульной топают солдаты. Никогда прежде столь явственно не различал он этот топот. Ну, понятно: одни уходят на посты, другие амуницию чистят, курят, отдыхают. Там, в караульной, всегда люди. «Ты убьешь их, – подумал он, – непременно убьешь этих-то, ни в чем не повинных. Ну да, убьешь, как они убили бы тебя, и ничего тут не переиначишь». И все же он слушал, напряженно и со страхом слушал эти шаги там, в караульной. И вдруг поймал себя на мысли, что кто-нибудь, глядишь, нечаянно завернет сюда, в клетушку, в полуподвал, где сундук полон динамита, а тогда… «Нет, – подумал он, внезапно озлобляясь и не сознавая, на кого он злобится, – нет, тут уж все сошлось, ничего не переиначишь».
Он спустил ноги с койки и, ощущая странную тяжесть в ступнях, стал натягивать сапоги, а сам думал об этой странной тяжести и о том, что пальто его и шапка в углу.
Надев пальто и шапку, проверив, на месте ль медный жетон, Степан нагнулся к сундуку, чиркнул спичкой и поджег шнур. Голубоватый огонек вильнул в трубку с горючей смесью.
Степан опять ощутил странную, пугающую тяжесть, какую-то отечность в ногах. Не двигаясь, смотрел он на сундук с динамитом. Ему почудилось шипение, потрескивание. «Как сальная свечка», – мелькнуло в голове. Он услышал шаги в караульной, но теперь, ни о чем уж не думая, ни о ком не сожалея, бросился вон.
Глава 10 В КРЕПОСТИ
Император откинулся на шелковые подушки, отдаваясь скорому плавному ходу черно-синего экипажа на толстых гуттаперчевых шинах. Кучер Фрол погонял серых, в крупных яблоках лошадей. Ординарец Кузьма сидел рядом с Фролом. Позади рысила охрана.
Он приехал в Петропавловскую крепость. Остро, как царапаясь, шуршала снежная крупка. Высоко и блекло означалось чухонское солнце. Игольчатая, слабо синеющая тень собора прочеркивала наст. Комендант крепости барон Майдель спешил с рапортом. Александр, будто не заметив генерала, пошел в собор.
Неживая сумеречная тишь объяла Александра. Он оглядел усыпальницы. Прошлое империи стыло в мраморе. Тут будет и его могила. Есть что-то примиряющее со смертью, когда знаешь, где будет твоя могила. Александр опустился на колена. Ему надо было оправить бандаж, но он подумал, что этого не следует делать перед иконостасом, а следует сосредоточиться, собраться с мыслями.
Он не был твердо религиозен. Однако на людях, во время церковных служб умел проникнуться возвышенными, неотчетливыми чувствами. Нынче же он вправду испытывал потребность вознести горестную и благодарственную молитву царю царствующих. Ему хотелось молиться в одиночестве, при молчаливом и сумрачном соучастии почивших венценосных предков.
Еще сутки не минули, как провидение вновь исторгло его из разинутой пасти смерти. Он стоял у малой столовой, он медлил, поджидая замешкавшихся в коридоре гостей. Он стоял в двух шагах от белой, с золочеными инкрустациями двери. Старый камер-лакей, моргая истово и преданно, готовился нажать тяжелую бронзовую дверную ручку… И тут громовой удар швырнул императора на пол. Ему показалось, что он убит, что он летит в какую-то бездну, что у него оторваны ноги и выбита челюсть. (Он и теперь еще будто бы ощущал свою телесную искромсанность.) Картечью брызнули стекла. Газовые рожки задохнулись, пала тьма. В темноте трещали, обрушиваясь, балки… Ни тогда, ни сейчас Александр не мог определить, сколько прошло времени, прежде чем он что-либо сообразил… Потом иерихонски взвыли пожарные обозы, куда-то зачем-то поскакали фельдъегери, в Зимнем метались, кричали, плакали, а в городе чуть не грабежом брали лавки с припасами.
Провидение спасло. Еще раз спасло. Но что в этом спасении? Одно лишь благоволение свыше? Иль перст указующий: «Уступи!» О чем ему молить в огромном гулком соборе, где отпели великих самодержцев? Ах, он уж давно понял, что не принадлежит к великим, что бы там ни говорили о девятнадцатом февраля, о реформах! Великие повелевают судьбою. Он не повелевает судьбою. Но велик и тот, кто умеет вовремя расслышать голос рока, не так ли? Он не умеет. Когда-то, сдается, умел. Теперь нет.
Он не знал, о чем просить царя царствующих. Он знал лишь, за что благодарить царя царствующих. Но его молитва не была проникновенной: мешал перекосившийся бандаж и уже ломило колена холодом соборных плит.
В этом неумении «сконцентрироваться» Александр угадывал нечто большее, нежели недостаток религиозности. Он угадывал душевную дряблость. Он пошевелил губами, произнося какие-то слова, но ощущал смутную потребность в отмщении за собственное нравственное бессилие. И тут ему вдруг подумалось, что хорошо бы вот сейчас же совершить то, чего он вовсе не думал и не желал совершать, направляясь в Петропавловскую крепость.
Император вышел из собора. Конвойные казаки рывком вскочили в седла. Кучер Фрол грузно взобрался на козлы. Император, не взглянув ни на кого, уходил в другую сторону.
За Васильевскими воротами лежал заснеженный пустырь. За пустырем был ров с мостиком, стены Алексеевского равелина.
Подполковник, смотритель равелина, взял под козырек. В стариковских слезящихся глазах Александр заметил растерянность и недоумение. Александр обернулся, мановением бровей приказал Коху остановиться.
Отворилась калитка. Государь вошел в равелин вместе с комендантом и смотрителем.
То была крепость в крепости – одноэтажное приземистое строение треугольником. В середке треугольника был дворик с голыми деревцами.
Когда-то, при первом Александре, равелин находился в ведении военного губернатора. Николай подарил равелин Бенкендорфу, шефу жандармов, в придачу к Шлиссельбургу и Спасо-Евфимьевскому монастырю в Суздале. Николай поспевал повсюду: на войсковые смотры и дипломатические рауты, на любовные свидания с фрейлинами и маневры флота. Поспевал уследить и за полной изоляцией Алексеевского равелина. Когда управляющий Третьим отделением Дубельт заглянул однажды в равелин, Николай, узнав об этом, строжайше распек и Бенкендорфа и Дубельта: как смели? Как смели без его личного дозволения?!
Александр Второй был милостив: он разрешил пускать в равелин управляющего Третьим отделением. Правда, всякий раз с высочайшего согласия. Так же, как священника и крепостного медика.
Недавно Александру угодно было прочесть перечень лиц, содержавшихся в равелине с начала века. Исполняя его желание, чиновник Третьего отделения потрудился со тщанием: перерыл – «поднял», как говорят в канцеляриях, – множество жухлых бумаг и каллиграфическим почерком, изящество которого давно радовало императора, начертал список тех, кому довелось хлебать из оловянных мисок с меткой «А. Р.». В ровных столбцах значились декабристы – Бестужев Михайла и Пущин, Муравьев Никита и Муравьев-Апостол, Якушкин и Батеньков… Следующими были Буташевич-Петрашевский, Достоевский, Бакунин, Серно-Соловьевич, Чернышевский… И последним – некто без имени: «известный арестант».
К заключенным прежних времен Александр ничего не испытывал. Они давно получили свое полной мерою, да и почти все уж перемерли. Но «известный арестант»… О, тут было совсем другое. Этот представлялся ему олицетворением нынешних террористов, хотя этот и не закладывал мин. «Известный арестант» часто занимал его мысли. Александр старался вообразить муку заживо погребенного. Иной раз Александру казалось, что он и этот связаны незримыми нитями.
Вот уже семь лет изжил в равелине «известный арестант», или «нумер пятый», и семь лет, из месяца в месяц, император читал о нем рапорты коменданта крепости и Третьего отделения. Александр мог бы давно свести в могилу «нумера пятого», но Александр не желал его смерти. Другие пусть умирают на эшафоте, но не этот. Этот был его личной, неотторжимой собственностью, он приберегал «нумера пятого» с неизъяснимым, безотчетным упрямством.
Однако до сего дня Александр никогда не видел «нумера пятого». И только нынче, в соборе, стоя на коленях перед иконостасом с двадцатью девятью иконами, стоя на коленях рядом с тем местом, где погребут его самого, он решился взглянуть на «известного арестанта». Если бы не вчерашнее… Он и теперь еще ощущал подергивание лицевых мускулов и металлический привкус слепящего ужаса… Если бы не вчерашнее, он, быть может, и не пошел в Алексеевский равелин. Но после вчерашнего… После вчерашнего не мог не пойти. Почему? Отчего? Тут крылось что-то смутное, какой-то надрыв, – он не умел объяснить, хотя сейчас и почувствовал некоторую неловкость и что-то постыдное в своем внезапном решении.
Каменный коридор отозвался на его грузный шаг тревожным гулом.
– Пожалуйте сюда, ваше величество.
Ни комендант, ни смотритель не совались вперед, а, подскакивая бочком, указывали пальцем.
Александр приблизился к железной двери. Он один приблизился к двери, за которой был его «известный арестант». И вдруг Александр, пригнувшись, с подлым, проказливым, ему не свойственным передергом, подался всем своим крупным телом к двери и осторожно, точно боясь ожога, пальцем тронул задвижку «глазка».
Этот стоял посреди каземата. Небольшого росточка, с бородкой на бескровном лице. За спиной светлело окно с переплетом из толстых, дубовых брусьев. Дубовые брусья означались как распятие. Этот был распят.
И Александр получил то, чего жадно ждал: пронзительное чувство отмщения.
Когда император садился в экипаж, зимнее небо роняло тяжелозвонкий бой курантов.



