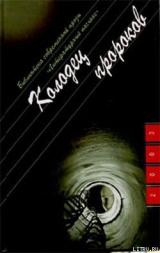
Текст книги "Колодец пророков"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Верите ли вы в Бога, Андрей Терентьевич? – поинтересовался глава миссии мормонов в России.
– Безусловно, – ответил Илларионов, – хотя, к сожалению, не могу утверждать, что неукоснительно соблюдаю все обряды и установления православной церкви.
– Как правило, – продолжил Джонсон-Джонсон, – к вере в детстве нас подвигают родители. Мне известно, что КПСС проводила политику официального атеизма. В этой связи, возможно, мой вопрос некорректен, но все же, верили ли в Бога ваши родители, господин Терентьев? Верил ли в Бога ваш отец? Можно ли считать, что ваша вера – продолжение веры ваших родителей, в частности, вашего отца, господин Терентьев?
Илларионов не сомневался, что их разговор пишется на видеопленку, но он был уверен, что вопросник окажется проще. Вопрос на возможное обладание информацией, на степень готовности делиться информацией, блокировка путей сокрытия информации, быстрота реакции, скорость вхождения в системный анализ и так называемая скорость постижения происходящего, то есть смысла, ощущение опасности, порог риска, наконец, определение цены. Ну и далее по схеме. Но Джонсон-Джонсон почти сразу задал вопрос на подсознание, что свидетельствовало о сложности и серьезности предстоящей игры. Илларионов засомневался, надо ли ему в этот омут?
Говорил ли он с отцом о Боге?
Конечно, говорил, но так и не сумел уяснить, верит отец или нет? Каждый раз, когда речь заходила о Боге, о вере, глаза отца становились яркими, лицо же бледнело, что являлось у него признаком глубочайшей тоски. Один разговор, однако, как гвоздь засел у Илларионова-младшего в памяти. «К нему можно относиться по-разному, – помнится, сказал отец, – но истоки его силы в том, что он все делал правильно». «Применительно к обстоятельствам иллюзиям своего времени?» – уточнил Илларионов-младший. «Применительно к тому, что понимается как бессмертная человеческая душа, – ответил отец, – следовательно, применительно к любым обстоятельствам и коллизиям, могущим возникнуть среди людей. Да вот беда, – добавил отец едва слышно, – никто после него не делал правильно».
– Полагаю, что моя вера – продолжение веры моего отца, – заверил мормона Илларионов, – хотя мне трудно ручаться, что моя вера стопроцентное продолжение его веры. Моего отца, видите ли, уже нет в живых, а вера, согласитесь, вещь достаточно личная, если не сказать интимная.
– И последний вопрос, господин Терентьев, – не стал соболезновать глава миссии мормонов в России, – как вы относитесь к учению мормонов? Не противоречит ли вашим убеждениям сотрудничество с нами? Согласны ли вы принимать от нас деньги за свой труд?
– Всякая сущность, как известно, отбрасывает тень, – вздохнул Илларионов.
– Поясните, пожалуйста, свою мысль, – попросил Джонсон-Джонсон.
– Химия – алхимия, – охотно пояснил Илларионов. – Футурология как научное предвидение – гадание… по картам Руби, медицина – знахарство, лоно церкви – секты. Тем не менее я допускаю, что для многих заблудших путь к истине пролегает через тень, точнее, преодоление тени, в том числе и через учение мормонов. Как человек и гражданин, господин Джонсон-Джонсон, я вынужден сосуществовать с, увы, учащающимися и набирающими силу отступлениями от истины, но только, естественно, в том случае, если в них не содержится изначального, то есть умышленного зла.
– В таком случае, – любезно закончил беседу Джонсон-Джонсон, – я жду вас завтра в двенадцать для подписания деловых бумаг. Вас устроит статус научного руководителя международного издательского, скажем так, проекта? Если Библия как гиперроман для Интернета состоится, господин Терентьев, у вас как у автора идеи есть все шансы сделаться очень обеспеченным человеком.
Деньги сами тебя найдут, вспомнил Илларионов слова отца. Неужели он имел в виду эти деньги?
– Простите, господин Джонсон-Джонсон, – полюбопытствовал Илларионов, – не подскажете ли, как мне к вам лучше обращаться? Согласитесь, господин Джонсон-Джонсон – это слишком длинно и сложно для русского языка.
– Вы хотите знать мое имя? – приветливо показал идеальные зубы мормон. – My first name? Называйте меня просто Джоном, господин Терентьев. К сожалению, ничего не могу изменить. Так назвали меня мои дурные родители…
Уходя, Илларионов уронил на коврик платок, а когда под понимающим взглядом Джона Джонсона-Джонсона поднял, ему уже было известно, почему на полу такое количество разноцветных ковриков. Все объяснила случайно промелькнувшая в коврике металлическая, точнее, золотая нить. Коврики служили антеннами. В самом деле, не выводить же спутниковые антенны на крышу мирной религиозной миссии?
…Илларионов стоял на пороге своей квартиры, с болезненным любопытством вглядываясь в длинный – как будто комнат было не две, а по меньшей мере десять – темный коридор. В этот момент его можно было брать голыми руками сзади, но Илларионов знал, что физическая смерть – почему-то она виделась ему в виде трассирующего, вычерчивающего во тьме светящуюся линию удара: не то молнии, не то лазера, не то какого-то сверхтонкого острого лезвия, – придет к нему именно из коридора с черным креслом, правда, он не знал – этого или другого коридора. И еще такая странная деталь: Илларионов как бы заранее знал, что сможет в свой смертный час не только подробнейшим образом разглядеть летящий ему в шею луч, но и – в случае необходимости – уклониться от него, отвести от себя рукой – да, именно рукой! – молнию-лазер-лезвие, но почему-то не сделает этого.
Находясь дома, Илларионов частенько сиживал, не зажигая света, в продавленном кирзовом, оставшемся от прежних жильцов кресле в коридоре напротив стеллажей с книгами, сливаясь… с чем?.. растворяясь… в чем? Самые неожиданные, ложившиеся позднее в основу действий немалого числа людей, мысли приходили к Илларионову именно в коридоре. Отец, побывав в его новой квартире на Сивцевом Вражке, понял все без слов. «Скажи Толстому, – сказал отец, – чтобы выгородил тебе кабинет из коридора. В третьем корпусе в пятьдесят третьем году целый отсек замуровали. Он знает где». «Не выгородит», – вздохнул Илларионов-младший. «У меня в том отсеке, – продолжил отец, – была русская банька. Тебе хорошо думается в коридоре, а мне – в баньке».
Вот только кожаное кресло не понравилось отцу.
«Выброси, – посоветовал он, – негоже сидеть в чужом кресле». «Да я его от побелки отмыл, ножки укрепил, уже вроде как мое», – возразил Илларионов-младший. «Не твое – выбросив повторил отец. – От чужих вещей всегда беда».
– Джон? – набрал Илларионов номер полковника (а может, у него, как у многих американских разведчиков было морское звание?) мормона. – Господин Джон Джонсон-Джонсон? – ему иногда доставляло удовольствие полностью произносить вымышленное имя. Так и хотелось добавить: «Джонсович». Это как бы выводило жизнь за границу реальности, развязывало мысли и руки. И еще он был очень доволен, что мормон не мог в свою очередь назвать его Терентием Терентьевичем Терентьевым или Илларионом Илларионовичем Илларионовым, не мог скользить по его имени, отчеству и фамилии, как на коньках по льду, а был вынужден на первом шаге спотыкаться: Андрей Терентьевич Терентьев.
– Андрей, – откликнулся мормон. – Я получил очень любопытные факсы из Чарльстона и Цинцинатти. Мне бы хотелось в этой связи кое-что с вами обсудить.
– Я готов, – Илларионову всегда нравилось наблюдать за игрой теней в сумеречном коридоре своей квартиры. Она была крайне причудлива и многосложна, эта игра. Допустим, по двору проезжала, светя фарами, машина. Свет ее фар, многократно преломившись об углы дома, водосточные трубы, выступающие балконы, достигал окон илларионовской квартиры и, уже просеявшись сквозь окна, как сквозь сито, то в виде кривой как сабля полоски, то россыпью дрожащих пятен пробегал по стенам и потолку коридора. Илларионов часто думал: что есть выигрыш в игре теней? Ему казалось, что выиграть в этой игре так же трудно, как, скажем, определить по пробежавшим по стенам и потолку полоске и пятнам: что за люди сидели в светящей фарами машине? И еще подумал, что мир устроен таким образом, что на каждую, даже самую нелепую и иррациональную загадку непременно отыскивается человек, который зачем-то ее разгадывает. Если существует замок, то существует и ключ, который должен его отомкнуть. Вот только они не всегда совпадают во времени и пространстве.
– Мне бы не хотелось делать этого по телефону, Андрей, – произнес после паузы мормон. – Вы не могли бы прямо сейчас приехать в миссию? Я готов послать за вами машину.
– Нет необходимости. Я буду у вас через полчаса, – пообещал Илларионов.
Оказавшись на Арбате, Илларионов поймал себя на мысли, что пока не сумел составить ясного представления о Джоне Джонсоне-Джонсоне. В иные моменты Илларионов искренне верил, что он – правоверный мормон, всерьез увлеченный проектом создания компьютерной версии Библии как гиперромана. Впрочем, еще отец говорил ему, что настоящий профессионал, если берется, делает профессионально любое – пусть даже поначалу незнакомое ему – дело. Иначе – не берется. У Илларионова-младшего не было оснований сомневаться в том, что Джонсон-Джонсон – профессионал. Даже в такой тонкой материи, как выплата денег. Мормон платил хорошо, с аптекарской точностью оценивая труд Илларионова и выдерживая условия контракта. Платил точно. Не переплачивая.
Над Арбатом искусственный неоновый свет смешивался с натуральным сумеречным. Но над обитым радиопроницаемой медью шпилем МИДа неон растворялся в глубоком, как перевернутый колодец, зелено-сиреневом небе. В этот сумеречный час на небе, с трудом просверливая смог, показывались тусклые вечерние звезды. Потом они уступали место почти совсем неразличимым звездам ночным.
В конце семидесятых, работая в аналитической группе, занимающейся исследованиями тенденций в области культуры, Илларионов-младший сочинил записку о феномене так называемого сумеречного сознания. В те годы руководство страны было всерьез обеспокоено широким распространением этого типа сознания в среде советской творческой интеллигенции. Сопоставительный – на ЭВМ – анализ различных текстов показал, что чаще всего слово «сумерки» употреблял запрещенный тогда в СССР философ Фридрих Ницше. По части же художественного описания сумерек отличился великий пролетарский писатель Максим Горький. В неоконченной повести «Жизнь Клима Самгина» он, к примеру, дал шестьдесят семь пространных картин сумерек.
Илларионов понял, почему отказался от предложенной мормоном машины. Ноги сами несли его к гадалке Руби.
Сопротивляясь этому стремлению, замедляя шаг у витрины с экзотическими фруктами по запредельным ценам, Илларионов вдруг подумал, что, в сущности, и такое явление как гиперроман лежит в плоскости сумеречного сознания. Как наглядное свидетельство типичного сумеречного сознания Илларионов в той давней своей записке приводил навязчивую идею одного, жившего, кажется, в Оренбурге, народного мыслителя получить точное графическое изображение Господа Бога. Он предполагал сделать это с помощью своего рода фоторобота, путем последовательного наложения друг на друга подогнанных под единый стандарт фотографий всех жителей Земли. Илларионов, помнится, не поленился вступить с ним под видом сотрудника журнала «Техника молодежи», куда тот адресовал свои заказные бандероли, в переписку. Илларионов поинтересовался, изображение какого, собственно, Бога имеется в виду – Христа, Будды или Аллаха? И как быть в этом случае, допустим, с фотографиями младенцев? Измученный долгим невниманием со стороны организаций, куда он отправлял свои философские труды, народный мыслитель ответил телеграммой-молнией: «Плюс женщины и младенцы обоих полов – Бог-отец, создавший человека по образу и подобью своему. Бог-сын – только мужчины, достигшие полных тридцати трех лет».
Илларионов приближался по Арбату к постоянному (видимо, оплаченному) месту гадалки Руби. И чем ближе приближался, тем гуще становилась на его пути толпа. Он подумал, что если бы сейчас писал работу о гиперромане как проявлении сумеречного сознания, то, вне всяких сомнений, обратил бы внимание на такую его особенность, как отсутствие (или, выражаясь языком логики, линейную незаданность) конечного замысла. Бесчисленные сюжетные линии гиперромана расходились в разные стороны, как люди с Арбата. Расходились, скрывая, растаскивая по частицам тайну своего существования.
Нелепая мысль, что прямо сейчас, здесь, на Арбате гадалка Руби откроет ему величайшую тайну сущего, заставила Илларионова прибавить шагу.
Толпа, как будто подчиняясь невидимым магнитным линиям, обтекала, не задевая, плесневеющую колоннаду театра имени Вахтангова.
Кажется, в шестьдесят восьмом – Илларионов-младший учился тогда в девятом классе – он вскрыл сейф отца и обнаружил там фотографии тел пришельцев из космоса с уничтоженной американцами в сорок седьмом над островом Пасхи летающей тарелки. Точно такое же, как сейчас чувство, что вот еще немного, самую малость – и он узнает всю истину, охватило тогда Илларионова. Он поминутно подбегал к окну, высматривая отцовскую машину.
Отец вообще не приехал в тот день домой. Под вечер измученный ожиданием и близким присутствием истины Илларионов-младший отправился в большую комнату, где стоял шкаф с фарфоровыми статуэтками. Свет от люстры падал на статуэтки кавалеров в камзолах, дам с веерами, в золотых туфельках, на очень редкую статуэтку периода Великой французской революции – гильотину, под которую два дюжих палача в красных колпаках укладывали приговоренного строптивца. Воздух вокруг люстры нагревался. Тени начинали жить своей жизнью: дамы шевелили веерами, псы и всадники отставали от уходящего под вазу оленя, строптивец определенно пересиливал палачей. Илларионов-младший до того засмотрелся на театр теней в шкафу под колеблющимся светом люстры, что приуготовленная к узнаванию истина предстала не то чтобы не имеющей место быть, но как бы несущественной, то есть независимо от своего существования (или несуществования) не влияющая на протекающий в отсутствии замысла (линейной не-заданности) гиперроман-жизнь.
Илларионов-младший так и не спросил у отца про пришельцев.
Вот и сейчас, спустя почти тридцать лет – уже в ином времени, в иной стране – он опять увидел театр скрывающих истину теней. Одна тень определенно принадлежала гадалке Руби. Другая – клиенту в дорогом кожаном, как бы струящемся с его плеч пальто и в варварской какой-то, как мохнатое колесо, песцовой шапке. Тень гадалки напоминала склоняемый ветром к земле куст. Тень клиента – гвоздь. Гадалка протянула клиенту свернутый лист бумаги. Клиент медленно развернул, прочитал, спрятал, после чего что-то быстро протянул гадалке, и та, благодарная, буквально припала к его груди.
В театре теней, как всегда, играли в полутьме, сзади и наоборот.
Илларионов, уже понимая, что случилось непоправимое, бросился вперед, но варварская, как мохнатое колесо, песцовая шапка над струящимся, переливающимся в арбатском неоне кожаном пальто пошла, набирая скорость, сквозь толпу, как нагретый гвоздь сквозь масло. Это был особенный метод ухода с места события сквозь толпу, требующий концентрации воли и специальной тренировки мышц. У Илларионова мелькнула совершенно идиотская и неуместная мысль, что этот парень не пропал бы при столпотворении в дни похорон Сталина. Илларионов остался под сырой колоннадой один рядом с приколотой, как коллекционная бабочка, длинной острой заточкой к наглухо запертой двери театра теней (имени Вахтангова?) умирающей гадалкой Руби.
B
До сих пор майор в отставке Пухов считал скорострельные пистолеты с оптическими прицелами не более чем дорогими игрушками, но этот – неизвестной немецкой фирмы с латинским названием «Fovea» – показался ему самим совершенством. Он был хорош для использования на пересеченной местности, когда мирный житель или беженец отличается от боевика, бандита или борца за свободу какого-нибудь немногочисленного народа главным образом отсутствием торчащего за спиной или на животе дула. Был хорош для отслеживания мишени в толпе и из толпы. Для отражения ожидаемого, но каждый раз совершенно неожиданного нападения и одновременно для осуществления этого самого ожидаемого (уже другими), но каждый раз совершенно неожиданного (уже для других) нападения.
Пухов когда-то изучал латынь, но слово «Fovea» не зацепилось в памяти. Впрочем, в бывшем пансионате ЦК и Совмина – ныне Управления делами администрации президента России – сохранилась приличная библиотека. Пухов без труда установил, что слово «Fovea» означало у древних римлян не что иное, как «яму для ловли зверей». Название, таким образом, не только таило в себе глубокий смысл, но и свидетельствовало о возрождении германского оружейного гения. Для завершающих двадцатый век годов скорострельный пистолет «Fovea» вполне мог оказаться тем самым невидимым рубежом, каким для тридцатых годов XX века явился лучший пистолет всех времен и народов «Para bellum».
«Распад Советского Союза, – констатировал майор в отставке Пухов, – вне всяких сомнений, послужил побудительным стимулом для сворачивания производства оружия массового поражения и совершенствования экологически чистого стрелкового оружия для штучных убийств, точечных демографических чисток». Он был абсолютно уверен, что больше всего усилий, для того чтобы лишить Россию остатков ядерного оружия и тем самым уравновесить ситуацию в предстоящей борьбе за жизненное пространство (которого им во все времена фатально недоставало), приложат именно немцы – известные мастера и любители стрелкового оружия, равно как и расширения жизненного пространства.
И еще Пухов подумал, что для пистолета «Fovea» можно немедленно найти сугубо прикладное (не дожидаясь гипотетической войны с немцами) применение, а именно: прямо сейчас, здесь, в номере пансионата «Озеро» с видом на озеро взять да застрелиться.
Стало быть, латинский термин «яма для ловли зверей» был термином обоюдоострым. Пухов за свою почти сорокалетнюю жизнь уничтожил немало вооруженных и безоружных зверей, но не раз и не два слышал это слово – «зверь», – произносимое разными людьми на разных языках и в свой адрес. Видимо, некая высшая справедливость заключалась в том, что рано или поздно в «яму для ловли зверей» сваливались (или сталкивались) сами ловцы. И уже никто в этом случае не мог (и не хотел) отличать их от зверей.
Пухову приходилось читывать про русских послереволюционных эмигрантов, умиравших за границей от тоски по Родине. Сейчас ему было не отделаться от ощущения, что население России, оставаясь в подавляющем большинстве на Родине, тоскует по Родине. Тоска по Родине на Родине являлась не столь уж редко встречающейся в истории разновидностью массового психоза. В России этот, выражаясь научным языком, психосоматический психоз сопровождался утратой воли, столь же массовым нежеланием жить, в смысле длить более или менее осмысленное и продуктивное физическое существование. Разные люди тосковали по-разному, но если приводить русскую тоску по Родине на Родине к некоему общему знаменателю, то получалась тоска по юле. Пухов в очередной раз восхитился метафизической (на уровне подсознания народа) пластичностью русского языка. Томас Манн, впрочем, классифицировал это свойство великого и могучего как «бесхребетность». В термине «юля» сожительствовали два взаимоисключающих смысла. Хлебнув одной – расслабляющей, полуразбойничьей, песенной – воли, народ страстно затосковал по ее негативу – грубо организующей его жизнь, но главным образом ограничивающей ту самую песенную, полуразбойничью волю, играя с которой, народ, как ребенок собственный дом, спалил страну. Народ пресытился расслабляющей волей, возненавидел ее, как прежде организующую, понуждающую его, государственную волю, о которой сейчас был готов слагать песни.
Глядя в окно на стылый (за городом в тот год почему-то было гораздо прохладнее, чем в напоминающей Сочи Москве) позднеосенний подмосковный пейзаж, на готовящееся заледенеть-застеклиться озеро, майор Пухов подумал, что великий Ницше был не вполне прав, объясняя движение истории наличием в людях воли к власти. В России все определялось не волей к власти, а волей власти. Как объяснил Пухову в транспортном самолете – глухой беззвездной ночью команда майора летела тогда в Баку – толстый, лысый, похожий на мешок с мукой генерал с аристократической фамилией Толстой, власть, давшая народу губительную юлю, тем самым сделала народу – на века! – прививку против извечной русской болезни – анархии. Сейчас надо потерпеть, сказал генерал, дать время власти отвердеть: сначала в пределах кремлевских стен, затем – Садового кольца, затем – московской окружной автодороги и – дальше, дальше, дальше. «Власть в России сейчас меняет сущность, как змея шкуру, – сказал генерал, – другого пути, кроме как каменно отвердеть, у нее нет. Я сам, – рванул на горле камуфляж генерал Толстой, – нахожусь на грани самоубийства. Имперская тоска сжигает душу. Но надо преступить…»
Пухову запомнились слова: «Имперская тоска сжигает душу…» Если уподобить душу листу бумаги, то края листа занялись ползучим пламенем у майора в начале восьмидесятых на границе Афганистана и Пакистана, где его команда вырезала караваны белуджей и уйгуров, но пропускала караваны узбеков и таджиков, приводя тем самым племена в состояние взаимного недоверия и повышенной боевой готовности, что в свою очередь делало границу непредсказуемой и частично непроницаемой для направляемой со всех концов (Пухову даже попадались противопехотные мины с клеймом «Сделано в Бенине») афганцам военной помощи. Майор не был сентиментальным человеком, но известное изречение: «Величие покоится на крови» – красивое и вдохновляющее в обитых мореным дубом кабинетах Минобороны в Москве, здесь, посреди разрушенных кишлаков, растерзанных людей в камуфляже и в чалмах, овец и верблюдов представлялось сродни знаменитому «Arbeit macht frie» при входе в газовую камеру.
Быстрее, чем у майора Пухова, огонь имперской тоски (видимо, дрова были суше) сжигал душу начальника разведки подразделения капитана Сергеева. «На этом не может покоиться величие, – помнится, однажды заметил Пухов, окидывая взглядом оставляемый их подразделением – в духе Сальвадора Дали – пейзаж в пустыне. – На этом не может покоиться ничего достойного». «Кое-что может», – неожиданно возразил ему обычно молчаливый и не по званию сосредоточенный капитан Сергеев. «Что именно?» – поинтересовался Пухов. «Все это, – кивнул капитан Сергеев на песок, кровь, слетающихся клевать кровоточащие тела стервятников – они были похожи на странствующих дервишей с язвами на лицах в черном дранье, – придет к нам. И очень скоро. И больше, ты прав, ничего».
Имперская тоска окончательно испепелила, наверное, лист души майора Пухова в Степанакерте, в Гяндже, в Тбилиси, в Литве – в Вильнюсе и на самочинных литовских таможнях. Прежняя афганская тоска, в сравнении с тоской прибалтийской, была в общем-то тоской почти сладкой, ибо в ней не было примеси того, что делает тоску непереносимой для мужчины, а именно – предательства.
Впервые и сразу в глазах у многих уважаемых им прежде людей Пухов увидел библейскую «тоску предателя» по возвращении из медвежьего угла Литвы – Медининкай, – где кто-то надоумил литовцев (или они сами додумались) поставить дощатую, похожую на большой дачный сортир, таможню. Тогда-то майор окончательно понял, что когда империю предают те, кто должен по долгу службы защищать (империю и тех, кто исполняет их приказы), ее уже не спасет ничто. В тогдашней советской армии не нашлось командира, готового взять на себя, возможно, невинную, но пролитую во имя империи кровь.
«Если нам хотят вернуть чужую кровь, которую мы пролили по их приказу, – развил перед ребятами вечером в сауне тревожную мысль Пухов, – наша работа теряет смысл и моральное обоснование. Есть неписаный закон: исполнитель отвечает только за неисполнение или плохое исполнение приказа, а не за его смысл и последствия. Мы выполнили приказ. Но нас за это хотят не наградить, а отдать под трибунал. Я лично не собираюсь под трибунал. Я выхожу из игры. У каждого своя голова на плечах. Думайте. Я их не боюсь, но и никого из вас я больше прикрыть не могу. Отныне каждый решает сам».
Утром он честно подал в штаб ВДВ рапорт об отставке, хотя и мелькнула мыслишка запечатать его в конверт да и отдать знакомой проводнице, чтобы отправила по почте, скажем, из Уссурийска. Но майор полагал, что пока еще инициатива за ним.
Пухов понял, что ошибался насчет инициативы, когда его – профессионала не из последних – мгновенно и совершенно незаметно взяли прямо на выходе из здания штаба ВДВ. Майор всегда искренне восхищался (хотя сегодня был не тот случай) чужим, в особенности превосходящим его собственный, профессионализмом. То, что на каждую хитрую… неизменно отыскивался… с винтом, сообщало жизни прекрасную тайну, свидетельствовало, что в ней всегда есть место не только для подвига, но и для неожиданностей, не позволяло излишне расслабляться, утомляться собственным предвидением.
Майор не сомневался, что его кончат прямо в джипе «шевроле» со специально, видимо, для этой цели затемненными стеклами. «Хоть заройте поглубже, – превозмогая гордость, обратился к убийцам, – чтобы не таскали по моргам да по прозекторским». «Спешишь, парень, – усмехнулся в ответ один, – пока что в гости едешь».
«В эти гости я всегда успею», – подумал Пухов, нащупывая разрезавшую не одно чужое горло струну под манжетой рубашки, но сидевший рядом погрозил удивительно прямым, неестественным каким-то, нечеловеческим пальцем: «Сиди спокойно. Мы же тебя не обижаем». Пухов понял, что один тычок этого пальца проткнет ему гортань, как сучок падающую спелую грушу, и еще понял, что если бы эти ребята действительно хотели его убить, они бы убили его давно (как только получили приказ) и так, что он (и вообще никто) бы этого не заметил.
Майору Пухову казалось, что он неплохо знает Лубянку, но они подкатили к какому-то неизвестному ему внутреннему подъезду. Пухова повезли наверх на допотопном – сталинских, не иначе, времен – но ухоженном, с надраенной медью, в зеркалах, с черным телефонным аппаратом «Сименс-Шуккарт» на столике лифте. Майор догадывался, что Лубянка с въевшимся в ее стены, коридоры, бетонные и деревянные перекрытия и потолки духом смерти и несбывшихся надежд хранит немало тайн. Но он знал, какой силы удары наносились по ней в последнее время. Если Лубянка и была одним из китов, на которых когда-то, как на сваях, стояло государство, то сейчас этот пронзенный многими гарпунами многих капитанов Ахавов белый кит Моби Дик исходил последним кровавым фонтаном.
Выйдя с сопровождающими из лифта в нескончаемый, как ему показалось, коридор, Пухов ощутил себя библейским Ионой во чреве левиафана, героем Жюль Верна (майор не помнил, как того звали), оказавшимся в пещере на подводном корабле «Наутилусе», где отдавал Богу душу капитан Немо.
Однако встретивший его в одном из кабинетов пожилой, круглый, похожий на мешок с мукой, генерал (Пухов тогда не был лично знаком с генералом Толстым, но был, как говорится, наслышан), похоже, совершенно не собирался отдавать Богу душу. Он как черт из табакерки выскочил в кабинет из какой-то боковой дверцы в дурном каком-то одеянии: в тельняшке, широченных белоснежных то ли мусульманских штанах, то ли русских подштанниках, а наброшенной поверх тельняшки кожаной куртке с неуместной эмблемой «U.S. Air Force». Лысая розовая голова генерала лоснилась. Пухов был готов поклясться, что он только что из парилки. Майор вдруг подумал, что Бог брезгует душой генерала.
– Величие Грибоедова недооценивается, – генерал пригласил Пухова присесть на жесткий стул перед своим огромным, черным, как ночь или смерть, столищем. – Так же как величие, скажем, Иосифа Бродского определенно переоценивается. Шел в комнату, попал в другую, ведь так, майор? Все, что отныне будет происходить с тобой, будет иллюстрацией золотого, но горького правила – горе от ума. Не классовая борьба, майор, а горе от ума – движущая сила истории.
– Почему только отныне? – поинтересовался Пухов. – Разве раньше было иначе?
– Раньше был приказ, майор, – ответил генерал. – Горе от приказа – естественная форма существования российского государства, в особенности же российских вооруженных сил. Горе от ума – их погибель.
Пухов не ухватил сути генеральской мысли. Собственные его мысли как-то вдруг растерялись, заметались во времени и пространстве. К примеру, ему не давал покоя рисованный портрет в застекленной рамке на стене за спиной у генерала. Майор льстил себе, что знает (главным образом, естественно, по фотографиям) всех руководителей Лубянки. Но вот этого совершенно точно не знал. Пухову доводилось общаться с людьми, умеющими мыслить системно, как компьютеры, и сразу по многим направлениям. Себя майор к их числу не относил. Слишком много времени и сил в жизни было потрачено на тренировку тела. Иногда он почти физически ощущал, как мысль, бесконечно упрощаясь, меняя сущность, поселяется в его бицепсах и мышцах. Автоматически думало и действовало тело майора, но никак не его разум. Пухову открылось, что невозможно быть одновременно очень умным и очень физически сильным.
Ему показалось, что где-то он видел если и не самого человека с застекленного карандашного портрета, то кого-то очень на него похожего. Вот только кто это был, майор не мог вспомнить. Кажется, какой-то генерал.
– Здесь что? – посмотрел по сторонам Пухов. – Музей?
– Пожалуй, что музей, – согласился генерал. – В свое время это крыло запечатали, как секретный конверт, замуровали. Почитай, сорок с лишним лет никто не совался. Думаешь, следует открыть для любопытствующей публики? Лаборатория сталинских ужасов! Тайный кабинет Лаврентия Берии открывает двери! Думаешь, повалит народец, а?
– Кто это? – кивнул майор на не дававший ему покоя карандашный портрет под стеклом. – Ягода?
– Это? – тоже обернулся, как будто впервые увидел портрет, генерал. – Это… Должен был стать министром госбезопасности после Берии. Не захотел. А стал бы – у нас бы сейчас была совсем другая страна. Совсем, совсем другая… – повторил мечтательно и с долей мазохизма.
Майор подумал, что советский генерал Гоголь из фильмов про Джеймса Бонда – тонкий намек на генерала Толстого.
В былые времена майор получал четкие недвусмысленные приказы и отчитывался непосредственно перед отдавшим приказ вышестоящим командиром, который награждал за хорошую работу и наказывал за плохую. Государство, таким образом, односторонне, скупо, но конкретно общалось с майором через вышестоящего командира. Круг замыкался. Все было ясно и понятно. Когда круг разомкнулся и военная машина заскрежетала, заискрила, лишенная управления, силовые линии в ней смешались, усложнились, перепутались, превратились в омерзительную, каждый раз отгадываемую по-новой загадку. Люди, которые действительно что-то решали, за которыми была сила и реальные материальные ресурсы, превратились в вымирающих динозавров. Они отнюдь не стремились открыто о себе заявлять, эти люди. После Тбилиси и Баку майор Пухов уже наверняка не знал, кто отдает приказы и кто оценивает их исполнение. Но все чаше невидимые силовые линии, по которым он был вынужден, как на роликах, скользить в силу особенности своей службы – иногда по касательной, иногда как бы параллельно и будто бы не впрямую, иногда же весомо, грубо, зримо, как сейчас, – выкатывали его на генерала Толстого.








