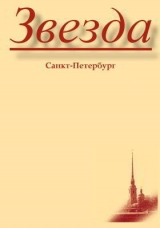
Текст книги "Дорожный лексикон (Главы из книги)"
Автор книги: Юрий Рытхэу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
МУЗЕИ чукотского аналога этому слову нет
Первый музей, который я посетил, находился в Анадыре, в аккурат напротив педагогического училища, и представлял собой убогий, вросший в землю по самые подслеповатые крохотные окошечки, домишко, построенный, вероятно, еще первыми русскими первопроходцами. Он состоял всего лишь из одной комнаты, битком набитой всяким хламом, который в обычном чукотском селении выбрасывали на помойку. Почему-то большинство экспонатов составляли шаманские наряды – балахоны, украшенные длинными полосами оленьей замши, окрашенные красной охрой, с нашитыми разноцветными бисеринками, причудливые маски, бубны разных размеров – от огромных до совсем крохотных, скорее игрушечных. Особо выделялся удивительный агрегат – макет самолета с вделанным в него обрезом винчестера. Это изделие чукотского шамана – специальное пугающее устройство для устрашения чукотского обывателя. Оно символизировало все зло нового строя, который насаждали приезжие большевики с помощью летающих железных птиц и огнестрельного оружия. По углам мрачной, вечно полутемной комнаты висели ободранные чучела местных птиц, на полу валялись муляжи четвероногих. Под самым окном на трех ногах стоял огромный северный олень в наполовину вылинявшей шкуре, со скособоченными рогами и большими стеклянными глазами бутылочного цвета. Было много изделий из моржовой кости, и даже модель парусника «Мод» знаменитого норвежского путешественника Руаля Амундсена, зимовавшего в двадцатых годах в Чаунской губе Чукотского полуострова. Вторым музеем в моей жизни был сразу же величайший и богатейший музей в море – петербургский, тогда ленинградский Эрмитаж. Он поразил меня невероятным богатством и всерьез заставил задуматься над тем, а нужно ли человеку такое великолепие? Во всяком случае, существо такого склада и воспитания, как я, не могло бы обитать в такой роскоши, в окружении этого величественного, нечеловеческого великолепия. Люди, изображенные на картинах, в массивных золоченных рамах, не походили на обыденных ленинградцев, проходящих мимо по скользким паркетных полам в мягких войлочных тапочках, они были совершенно из другого мира, словно пришельцы с других планет. Хаос впечатлений от первого посещения Эрмитажа на долгие годы отвадил меня от посещения художественных музеев. С некоторой опаской я пошел в Кунсткамеру, Музей этнографии, основанный еще Петром Первым. Он располагался на той же Университетской набережной, рядом с нашим факультетом. Здесь было нечто иное, чем в Эрмитаже. Полумрак был наполнен какой-то золотистой, неуловимой пылью, сквозь которую проступали фигуры одетых в причудливые одежды людей. Сначала я решил, что эти фигуры – настоящие, особым образом высушенные, забальзамированные люди. В основном это были мужчины и женщины восточного и негритянского типа, но почему-то я испытывал к ним особое расположение, словно это были мои дальние родичи. Но были и впрямь настоящие родичи. В одном из залов я обнаружил охотничью байдару с сидящими в ней людьми в плащах из моржовых кишок. Охотники сидели в молчании, сжимая в руках гарпуны, на их лицах лежала золотистая музейная пыль. В моем сердце родилась острая жалость и сочувствие к этим моим арктическим землякам, вырванным из привычной среды. Я вдруг почувствовал всю глубину унижения быть выставленным на всеобщее обозрение, быть демонстратором иной жизни, удивительной, любопытной, но главное – дикой! Я вспомнил услышанные в детстве рассказы о том, как мой дед, великий шаман Уэлена Млеткин, был живым экспонатом на Всемирной этнографической выставке в Чикаго в конце XIX века. Можно только представить его душевные страдания, когда мимо него проходили разряженные, сытые, самодовольные, лощеные чикагские обыватели, обменивались вслух впечатлениями, которые дед, зная язык, хорошо понимал. Музейные мои земляки ничего не слышали и ничего не понимали, но реплики в их адрес не отличались от тех, которые в свое время выслушивал в далеком американском городе мой дед. И тогда в моей голове зарождалась мстительная мысль о том, а почему не устроить где-нибудь в Анадыре или Уэлене Музей белого человека, выставить на всеобщее обозрение его автомобиль, велосипед, костюм, галстук, белые кальсоны… А лучше всего – выставить в полном облачении его муляж, его изображение, аккуратно выбритое лицо с торчащей изо рта папиросой «Беломорканал». И я бы прохаживался мимо стеклянных витрин с надписями РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ! И смотрел на них снисходительно… Но это было бы смешно и грустно. Значительная часть этнографических трофеев такого рода музеев приобреталась за сущие гроши, а чаще всего похищалась из священных захоронений. Именно так собирали коллекции среди полярных эскимосов знатные арктиче ские исследователи Кук и Пири, пополняя Музей естественной истории в Нью-Йорке. Если восточные коллекции европейских музеев в основном представляли собой военные трофеи, а то и просто награбленные сокровища покоренных народов, то арктические коллекции большинства музеев мира – это полученные путем мошенничества и простого обмана предметы. За свою долгую жизнь я посетил множество музеев с богатыми коллекциями культур арктических народов, в том числе и луоравэтланов. В Канаде, Соединенных Штатах Америки, в скандинавских странах, в Финляндии, Германии, Франции и в других государствах. И почти каждый раз у меня возникало ощущение того, что это у меня лично что-то украли и выставили на всеобщее обозрение. Самый большой шок я испытал в Париже в начале семидесятых годов прошлого столетия. Меня познакомили с известным полярным исследователем, директором Французского арктического института Жаном Маллори. Он госте приимно пригласил меня к себе в дом. Жилище путешественника и ученого располагалась в старом доме без лифта в центре города, и мы до долго поднимались по деревянной скрипучей лестнице с отполированными до тусклого блеска перилами. В просторной, светлой прихожей, освещенной большими окнами, меня встретил в полном облачении арктический морской охотник в меховой кухлянке, нерпичьих штанах и с копьем. От неожиданности я вздрогнул и чуть не пустился назад. Но это был муляж. Разумеется, не чучело, как делают животных, а искусно выполненная, видимо, восковая скульптура. Придя в себя, я вдруг представил у себя в ленинградской квартире, в тесной прихожей муляж самого Жана Маллори в темном костюме, начищенных ботинках, в тонких металлических очках, с портфелем в правой руке…
МУЗЫКА эйнэв
В чукотском слове эйнэв, в коренном его значении, есть смысл – зов, призыв. Мне так и видится мой предок, стоящий на возвышении, на скале, над обрывом, держащий ладони у рта наподобие трубы и зовущий кого-то. Он может звать не только своего соплеменника, но призывать и зверя, обращаться к невидимым силам с помощью звуков, которые потом преобразовались в мелодии, в ласкающие слух звуки. Казалось бы, в мире, где наиболее громким является грохот снежной бури за кожаными стенами яранги, нет места нежным и струящимся мелодиям, колыбельным, печальным или радостным напевам. Но нет, с самого рождения маленького луоравэтлана сопровождает нежная мелодия материнской колыбельной, затем возникает мужественный напев песни над поверженным зверем, завораживающий шаманский голос, часто подражающий с удивительной точностью звериным голосам, природным шумам. Даже, казалось бы, в абсолютной тишине полярной ночи, когда в небе колышется лишь многоцветный занавес полярного сияния, луоравэтлан слышал «шепот сияния». Существовало поверье, что если громко свистнуть, то движение разноцветных полос ускорялось, и тогда надо было быть особенно осторожным, ибо вас может задеть ненароком концом сияния и вы получите вечный ожог. Морской прибой задавал ритм, и удары бубна повторяли этот на первый взгляд монотонный звук, отмеряя время, дробя на отрезки вечное течение жизни. Возможно, что именно звук морского прибоя задал ритмику чукотских танцев, придал четкость движения исполнителям берингоморских танцев морских охотников. Я был свидетелем творческого процесса некоторых певцов, среди которых особенно славились Рентыргин и Атык. Рентыргин жил в тундре, кочевал с небольшим стадом оленей среди холмов южнее Уэлена, там, где, собственно, и кончался Чукотский полуостров. Он часто приезжал в Уэлен и обычно останавливался в нашей яранге. Вечерами при свете угасающего жирника он вполголоса напевал сочиненные на просторе мелодии, как бы примерял их на слух немногочисленных обитателей нашей яранги, что-то менял, иногда надолго замолкал, устремляя взгляд вдаль, за стены мехового полога. После того как мелодия обретала очертания, обрастала укрепляющими ее акцентами, наступала пора сочинения танца. Здесь уже требовался простор, и обитатели тесного полога отодвигались от сочинителя. Движения танцора были скупы, схематичны, они состояли из немногочисленных издревле утвержденных жестов. Смысл танцу придавала последовательность исполнения этих движений. Они были как бы те семь нот, из которых состоит мелодия. После того как танец-песня как бы утверждался «художественным советом» нашей яранги, Рентыргин выносил свое сочинение уже на суд молодых исполнителей, которые разучивали и мелодию и танец, следуя указаниям автора. Новая песня-танец исполнялась на ежегодном песенно-танцевальном фестивале, который проходил в Уэлене в пору недолгого затишья, когда заканчивалась весенняя охота на моржа, но еще не начиналась китовая страда и осенний забой моржей. Обычно к этому времени берег окончательно покидали льды и галечная полоса становилась чистой и нарядной от разноцветных камешков, отполированных холодными водами Ледовитого океана. На это торжество съезжались гости со всех ближних и окрестных селений – от Рыркайпия до Гуврэля и Сиреников, самыми желанными гостями и соперниками в танцах-песнях были соседи по ту сторону Берингова пролива, эскимосы из Большого и Малого Диомида, Уэльса, Кыгмина, с острова Святого Лаврентия. Гости устраивались прямо на галечном берегу, поставив свои вместительные кожаные байдары на ребро, чтобы защитить пламя костров от вечного ветра. Здесь же, под сенью байдарного днища, ставились палатки, устланные толстыми оленьими постелями. В хорошую погоду песенно-танцевальные соревнования происходили на воле, на землю расстилались полотнища парусов. В ненастье действо переносилось в школьное здание, где был довольно вместительный зал, получаемый из соединения двух соседних классов. Обычно исполнялись только новые произведения. Старые песни и танцы и классика – только по особой просьбе зрителей. Имена трех главных певцов-танцоров и авторов остались только в памяти старого поколения. Это были Атык, Рентыргин и эскимос с острова Малый Диомид – Мылыгрок. Давно ушли в историю эти грандиозные песенно-танцевальные торжища на галечном берегу уэленской косы. Ушли из жизни все три классика древнего берингоморского танца и песни. И лишь порой мелькнет в номерах государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» старый напев, в современном танце старый зритель уловит забытый жест… Европейская музыка зазвучала в наших ярангах с появлением граммофонов. Они носили и другие названия – виктрола и патефон. Мои земляки их охотно покупали или меняли на китовый ус, моржовые бивни и меха. И странно звучали в притихшем вечернем Уэлене, освещенном низкими лучами заходящего за Инчоунский мыс солнца, арии из опер, звуки мандолины, негритянские спиричуэлс, военные марши и чаще всего американский государственный гимн. Русская музыка появилась лишь с приходом советской власти. Почему-то сначала в Уэлен привезли довольно большую коллекцию еврейских народных песен. И только какое-то время спустя – русские народные песни. Но до профессиональных певцов русские песни мы слышали из уст тангитан, проживавших в Уэлене. Чаще всего они пели, предварительно приняв изрядную порцию горячительных напитков. Главные песни тех лет: «Шумел камыш, деревья гнулись», «Когда я на почте служил ямщиком», «Бежал бродяга с Сахалина». Иногда исполнялись революционные песни и песни времен гражданской войны… Эти песни мы учили в школе, на уроках музыкального воспитания. Настоящую русскую песню я услышал на старой, заигранной пластинке, чудом попавшей в Уэлен. Исполнительницей была знаменитая русская певица Ирма Яунземе. Несмотря на явно карельские корни своего имени, эта певица была настоящей предшественницей других знаменитых исполнителей русских народных песен – Лидии Руслановой, Людмилы Зыкиной. Именно с этих голосов русская песня заняла прочное место в моем сердце, и для меня нет милее и роднее русского распева, широты, раздолья, многоцветности. Трудно представить, но именно в русской песне одновременно можно – услышать и грусть-тоску, и радость, и гнев, и печаль – всю гамму человеческих чувств, смешать слезы радости и печали. Вслед за пластинками появились и советские напевы, не обязательно воинственные, вроде «Если завтра война, если завтра в поход», «Дан приказ ему на запад»… Довольно долго я мог только догадываться о смысле непонятных для меня русских слов. Иногда я подбирал свои чукотские слова, близкие по звучанию, порой чудовищные по значению. Так, долгое время в Уэлене чуть ли во всех ярангах крутили пластинку с романсом «Прощай, папанинская льдина, полярный мрак, полярный свет», посвященную первым дрейфующим полярникам, благополучно снятым со льдины ледоколом «Красин». Строчка «папанинская льдина» звучала для меня как «папанэн киятлинын», что значило «папина большая задница». Очарованность русской песней осталась у меня на всю жизнь. Следом за ней в Уэлене появились записи оперных арий, отрывки из популярных классических произведений. Они были для меня менее понятны, пока еще чужды. Не знаю, кому пришла эта идея, но буквально в последнее лето перед Великой Отечественной войной в Уэлен вдруг приехал самый что ни на есть симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Оркестр был такой большой, что, даже разобрав перегородку между двумя самыми большими классами в школе, его нельзя было разместить там, и решено было дать концерт прямо на воле, у самой кромки океана. Никогда в жизни ни одному симфоническому оркестру не доводилось играть в таких фантастических декорациях. За оркестром расстилался Ледовитый океан с вкрапленными в зеленую воду обломками айсбергов, освещенных низким солнцем. На зеленой траве тундры стояли яранги, за ними блестела гладь лагуны, а дальше – опять тундра, зеленая, холмистая, испещренная потоками и зеркалами озер. На гальке расстелили несколько парусов, придавив их по краям небольшими валунами. Погода стояла тихая, почти безветренная. Слушатели принесли стулья, табуретки, китовые позвонки, приспособленные для сидения. Оркестранты были в черных фраках и белых манишках и напоминали стаю кайр, которые сидели на скалах неподалеку от Сенлуна. Полированные деки струнных отбрасывали блики, слепили глаза медные трубы, в больших и малых барабанах тускло отсвечивалось бледно-синее северное небо. Дирижер тоже был одет в цвета кайр, но в руке он держал небольшую тоненькую палочку наподобие той, чем хозяйки поправляют пламя в каменном жирнике. Когда оркестранты угомонились, умолкло разнобойное звучание инструментов, дирижер поднял палочку, и вдруг наступила тишина. Умолкли даже чайки-крачки, многочисленные обитатели птичьего базара у скалы Сенлун. Лишь тихо шипели волны и чувствовалось мощное дыхание океана. Дирижер вдруг вздрогнул всем телом, словно подпрыгнул на специальном возвышении, и воздух наполнился звуками, которые никогда не раздавались в этом краю почти полного безмолвия. Ведь птичьи крики, ритмичные удары волн, тяжелое дыхание проплывавшего вдали кита и хрюканье моржей были такими привычными, что человеческий слух уже не обращал на них внимания и считал частью окружающего ландшафта. Оркестр исполнял фрагменты из Первой симфонии Петра Ильича Чайков ского «Зимние грезы». Не было вступительной лекции, словесного объяснения музыки, и каждый слушатель переживал собственную жизнь – прошлое, настоящее и будущее. Я никогда не видел зеленого леса, бескрайнего поля, медлительных, широких рек, несущих свои воды к далеким моря, но, слушая эти волшебные звуки, воображал именно это. Почему? Неужто музыка способна на то, чтобы разбудить, настолько разогреть воображение, что ты можешь даже вообразить никогда не виданное? Есть сладкая тоска по будущему, по еще неизведанному, ожидание грядущего необыкновенного счастья – все это было в той невероятной музыке. Когда затихли последние звуки, долго не было аплодисментов, да и кто из моих соплеменников знал про эти знаки внимания? Потом захлопал кто– то из учителей, работников полярной станции, из уэленских тангитан, и только после этого к ним присоединились мои земляки. Первые такты Первой симфонии Чайковского я запомнил на всю жизнь. И этот оркестр, белые паруса, постеленные на мокрую гальку, тусклый блеск лакированных дек струнных, ослепительные блики медных труб – все это до сих пор живо в моей памяти, несмотря на то что прошло столько лет… Нельзя сказать, что с тех пор я стал любителем классической музыки. Некоторые произведения, услышанные мною большей частью по радио, оставляли меня равнодушными, не трогали мою душу. Пока не случилось одно потрясение, пережитое мной, когда я приехал учиться в Ленинградский университет. По обычаям тех лет первокурсники, прежде чем приступить к своим занятиям, примерно месяц проводили на сельскохозяйственных работах, помогая колхозникам убирать урожай. Это была прекрасная теплая осень, и я с удовольствием вязал снопы, косил, стоял у молотилки и даже управлял лошадью недалеко от станции Вруда в Волосовском районе. Пришло время возвращаться в Ленинград. На станции выяснилось, что поезд будет только рано утром, и я решил провести ночь на скамейке даже не в зале ожидания, а прямо на улице, под столбом, на котором висел неумолкающий радиорепродуктор. Тогда был такой обычай – радио вещало круглые сутки, и граждане Советского Союза обязаны были его слушать и денно и нощно. Тогда не было телевидения, и радио давало возможность быть в курсе событий, слушать новости о жизни всей огромной страны. Вещание разнообразилось концертными вставками, иногда из репродуктора можно было услышать трансляцию целого драматического спектакля, прослушать оперу с самыми знаменитыми голосами. Ночь была теплая и тихая, и я слушал радио в полудреме, порой просыпаясь, а больше я мирно спал. Но вдруг что-то заставило меня даже присесть на скамье. Музыка! Она лилась от черного репродуктора, установленного на деревянном столбе. Играл симфонический оркестр. С первых же секунд, как только я услышал первые такты, звуки заворожили меня, унесли куда-то из этого привокзального парка в прекрасный мир неосознаваемых, неосязаемых грез, растворили меня в мире, в пространстве, сделали меня частью этих прекрасных звучаний. И это воистину был эйнэв – призыв в волшебный мир. Вокруг меня продолжалась обычная жизнь, где-то шли люди, и даже иной раз до меня доносился их говор, далеко-далеко плакал ребенок, мычала корова, но все эти звуки существовали в другом мире, к которому я уже не принадлежал. Такое было ощущение, что я воспарил над всем миром, и на мгновение в моем сознании замелькали видения из прошлой жизни – галечная коса Уэлена с двумя рядами яранг, освещенная заходящими лучами солнца, лед на лагуне, испещренный лужами, морской осенний прибой, луч маяка, выхватывающий яранги из темной осенней темноты, моя собачья упряжка и я сам, сидящий с бабушкой Гивэвнэут на нарте, плывущей под черными скалами мыса Еппын, что около Сенлуна… Большой черный пароход «Жан Жорес», на котором я плыл из бухты Провидения на юг, во Владивосток… Я заново переживал расставание с родиной, тоску по покинутому миру, чувствуя, что это навсегда. Вдруг мелькнуло лицо моей мамы, наполовину закрытое краем капюшона цветастой камлейки… Я был одновременно и там, в мире музыки, на волнах прекрасных созвучий, в прошлом, и в настоящем, в этом привокзальном парке под деревянным столбом, на котором был прикреплен черный репродуктор. Я был охвачен необыкновенным волнением, порой даже чувствовал дрожь, какой-то сладостный озноб во всем моем теле, и не сразу понял, что музыка кончилась, умокли скрипки, трубы, барабан, звуки унеслись, растаяли в темноте теплой осенней ночи. Конечно, первое, что я вспомнил, это концерт на белых парусах в Уэлене много лет назад. Но здесь восприятие музыки было совершенно иным. Я запомнил эту ночь на всю жизнь. Диктор потом объявил: симфонический оркестр Московской филармонии исполнял Первую симфонию Калинникова. Эта симфония пронизана русскими мелодиями, задушевными мотивами, чувствами, которые могли родиться в душе человека, вскормленного величайшей в мире культурой – русской культурой. Это потрясение долго волновало меня. Некоторое время я жил неподалеку от здания Ленинградской филармонии и за несколько сезонов прослушал весь классический репертуар прекрасного оркестра под управлением Курта Зандерлинга, Евгения Мравинского, Арвида Янсонса. И уже позже – Юрия Темирканова. Разумеется, в музыке я чистый дилетант. Читать ноты не умею и вообще никакой музыкальной теории не изучал. Правда, в моей жизни было время, когда я с моим магаданским другом Евгением Бураковым озвучивал на чукотском языке цикл «Бесед о музыке». Женя писал тексты на русском, я переводил, записывал текст, а Бураков, который работал музыкальным редактором на радио, подбирал музыкальные иллюстрации. Таким образом мы «прошли» певческие голоса – мужские и женские, духовой оркестр и половину симфониче ского оркестра. Потом что-то случилось, наши радиопередачи прекратились. Но многие земляки запомнили меня как большого знатока серьезной музыки и жалели, что я занялся чистой литературой, вместо того чтобы услаждать слух моих земляков лучшими произведениями мировой музыкальной классики. Сейчас я живу в Петербурге, недалеко от Смольного собора, одного из замечательнейших образцов архитектуры позднего барокко. В этом соборе есть концертный зал с удивительной акустикой, купол теряется в невообразимой вышине и уходит в небо, точно так же как уходят в небеса волшебные звуки музыки. Теперь этот собор для меня как домашний концертный зал, и я могу пойти туда в любой день. Музыка сопровождает меня всю мою жизнь. Это для меня как эйнэн – эйнэв, как зов, призыв к деятельности. И я повинуюсь ему, отзываюсь на этот призыв.
Н
НАКАЗАНИЕ
Наказание, естественно, это расплата за проступок, за преступление. В чукотском обществе, как и в любом человеческом сообществе, оказывались люди, которые нарушали общепринятые, хотя и неписаные законы и установления. И существовали строгие меры, которым подвергались нарушители общественных правил. Хотя в литературе тангитан о луоравэтланах, особенно времен первых встреч с ними, отмечалась необыкновенная честность чукчей. Но это было не совсем так. Если что-то поручалось охранять или оставлялось под поручительство какого-нибудь местного жителя, можно было быть уверенным, что все будет в полной сохранности. Но и в то же время мои соплеменники не брезговали прихватывать то, что плохо лежало. Но тайное присвоение даже малой вещи у своего соплеменника почиталось большим позорным проступком, и виновник расплачивался за это всеобщим презрением со стороны своих земляков. Я помню большую семью Кымыргинов из нашего селения, которая вынуждена была в полном составе переселиться в Энурмин, селение на северном берегу Чукотского полуострова. А вина была в том, что старший Кымыргин снял из чужого капкана песца, и эта кража была замечена. Никто не судил Кымыргинов, не клеймил вслух проступок главы семьи, но все в Уэлене знали, что Кымыргин украл. И вся семья оказалась в изоляции: никто с ними не общался, не разговаривал, встречая на улице кого-нибудь из Кымыргинов, переходили на другую сторону, отворачивались. И Кымыргины уехали. Но почему-то считалось, что украсть у тангитана не было таким уж позорным проступком, как у своего. С появлением спирта чаще всего крали огненный напиток. И на это даже смотрели как на какую-то доблесть, проявление особой смелости. Воров, пойманных у складов, арестовывали, судили и посылали отбывать наказание в районный центр, где была тюрьма. Кстати, такие воры пользовались тайным сочувствием своих земляков. До отправления на место отбывания наказания воров держали в нетопленой бане либо запирали на ночь в домике сельского Совета. Вторая категория осужденных советским судом состояла из хулиганов, драчунов. Все проступки такого рода совершались в пьяном виде. Мой двоюродный брат Теркие шесть раз сидел в лагере, а в промежутках ухитрился «настрогать» семерых детей. Его «преступное прошлое» создавало ему своеобразный героический ореол. На моей памяти было два или три случая, когда моих соплеменников приговаривали к наказанию за экономические преступления – растраты, хищения денежных средств. Эти преступления совершались скорее по неведению, малограмотности и отсутствию опыта. Политических у чукчей, если не считать раскулаченных богатых оленеводов, не было, не водились и диссиденты. Больше всего мои земляки боялись наказаний по партийной линии. У меня был хороший знакомый по имени Танат, который работал на звероферме в Уэлене. Это предприятие новое для Чукотки. Раньше чукчи добывали пушнину в тундре – ставили капканы или стреляли песцов из мелкокалиберной винтовки. Танат был на хорошем счету и пользовался таким авторитетом, что даже был рекомендован в члены коммунистической партии. Все было хорошо, но, на беду, в один из революционных праздников, когда спиртное рекой лилось в местном магазине, Танат перебрал свою норму и в пьяном угаре вдруг проникся необыкновенным сочувствием к своим подопечным – чернобурым лисам. Он пошел на звероферму, выкрикивая по дороге: – Свободу зверям! Это вольные существа, и большой грех держать их взаперти! Всякое животное по существу свободное! Танат оттолкнул сторожа и принялся открывать клетки. Он успел выпустить с десяток лис, но тут подоспевшие ребята скрутили, обтерли снегом пьяного, дали слегка протрезветь и проводили домой. На следующее утро Таната вызвали сначала в контору совхоза и, как следует отчитав, сказали, что он должен оплатить стоимость десяти чернобурок. Танат, пряча от стыда лицо, покорно согласился, но тут в контору зашел секретарь парткома и заявил, что это только начало расплаты. – Ты еще ответишь и по партийной линии! – строго и зловеще произнес секретарь парткома. Танат не знал, что это такое – наказание по «партийной линии». Судя по тону и выражению лица партийного начальника, это не сулило ничего хорошего. Прошло несколько дней. Половину сбежавших лисиц поймали недалеко от зверофермы: они предпочли держаться поближе к своим кормушкам. Еще двух нашли растерзанными. Видимо, над их дорогими шкурками поработали собачьи зубы. Практически Танату пришлось оплатить лишь пять шкурок, и он уже успокоился, стараясь не вспоминать свое постыдное поведение. Он перестал пить и сторонился своих подвыпивших земляков. И вдруг, когда происшествие вроде бы начисто стерлось из памяти, из райкома пришло предписание явиться на заседание бюро по персональному делу кандидата в члены КПСС Таната Василия Ивановича. Предписание было на телеграфном бланке. С этой бумажкой Танат побежал к своему ближайшему соседу – косторезу Тукаю. Когда-то Тукай был большим партийным начальником, даже одним из секретарей райкома, но что-то случилось, сломалось в его карьере. Он даже отсидел в лагере срок. Но вернулся домой несломленный, зато умудренный таким большим жизненным опытом, что все население стойбища ходило к нему за советами. Танат показал Тукаю телеграмму и спросил: – Что может мне грозить? Тукай долго вертел телеграмму, несколько раз перечитывал, изучая каждое слово, потом спросил: – Под судом был? Не был. Взыскания по партийной линии были? Не были… Ущерб возместил? Возместил. Хорошо. Думаю, что ничего серьезного тебе не грозит. Скорее всего – поставят на вид… – Как это – на вид? – Такое есть партийное наказание, – туманно пояснил Тукай. – Это самое легкое наказание. Но Танат мысленно не согласился с ним. Ранним утром он запряг собак, запасся кормом и отправился в бухту Святого Лаврентия, где располагались районные власти. Зима давно повернула на весну, и на Чукотке наступило время света, когда солнце большую часть суток находилось на небе. Свет отражался от снега, и без солнцезащитных очков легко можно ослепнуть. У Таната таких очков было даже две пары. Упряжка пересекла заснеженную лагуну и углубилась в тундровые холмы. Дорога была накатана, давно не мела пурга, и кое-где даже виднелись следы полозьев. Танат удобно устроился на нарте, боком к движению. Можно было бы даже задремать, но тревожные мысли беспокоили сердце. Он представлял себе, как войдет в кабинет, украшенный портретами членов Политбюро, предстанет перед членами районного партийного бюро, усевшимися за длинным столом. За другим столом с тремя телефонными аппаратами будет сидеть первый секретарь Иван Петрович Будинцев и будет строго смотреть на него – провинившегося. Танат уже был в этом кабинете, когда ему вручали кандидатскую карточку. Говорили всякие хорошие слова. Выходило так, что коммунистическая партия Советского Союза только и ждала того момента, когда в нее вступит зверовод совхоза «Герой труда» Танат. А теперь он предстанет перед районным начальством преступником, человеком, унизившим достоинства не просто человека, а человека будущего, будущего коммуниста. Насколько Танат разумел русский язык, выражение «поставить на вид» в его понимании заключалось в том, что провинившегося ставили где-нибудь в людном месте – на площади, так, чтобы прохожие видели его. Найдутся и такие, которые специально придут поглазеть. Интересно, наказанного связывают или он просто стоит вольно? А если возьмет и убежит? Наверное, где-нибудь поблизости ставят на страже милиционера или какого-нибудь партийного активиста. Как стыдно! В районном центре у Таната было много знакомых. Кто-то будет сочувствовать, кто-то втайне злорадствовать. Разные люди. Показался Нунямский мыс и маяк на нем. Маяк еще не работал, он засветит свой луч, когда уйдет лед и мимо мыса пойдут большие корабли. Танат подъехал к маяку и остановил упряжку. Решил покормить собак: когда еще найдется время позаботиться о них. Был еще ранний час. Отсюда езды да райкома не больше часу. Танат уселся на нарту и вдруг почувствовал к себе такую жалость, что по его щекам невольно потекли слезы. Тем временем в райкоме уже собрались члены бюро. Покончили быстро с первым вопросом, приступили к другим. Наградили почетной грамотой оленевода из курупкинской тундры Кутая. Персональное дело кандидата в члены КПСС Таната стояло в графе «разное». Когда дело дошло до него, вдруг в комнату вошел милиционер в меховой куртке. Он был взволнован. – Товарищ Будинцев! Нунямские охотники только что вынули из петли на маяке Таната, охотника из Уэлена. Он мертв. Тело доставили в районный морг. Секретарь райкома помолчал и ровным голосом сказал: – Тогда на этом и закончим сегодняшнее заседание бюро. НЕМЕЦ немцы Это новое слово и понятие в чукотском языке появилось в начале сороковых годов, когда началась Великая Отечественная война. В нашем селении ввели карточки, вменили в обязанность охотникам проходить строевую подготовку. На стенах деревянных домов, внутри магазина развесили плакаты, призывающие к бдительности: враг не дремлет. Я хорошо представлял себе этого недрем лющего врага, и его переживания мне были понятны и близки, хотя, конечно, я никогда и никому в этом не признавался. Дело в том, что мне часто поручалось охранять от собак распяленные на земле или на снегу сырые моржовые кожи, нерпичьи и лахтачьи шкуры, медвежьи шкуры. Борьба со сном была мучительна. Держать открытыми глаза было фи зически больно. Но война была далеко. Нашими ближайшими врагами предполагались японцы. Немцы были очень далеко. И вдруг оказалось, что немец совсем рядом! Мало того, он в нашем селении жил в небольшой яранге на лагунной стороне ряда жилищ. Как этот немец попал в наше селе ние, никто толком не помнил. Может быть, он был из тех аляскинских золотоискателей, которые надеялись отыскать нетронутые запасы денежного металла на азиатском берегу Берингова пролива. Он был женат на чукчанке Мину, и у них было двое золотоволосых детишек моего возраста – Володя и Надя, которые учились вместе со мной в одном классе. Фамилия у них была – Мелленберг! Мелленберг работал водовозом на полярной станции. Летом он катил с громыхающей бочкой, водруженной на колесную нарту с собачьей упряжкой, от уэленского ручья до полярки, а зимой возил лед с дальнего берега лагуны. Мелленберг отличался редкой молчаливостью. Никто не мог похвастаться, что ему удалось побеседовать с водовозом. Внешне Мелленберг был огненно-рыж и весь зарос до самых глаз тугой, яркой растительностью. Издали он скорее походил на какое-то экзотическое животное. При этом он довольно быстро освоил охотничье дело, ходил промышлять нерпу и лахтака на морской лед, а летом примыкал к какой– нибудь байдаре и вставал на носу с китовым гарпуном. Многих в Уэлене он поражал удивительно нежным отношением к своей болезненной жене Мину, старался освободить ее от тяжелой работы, сам носил тяжелый таз с собачьим кормом, рубил дрова… Надя и Володя стараниями своего заботливого отца всегда были аккуратно одеты и учились хорошо и старательно. На Мелленберга никто не обращал никакого внимания, пока не началась война. Когда Германия напала на Советский Союз и с материка начали приходить тревожные сообщения о бесчинствах немецких оккупантов на захваченных территориях, кто-то вспомнил, что Мелленберг – немец! Немец в Уэлене! Эта новость мигом распространилась по всему селению. Сразу стали вспоминать странности в поведении молчаливого водовоза, его привычку подниматься на утес Еппын и оттуда обозревать в бинокль морской горизонт, его упорное нежелание вступать в продолжительные беседы. Вспомнили, что говорил он по-русски плохо, чукотский знал едва-едва… Почти одновременно большинству жителей Уэлена пришла мысль о том, что Мелленберг самый что ни на есть немецкий шпион, засланный несколько лет назад. Даже его демонстративное нежное отношение к жене посчитали явным проявлением его чужеродности. Местное русское начальство некоторое время находилось в растерянности, но, посоветовавшись с районными властями, решили на всякий случай немца изолировать. Его посадили в баню полярной станции. Правда, часового снаружи не поставили и каждый, кто хотел, мог посещать арестованного, приносить ему поесть, а жена чуть ли не ночевала вместе с ним в тюремной бане. Надю и Володю посадили за отдельную парту, но наше отношение к ним мало изменилось. Время от времени немец Мелленберг выходил из тюрьмы, запрягал собак и отправлялся на другой берег лагуны за пресным льдом. Несмотря на свой статус военнопленного, Мелленберг продолжал исполнять свои обязанности. Раз в неделю, когда баню топили, арестованного вообще отпускали домой, и он мог отдохнуть от неволи в привычной, семейной обстановке. Предполагалось, что арестованного немца вывезут на материк с первым же пароходом, как только льды уйдут с берегов Уэлена и откроется навигация. Хотя шли разговоры, что его могут вывезти и самолетом. Время шло, зима перевалил через свой экватор, прибавились солнечные дни, а люди в Уэлене уже привыкли, что у них есть свой пленный немец. Поначалу любопытствующие приезжали из соседних стойбищ взглянуть на живого фашиста, а потом интерес к Мелленбергу совсем пропал. И все же Мелленберга увезли. Правда, не пароходом, а на гидрографиче – ской шхуне «Вега». Несколько лет назад я застрял из-за непогоды в селении Гижига на севере Магаданской области. Проходя по коридору служебного этажа аэропорта, я увидел на двери табличку: «Старший метеоролог Н. Мелленберг». И впрямь это оказалась моя землячка и соученица по уэленской неполной средней школе – Надежда Мелленберг! Она обрадовалась нашей встрече, и в тот вечер она рассказала мне подлинную историю своего отца. Оказалось, что Отто Мелленберг никаким немцем и не был. Скорее всего, он происходил из поволжских мордвинов и в детстве оказался среди беспризорников, кочующих по железнодорожным станциям вдоль великой Сибир ской магистрали. Время от времени власти устраивали облавы на стаи беспризорников, загоняли их в приюты, мыли, чистили, избавляли от полчищ вшей, одевали во все чистое, но через некоторое время значительная часть подростков снова уходила скитаться. Мелленберг таким образом добрался до только что организованной республики немцев Поволжья, в очередной раз попал в облаву и оказался под попечением доктора Отто Мелленберга, этнического немца, который не только пригрел несчастного сироту, но и дал ему свои имя и фамилию. Так, под именем Отто Мелленберга, отец Нади вошел во взрослую жизнь. Неведомыми путями он добрался до Дальнего Востока, некоторое время работал во Владивостокском порту, потом устроился матросом на пароход, идущий на Чукотку. В Уэлене во время разгрузки Отто Мелленберг повстречал Мину и влюбился в чукотскую девушку. Он решил остаться в чукотском стойбище, вошел в семью морского охотника, овладел нелегким ремеслом промысловика, а затем устроился водовозом на полярную станцию. – Он был мастер на все руки, умел все делать, – рассказывала Надя. – Но более всего он отличался необыкновенной нежностью по отношению к своей жене и буквально носил ее на руках. При этом он терпеть не мог пустых разговоров и от этого прослыл молчуном, хотя отлично говорил и по-русски и по-чукотски… А вот немецкого он не знал. Отто Мелленберг бесследно сгинул в ГУЛАГовских лагерях и так и не вернулся в Уэлен. От него остались Надя и Володя… Мама, не выдержав горестной разлуки, умерла в конце войны…








