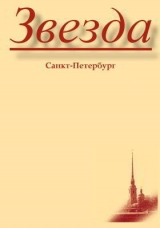
Текст книги "Дорожный лексикон (Главы из книги)"
Автор книги: Юрий Рытхэу
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
КИТ ръэу
Так по-чукотски звучит название самого большого морского млекопитающего животного, вошедшего в обиход приморского арктического жителя северо-востока Азии с древнейших времен. Естественно, разновидностей китов множество, и для каждого из них в чукотском языке есть свое обозначение. Кит давал чукче все. Его кожа с толстым слоем внутреннего жира целиком и полностью шла в пищу. Топленый жир освещал и обогревал жилище, мясо употреблялось и свежим, и заготавливалось впрок, а полоска кожи с жиром – мантак, или итгильгын, – считалась изысканным лакомством… Внутренности также полностью утилизировались, китовый ус шел на полозья для нарт, из него вырезалась удивительно прочная рыболовная леска, которая не индевела, на нее не нарастал лед. Огромные кости, особенно челюстные, составляли существенную часть каркаса жилища, своим изгибом они как бы специально были приспособлены, чтобы из них создавать конический свод яранги, противостоящий любому ураганному ветру. Долгие годы китовый ус, который тангитанские модницы употребляли для изготовления дамских корсетов, служил устойчивой валютой в торговых операциях прибрежных чукчей с американскими торговцами. Связка китового уса имела твердый эквивалент в долларовом исчислении. Именно на это мои соплеменники покупали огнестрельное оружие, патроны, деревянные вельботы, брезент, огненную воду и даже небольшие китобойные шхуны. Но вместе с тем кит считался особо почитаемым священным существом, и именно ему посвящена значительная часть сказаний и легенд. Так, согласно легенде, наш чукотский народ произошел от Ръэу и первоженщины Нау. Сначала Нау родила китят, которые выросли в лагуне, а следующее потомство уже было человеческим. Множество песен и танцев посвящено киту, и каждый раз, когда охотникам удавалось загарпунить его, в честь кита устраивалось особое празднество, которое порой продолжалось несколько дней. За всю мою долгую жизнь мне довелось не так уж много поохотиться за китом. В Уэлене я еще был мал, чтобы мне можно было доверить гарпун. Обычно нас, мальчишек, брали на этот ответственный промысел для того, чтобы мы исполняли вспомогательную работу – распутывали длинные ременные лини, привязывали к ним пыхпыхи – туго надутые пузыри из тюленьей кожи, откачивали воду… Сначала искали добычу. Для этого забирались довольно далеко в открытое море, так что из поля зрения почти исчезали яранги и немногочисленные деревянные домики Уэлена. Косу нашу можно было угадать только по мачтам радиостанции. Но случалось, что кит сам подплывал к берегу. И тогда наблюдатель, который сидел с мощным биноклем на утесе Еппын, давал знак охотникам. Быстро, почти бесшумно спускали на воду заранее приготовленные вельботы и байдары, а по всему селению давалась команда – соблюдать тишину. Собак отводили подальше от берега, на берег лагуны, матери с младенцами забирались в глубь меховых пологов, чтобы заглушить детский крик. Если был ветер – на охотничьих байдарах и вельботах поднимали паруса, вставляли в уключины длинные весла. Прежде кита надо загарпунить, навесить на него воздушные поплавки– пыхпыхи, чтобы он не мог уходить в морскую пучину. А для этого надо было подойти к морскому великану на расстояние достаточное, чтобы вонзить в него брошенный рукой гарпун. Иные рулевые подбирались настолько близко, что можно было дотронуться ладонью до китовой кожи, облепленной белыми пятнами паразитов-ракушек. Сердце замирало, когда из морской пучины, из зеленоватой глубины стремительно неслось длинное, часто вдвое, втрое превосходящее по длине байдару китовое туловище. Голова уже была далеко впереди, уже фонтан взметывался над морем, а хвостовой плавник только рассекал водную поверхность. Когда кит уже тащил на себе четыре или пять пыхпыхов, преследователи строились в круг и начинался расстрел кита. В древние времена, чтобы умертвить морского великана, надо было воткнуть в определенное место его длинного тела, в область сердца, копье. И это мог делать только опытнейший китобой, обладающий большой физической силой. В современной охоте на кита для его умерщвления применялось огнестрельное оружие, обыкновенные охотничьи карабины, противотанковые ружья, специальные заряды, выпускаемые из особых китобойных пушек. После того как морской великан окончательно испускал дух, его осторожно притягивали к байдаре или вельботу. Острыми ножами в его хвостовом плавнике вырезали специальные отверстия, в которые пропускали буксирные ремни. Попутно прихватывали изрядные куски итгильгына, или мантака, и съедали тут же на охотничьем судне. Это было такое вкусное лакомство, которое невозможно сравнить ни с какими конфетами. Вельботы и байдары строились в кильватер, и начиналась долгая буксировка добычи. А на берегу уже ждали. В Уэлене честь встречи священной и богатой добычи принадлежала Атыку, певцу, шаману, знатоку древних обычаев. Он обычно стоял впереди толпы, у самой кромки воды. Волны лизали его непромокаемые торбаза. На деревянном блюде лежали священные дары – обычно небольшие кусочки пожелтевшего оленьего сала. И когда буксируемый кит касался головой прибрежной гальки, Атык бросал куски жертвенного угощения в воду и шептал одному ему ведомые заклинания. Пока разделывали кита, в самом большом классе уэленской школы шли приготовления к Празднику Кита. Торжество начиналось, когда от огромного китового каркаса отделяли последний кусок и уносили в мясохранилище. Звуки бубнов далеко разносились, уносились на морской берег, где на волнах качался красный каркас разделенного кита, мчались вдаль, за горизонт, где еще можно было разглядеть китовые фонтаны. Певцы благодарили китов, своих прародителей, за щедрый дар, за богатую добычу, за великую жертву. Торжественная церемония могла продолжаться до утра. В стародавние времена Праздник Кита происходил в специальной яранге, которая называлась клегран – дословно «мужской дом». В дыму костра под крышей из моржовой кожи словно в морской пучине плыли фигуры китов и других морских животных, птиц, а в дымовое отверстие – песни, сочиненные еще далекими предками, возможно, помнившими прародителя чукотского народа великого Ръэу – Кита, превратившегося в человека. Я пребывал в полной уверенности в своем китовом происхождении, пока не услышал в школе, что, оказывается, человек на земле произошел от обезьяны. Об этом совершенно твердо и уверенно заявил учитель Дунаевский. При этом он сослался на английского ученого Чарльза Дарвина. Эта обезьяна была изображена на одной из страниц учебника по естествознанию. И чем больше я вглядывался в портрет своего предполагаемого предка, тем более меня охватывало отвращение. Трудно было поверить, что это твой, пусть далекий, но родственник. В таком состоянии я пришел домой. Бабушка, заметив мой погрустневший вид, выпытала источник моего плохого настроения. Я все рассказал. Бабушка задумалась, а потом задумчиво произнесла: – Знаешь, среди тангитан разные люди попадаются. Те русские попы, которые пытались насаждать нам своего Бога, подобного человеку, утверждали, что именно Он и создал человека. Сначала мужчину, а потом из его ребра женщину. Но это русские тангитаны. Так этот Дарвин англичанин? Видно, англичане и впрямь произошли от обезьян… Но ты-то знаешь, кто твой настоящий предок – Кит, Ръэу! КИНО этого слова на чукотском языке нет И появилось оно вместе с советским кино, ибо раньше никакого другого кино на Чукотке не было. Первая кинопередвижка была на полярной метеорологической станции. Рассказы моих земляков-кинозрителей отличались чудовищной неправдоподобностью. Говорили, что прямо на стене, на большом куске белой материи, двигались живые люди, животные, мчались машины, шла самая настоящая живая жизнь. Некоторые особо чувствительные зрители не выдерживали и выбегали из кают-компании, служившей кинозалом. Рассказы эти возбуждали любопытство, но детей в кино не брали. Попытки что-то подглядеть в окно не имели успеха: в комнате было темно и лишь в отдалении мелькали какие-то тени. На полярной станции был только один фильм, «Пышка», немой фильм по известному рассказу французского писателя Мопассана. Все военные годы в Уэлен больше не привозили других фильмов. Но каждую субботу, почти без исключений, в кают-компании полярной станции собирался уэленский бомонд, состоявший из учителей, работников торгово-заготовительной базы, начальника пограничной заставы. Фильм многократно рвался, его клеили, и к концу войны от него оставалась едва ли половина. Но терпеливые и верные кинозрители знали досконально содержание фильма, и, если на сеанс забредал какой-нибудь гость, не видевший полной версии «Пышки», завсегдатаи ему любезно рассказывали недостающие фрагменты. Первый настоящий кинофильм я увидел в пионерском лагере на чукотской культбазе (см. культбаза). Это был знаменитый «Чапаев», повествующий о подвигах легендарного героя гражданской войны Василия Чапаева, командира дивизии Красной Армии. Я впервые видел, как сражались между собой тангитаны, резали друг друга длинными острыми ножами, расстреливали из винтовок и пулеметов. Эта безжалостная резня так на меня подействовала, что в ту ночь я долго не мог уснуть, ворочался на кровати, боясь упасть с подставки на пол. Жестокое отношение людей друг к другу поразило меня до глубины души. Показывали еще какие-то другие фильмы, но в большинстве из них ручьем лилась кровь, огромные поля устилались горами трупов. Вскоре привезли кинопередвижку и в наш Уэлен. К проекционному аппарату прилагалось ручное динамо, которое надо было крутить изо всех сил, чтобы добывать свет для проектора. Работа эта была адова, и надо было обладать недюжинной силой, чтобы проворачивать тугую рукоятку. Кино увлекло моих земляков. Но почему-то именно батальными сценами, войнами. Внутренний драматизм кинопроизведений, проблемы между тангитанами мало интересовали моих земляков. Самой большой популярностью пользовались фильмы о войне, где, разумеется, победителями всегда оставались наши, красные. Даже в самые драматические моменты кинодействия, когда, казалось, не оставалось никакой надежды, когда горстка красных партизан явно терпела поражения и готова была сложить головы, откуда-то из-за бугра, пригорка, лесного массива появлялась красная конница с развевающимся революционным флагом у переднего всадника. Красные кавалеристы размахивали шашками и саблями, стреляли из винтовок и револьверов, а по тесному залу одного из классов нашей уэленской школы, проносилось: «Наши! Наши! Красные!» Ну и, конечно, непременная победа наших доблестных революционных войск. Сначала у фильмов в Уэлене появился звук. А уже перед самым моим отъездом из Уэлена после окончания неполной средней школы привезли первую цветную кинокартину «Василиса Прекрасная», русскую сказку о русской красавице, вообще о русских красавицах. Мои земляки только недоумевали, почему в наше село приезжали отнюдь не экранные красавцы, а мужики и бабы далекие от сложившегося при просмотре фильмов идеала тангитана. Помню, как перед моим отъездом из Уэлена в тесной комнатке нашего сельского Совета собрались уважаемые люди нашего селения, для того чтобы сказать мне напутственное слово. Советовали выучиться на большого начальника, на радиста, на продавца, на учителя, а Кукы, известный китовый гарпунер, мечтательно произнес: – Как было бы прекрасно, если бы ты выучился на артиста звукового кино! Эти напутствие я не раз вспоминал, когда снимался в телевизионном фильме Анатолия Ниточкина «Самые красивые корабли» по моим произведениям. Играл я старика, ворчливого, но мудрого, как полагалось. Хотя я уже был к тому времени не молод, все равно меня старались «старить» и гримерши возились со мной иногда несколько часов, чтобы вылепить из моего лица облик старого, мудрого оленевода. Тогда я на собственной шкуре познал всю тяжесть нелегкого ремесла киноартиста, необходимость терпения и умение уживаться с очень неприятными для тебя людьми. Даже после завоевания телевидением внимания всего человечества кино остается любимейшим зрелищем человека. До того, как в самых отдаленных селениях Чукотки появилось телевидение, кино оставалось излюбленным видом развлечения и времяпрепровождения. Но первое впечатление от увиденного на стене нашей старой школы в Уэлене прочно врезалось мне в память, и я часто вспоминаю эти зимние вечера, когда со всего селения в школу стекались и стар и млад, чтобы увидеть призрачную, такую далекую и часто такую неправдоподобную тангитанскую жизнь.
КОРАБЛИ ытвыт
Когда-то давно я написал повесть «Самые красивые корабли». Впоследствии был снят фильм под таким названием, но его содержание было далеко от первоначального тек ста. Сама повесть мне ближе, хотя она в свое время подверглась жестокому цензурному уродованию, вплоть до изменения национальной принадлежности главного героя. Как многие мои книги, эта вещь родилась от изначального смутного проблеска, искры, ускользающего впечатления или вдруг появившегося и представшего в памяти удивительно яркого воспоминания. В детстве моим любимым местом был берег моря. Особенно летом. Обычно я читал книги в старом дырявом вельботе под пронзительные крики морских птиц, поднимался на скалистый утес за маяком и устраивался так, чтобы видеть перед собой весь морской простор, простирающийся – страшно вообразить! – до самого Северного полюса! Отрываясь от страницы книги, я обращал взор на море и часто замечал на горизонте силуэты плывущих мимо Уэлена кораблей. Иногда они шли кильватерной колонной вслед за мощным ледоколом, но чаще это были одиночные суда. Некоторые из них бросали якоря на рейде нашей длинной галечной косы. Это были так называемые «снабженцы», привозившие продовольствие, строительные материалы, огромное количество черного угля, бочки с горючим… На этих кораблях в Уэлен приезжали новые люди – работники торговой базы, полярники, пограничники, учителя… Те же, у которых закончился срок договора, обычно трехлетний, уплывали на пароходе. Обычно весть о прибытии парохода первым сообщал специальный наблюдатель, который сидел в небольшом земляном углублении на мысе Еппын, откуда морской простор был виден как на ладони. Вооруженный мощным цейссовским биноклем времен оживленной торговли с американцами, наблюдатель держал в поле особого внимания восточную четверть горизонта. Завидев дымок или еще силуэт приближающегося судна, наблюдатель бегом, рискуя свернуть шею, мчался вниз на галечную косу к ярангам с истошным криком: – Пароход идет! Почему-то я любил встречать пароход ранним утром. Выходишь на рассвете из яранги, бросаешь взгляд на море и вдруг видишь на вчера еще пустынной поверхности моря стоящий на якоре корабль. Сердце прыгает от радости! И все же самыми загадочными, непостижимыми, осколками другого мира, смутными знаками существования иной земли, такой далекой от нашей уэленской косы, были проходящие корабли. Те, которые проходили мимо. Они были для меня самыми прекрасными – и поэтому та давняя повесть так и называлась – «Самые красивые корабли». Уэленские чукчи – морской народ. Море кормило нас, морем мы путешествовали, посещая соседей, науканских и аляскинских эскимосов. Плавали на острова Большой и Малый Диомид, пересекая Берингов пролив. Иногда мор ские дороги заводили моих родичей на остров Святого Лаврентия, Сиреники и Энмэлен, на южном, тихоокеанском берегу Чукотского полуострова. Иногда в море погибали охотники. Это случалось и зимой, на морском льду, и летом – в студеной пучине океана. Чукчи и эскимосы издавна строили кожаные байдары, обладающие прекрасными мореходными качествами. Правда, они не пересекали океаны и самые отдаленные плавания совершались лишь к берегам Аляски. Зато они по достоинству оценили сначала казацкие кочи, а потом парусные суда, хлынувшие к берегам Северо-Восточной Азии с началом промышленного китобойного промысла. Некоторые особо зажиточные чукчи и эскимосы, нажившие немалые средства на продаже китового уса, моржовых бивней и пушнины, обзаводились настоящими парусными шхунами. Я уезжал навсегда из Уэлена на эскимосской кожаной байдаре в июне тысяча девятьсот сорок шестого года. И все путешествие до Ленинграда, точнее до Владивостока, было чередой сменяемых на всем протяжении долгого пути разного рода морских судов. В тот год суровая и затяжная весна долго держала у берега ледовый припай, и мне пришлось добираться до первого своего транспорта через ропаки, ледяные обломки, торосы, перепрыгивая трещины, обходя разводья. Мотора на байдаре не было, но кожаное суденышко резво бежало под тугим ветром мимо мыса Сенлун, вдоль берегов Дежневского массива. Слева оставался остров Имаклик, за ним прятался второй, уже меньший остров Иналик. На обеих островах жили эскимосы – морские охотники. Правда, на нашем, советском острове от древнего поселения оставались лишь развалины каменных нынлю: имакликские эскимосы были насильно переселены в Нуукэн и Уэлен, чтобы воспрепятствовать их общению с американскими эскимосами, большинство из которых были их кровными родственниками. Я прожил в Нуукене почти полтора месяца, охотясь на моржа, собирая яйца на отвесных скалах, повисая на ремне над морем, жестоко поливаемый едким пометом встревоженных кайр. Ни одно судно не ушло за это время на юг, и я уже подумывал навсегда остаться в этом гостеприимном селении, вросшем стенами своих нынлю в скалы. Была даже идея жениться. Правда, девушка, которая мне нравилась, была уже замужем за секретарем райкома комсомола и у нее уже был ребенок. Следующий отрезок моего пути в университет я проделал на деревянном вельботе моих уэленских земляков, которые везли в бухту Святого Лаврентия председателя окружного Совета товарища Отке. Атук стояла на берегу с ребенком на руках. Я смотрел на нее, и у меня сжималось сердце: вероятно, эта была моя первая серьезная влюбленность. На подходе к бухте Св. Лаврентия обнаружилось, что она забита льдом, и нам пришлось провести две ночи в опустевшей по случаю каникул крохотной школе, в которой был всего лишь один класс. Наконец южным ветром разогнало в бухте лед. Следующий мой корабль назывался «Михаил Водопьянов» и представлял собой довольно мощный морской буксир, совершенно не приспособленный для перевозки пассажиров. Весь путь я провел на открытой палубе – внутри корабля для посторонних вообще не было места. Судно входило в бухту Провидения ранним утром. Впервые в жизни я видел удивительно красивый фьорд, врезанный в крутые склоны. На гладкой спокойной воде у причальной стенки и на рейде стояли те самые красивые корабли, которые проходили мимо Уэлена и при виде которых у меня сжималось сердце от непонятной тоски. Мне казалось, что при таком количестве кораблей мне не составит никакого труда сесть на попутное судно и отправиться дальше – во Владивосток, откуда по железной дороге я намеревался достичь своей цели – Ленинградского университета. Но оказалось – все суда шли на север. Через Берингов пролив по Северному морскому пути они плыли на запад, оставляя груз даже в самых маленьких прибрежных стойбищах. Среди скопища кораблей особой статью и красным корпусом выделялся ледокол «Красин», известный своими легендарными плаваниями по Северному Ледовитому океану. По крутым улицам портового поселка Провидения гуляли моряки и заигрывали с молодыми женщинами-грузчицами, завербованными в отдаленных прибрежных селениях на берегу Ледовитого океана. Внешний вид тангитанских моряков несколько разочаровал меня: большинство из них были одеты в грязную робу и явно перебирали со спиртом, свободно продававшимся в местном магазине прямо из железной бочки. Чтобы не болтаться без дела в портовом поселке, я устроился на гидрографическое судно «Темп» палубным матросом. Это был довольно симпатичный на вид корабль с крохотной командой. На нем я ходил в Сиреники, Чаплино и Энмелен. Проверяли маяки и доставляли грузы на полярные станции. Мне нравилась работа на гидрографическом судне, и я даже подумывал остаться на постоянную работу в бухте Провидения, тем более что короткое северное лето подходило к концу. В Анадырь, в центр Чукотского округа, шел большой пароход американской постройки серии «либерти» «Петропавловск». Я быстро рассчитался с гидрографической базой и погрузился на большой железный пароход, Впервые я был на настоящем большом морском судне. Два года я провел в Анадыре, пока на другом большом пароходе «Жан Жорес» не отплыл четвертого августа 1948 года во Владивосток. Это было мое последнее морское судно на долгом пути в Ленинградский университет. И теперь мне приходит мысль о том, что вот они и есть мои самые красивые корабли, на которых я проделал долгий славный путь от родовой чукотской яранги в Уэлене до Ленинградского университета.
КУЛЬТБАЗА кульпач
Это слово расшифровывается как культурная база. Идея об учреждении культурных баз родилась в недрах Комитета по делам Севера при Совнаркоме РСФСР в самом начале деятельности советской власти на дальнем Севере. С помощью такого рода форпостов новой жизни и новой идеологии предполагалось распространить культуру советской жизни на всем необъятном пространстве Советского Севера. Культбаза в своем составе должна была иметь современную больницу, школу-интернат, магазин с широким ассортиментом товаров, торгово– закупочную базу, пушной склад, механическую мастерскую, метеослужбу и радиостанцию, несколько передвижных киноустановок, курсы по ликвидации неграмотности для взрослых аборигенов, ветеринарную службу широко профиля, пекарню, баню, прачечную, типографию для выпуска газеты и даже питомник для разведения племенных ездовых собак. Как видно из этого перечня, цели этого культурного учреждения были весьма благородны. Особенно в области медицины и образования. Первую культбазу на Чукотке построили в начале тридцатых годов прошлого столетия на тундровом, топком берегу залива Кытрын, или, по-русски, залива Святого Лаврентия, который, однако, в советском обиходе называли просто Лаврентием. На берег выгрузили детали для десятка деревянных домов, кирпич и другие строительные материалы. На прибрежной гальке выросла высокая гора черного каменного угля. Так как сам поселок должны были возвести на зеленой тундровой равнине, за мелководным ручьем, к нему от морского побережья протянули рельсы для узкоколейной тележки. Однако новоприбывшие не учли одного обстоятельства. Хотя частной собственности на землю на Чукотке не существовало, считалось, что все эти земли от мыса Кытрыткын, далее вглубь тундры и бухты, являлись угодьями многочисленной семьи Пакайки, чья яранга одиноко возвышалась у самой воды. Кроме Пакайки, в этих местах никто не осмеливался селиться. Ближайшие селения – Аккани и Нунямо – располагались достаточно далеко. Ходили смутные слухи, что Пакайка порой грабил проезжающие торговые караваны, особенно груженные тангитанскими товарами. Но хозяин будто бы не трогал своих, однако путники старались объезжать одинокую ярангу. Впоследствии мне довелось подружиться с некоторыми членами семьи Пакайки – дочкой Маюнной и сыном Рольтыном, а потом и с внуком его Николаем Макотриком, который в семидесятых годах прошлого века даже занимал пост секретаря райкома партии. Но в то время яранги Пакайки уже не было и на галечном берегу за постройками районного аэродрома невозможно было найти ее следов. Строители культбазы поначалу опасались такого соседства, наслышавшись от окрестных чукчей о неуживчивом характере отшельника. Но Пакайка вполне мирно отнесся к новым соседям и даже вроде бы обрадовался им. Культбазу построили в рекордно короткий срок. Во всяком случае, уже на следующий год задымили трубы в новеньких деревянных домах, персонал приступил к своим непосредственным обязанностям. В тундровые и окрестные приморские стойбища отправились учителя за первыми учениками, врачи и медсестры за пациентами. Ехали на нескольких упряжках, целым караваном, вместе с торговыми работниками с запасом товаров. Луоравэтлане охотно выменивали пушнину на чай, табак, сахар, муку, материю – на мужские и женские камлейки, иголки… Единственное, что огорчало местных жителей, – это отсутствие спиртного в ассортименте торговцев. Прошел слух, что спирт есть у доктора. Но когда доктор пояснил, что эта жидкость у него только для наружного употребления, его подняли на смех. В произведениях советских писателей, описывавших деятельность этих культурных учреждений, рассказывалось, какое ожесточенное сопротивление оказывали шаманы и другие темные личности из аборигенов против всего нового и прогрессивного, что привносили культбазы в жизнь обителей арктической тундры. Конечно, было и сопротивление, но настоящей вражды на Чукотке не замечалось. Чукчи охотно отдавали детей в школы-интернаты, тем более тогда еще не было гонения на родной язык, да и с обычаями и образом жизни местных жителей первые большевики– культуртрегеры обходились достаточно аккуратно. Об этом свидетельствует примечательный документ из архива известного в свое время советского писателя Тихона Семушкина, проработавшего несколько лет учителем в Чукотской культбазе в заливе Святого Лаврентия. Это протокол заседания местного Совета, на котором обсуждалось обращение коренных жителей стойбища Аккани разрешить родственникам смертельно больной старушки удушить ее руками ближайших родственников, согласно старинному обычаю и по ее просьбе. В протоколе буквально было написано: «После тщательного и продолжительного обсуждения Совет принял решение: удушение разрешить». Со временем значение культбазы понемногу сошло на нет. Почти во всех селах и даже в кочевых стойбищах оленеводов открылись школы, сельские больницы и амбулатории. В 1942 году Чукотская культбаза была упразднена и в бухту Святого Лаврентия переехали районные партийные и советские учреждения, ранее располагавшиеся в Уэлене. Но и теперь некоторые старожилы по привычке называют этот поселок, теперь официальный центр Чукотского района, – Кульпач.
КУХЛЯНКА ирьын
Я подробно описал устройство этой одежды в других местах. Но эта главная одежда чукотского человека занимала такое большое место в жизни, что историй, связанных с кухлянкой, множество. Вот одна из них. У жирника в беспамятстве лежал отчим, болевший уже несколько недель и не приходивший в сознание, несмотря на усилия молоденькой русской докторши. Отчаявшаяся мама позвала в конце концов шаманку Пээп. Считалось, что, если к больному зовут шамана, надежды больше нет. Так говорили русские учителя. Дальний жирник горел тускло, и язычок пламени удивительно напоминал одинокий зуб во рту старой шаманки, которая с сухим шелестом возилась при скудном освещении, доставала из глубин своего мехового кэркэра шаманские принадлежности, бормотала про себя, откашливалась неожиданным для тщедушного тела грубым мужским кашлем, шарила по сторонам узкими глазами без ресниц. Я сидел в углу, скрытый полумраком слабо освещенного мехового полога, и с внутренним ужасом и трепетом наблюдал за ее действиями. Однако все эти чувства заглушались моим интересом к кухлянке, которой был накрыт больной. Она была совсем новая, недавно сшитая из отборных шкур осеннего забоя молодых оленей. Через плотную шерсть не пробивались ни ветер, ни стужа, и даже капли осеннего дождя легко скатывались с коричневой поверхности. Оторочка из длинноволосого росомашьего меха защищала от студеного ветра. То же самое было нашито на концы рукавов и на длинный подол. Спереди на грудь ниспадал четырехугольный кусок шкуры белого медведя, и, довершая нарядность, на спине болтались три узкие ленточки оленьей замши, заканчивающиеся стеклянными бусинками – голубой, красной и белой. Дошивая кухлянку, мама не раз накидывала ее на меня, благо я был парень не по годам рослый. Как хорошо мне было в этой кухлянке, как я мечтал иметь такую! И когда отчим заболел, первая мысль, которая пришла мне в голову и в которой я, конечно, никому не признавался, была: после его смерти кухлянка перейдет ко мне! Нет, я не желал смерти отчиму, хотя мне часто доставалось от него. Просто по мере ухудшения его состояния моя надежда заполучить кухлянку усиливалась, и порой радость от будущего владения такой прекрасной одеждой пересиливала сочувствие и жалость к больному. Я видел себя в новой кухлянке идущим по длинной, единственной улице Уэлена от домиков полярной станции, мимо поверженного зимним ураганом ветродвигателя. Шагал, не ощущая стужи, ветер обходил мое открытое лицо, запутываясь в длинных, тонких ворсинах росомашьего меха. Я заходил в магазин, толкался среди покупателей, обходил косторезную мастерскую, учительский дом, миновал школу, потому что там надо было раздеваться и мыть руки, оставлял позади пограничную заставу и пекарню, спускался на морской лед, в нагромождения торосов. В такой кухлянке я мог бы пешком дойти до соседнего эскимосского селения Наукан. Да что там Наукан! В такой кухлянке я мог бы добраться до Аляскинского берега, до мыса Принца Уэльского, видимого в хорошую погоду в голубой дымке с высоты маячного мыса в Уэлене. А на собачьей упряжке пределов для зимних путешествий в такой кухлянке вообще не было! Шаманка таки разглядела меня в полутьме и строго велела покинуть меховой полог. В чоттагине, в холодной части яранги, где, свернувшись, лежали собаки, на китовом позвонке сидела мама, и в ее красивых глазах я заметил горе и тревогу. Мама спросила глазами: что там, в пологе, но я ничего не мог ответить, поскольку ничего не понимал в шаманских приготовлениях. Единственное, в чем я был совершенно уверен: дела у отчима совсем плохи и часы его сочтены. Я уже чувствовал себя в теплой просторной кухлянке, еще хранившей аромат оленьего помета и тундровой охры, которой мама дубила шкуры: они еще не пропитались терпким мужским потом отчима. Ждать оставалось совсем недолго, всего лишь несколько часов, в худшем случае – день-два. Прислушиваясь к стонам отчима, к глухой возне за меховой передней занавеской полога, я вздрогнул, когда зарокотал бубен и послышалось громкое, прерываемое вскриками пение. Оно усиливалось, выплескивалось в чоттагин, вырываясь из круглого отверстия отдушины, возвещая смерть, открывая дорогу в небесное бытие только что жившему человеку. Чем громче было шаманское пение, тем крепче становилась моя уверенность в обладании кухлянкой, и, чтобы не показать матери мою растущую радость, я вышел на улицу и остановился в нескольких шагах от яранги, обогнув ее с морской стороны. Подошел сын пекаря, мой школьный товарищ Петька, и сочувственно произнес: – Я слышал, твой отчим умирает… – Умирает, – ответил я с надеждой. И сразу же добавил: – Его новая кухлянка достанется мне. Петька посмотрел на меня: – Ага… Мы прошли в пекарню. Петька сказал отцу, что мой отчим умирает, и дядя Коля угостил нас свежевыпеченным хлебом и бьющим в нос сладким квасом. – Когда отчим умрет, его новая кухлянка достанется мне, – сообщил я пекарю. – Само собой! – громко ответил пекарь. Я медленно возвращался к своей яранге. Покой и безмолвие стекали с небес, и где-то там, среди мерцающих звезд, быть может, уже блуждала в поисках своего места душа умершего отчима. Тишина стояла над Уэленом, будто умер не только мой отчим, а все его жители. В холодной части яранги безмолвно, как мертвые, лежали собаки. Очистив от снега торбаза, я вполз в полог. Горел второй жирник, и теплый желтый свет заливал меховой полог. У дальнего, ярко горящего светильника сидела мама и поила отчима оленьим бульоном. На третий день отчим встал, а через несколько дней запряг собак и поехал вместе с гидрологом Бориндо мерить толщину льда у мыса Дежнева. Он был в той кухлянке, о которой я так мечтал и которая так мне и не досталась. Л ЛУНА йъилгын Из-за того что моя родина расположена в высоких широтах и почти полгода светлый полярный день продолжается почти круглосуточно, небо раскрывается во всей красе только тогда, когда усталое солнце сокращает свой небесный путь, оставляя звездам, полярному сиянию и луне заботу об освещении земной поверхности. Когда нет пурги и небо чисто, время полной луны придает праздничный облик всему окружающему. Разумеется, как и все остальные явления, относящиеся к вагыргыт – природе, Луна персонифицирована и имеет мужское начало. Она противостоит Солнцу и в некоторых преданиях прямо называется Солнцем Злых Духов-Кэле. Большую часть своего существования Луна проводит в Нижнем мире, где находятся владения Кэлы и души злодеев, врагов, убийц, воров, всей нечисти, которая, покинув земной мир, отправляются влачить жалкое существование в Нижний мир. В полнолуние, когда земной наблюдатель ясно видит тени на поверхности ночного светила, на луне происходят удивительные явления. Одни знатоки утверждают, что там, на лунной поверхности, действуют живые существа. Некоторые из них невидимым лассо ловят плохих людей и доставляют их в подземный мир, в котором они подвергаются мучительным наказаниям за свои грехи. Другие видят на лунной поверхности просто шаловливых мальчишек или охотника, который тянет за собой убитую нерпу. А у иных фантазия расцвечивает весьма фривольные картинки, вплоть до совокупления мужчины и женщины. Что же касается регулярного истощения луны, а потом нового возрождения ночного светила, то и на этот счет есть множество объяснений и самым распространенным является то, что луну обкусывают собаки, которые от этого обретают разные удивительные и магические качества, вплоть до способности превращаться в других животных и понимать звериный язык (см. мою повесть «Лунный Пес» из серии «Современные легенды»). В период интенсивного лунного света, когда блеск ночного светила увеличивается отражением на снежной поверхности, детям не рекомендуется находиться на воле долгое время. Подверженные лунному влиянию часто на время, а то и навсегда теряют рассудок. У нас в Уэлене был такой человек, которого звали Умлы. До какого-то времени это был обыкновенный парень. Восьми лет пошел в школу и отличался особой восприимчивостью к тангитанским наукам. Однажды, несмотря на предостережения родителей, он долго катался на санках с заснеженного склона Священного холма в яркую лунную ночь, а на следующее утро за ним стали замечать странные повадки. Он вдруг потерял всякую способность усваивать науки, перестал следить за собой, почти утратил речь. Умлы не был буйным помешанным. Он любил ходить за водой к ручью, снабжая свежей водой почти весь Уэлен, бродил по берегу моря и о чем-то беседовал с птицами. Но в лунные ночи он вдруг впадал в состояние ступора, прятался в темный угол яранги и пережидал там время лунного сияния. Но удивительно, он сохранил способности к шахматной игре, которой научил его школьный учитель математики Наум Соломонович Дунаевский. Часто летом можно было видеть такую картину: на солнечной стороне школьного здания на завалинке сидят, углубившись в размышления, тангитан Наум и Умлы, медленно и осторожно двигают фигуры в полном молчании. И только у Умлы с уголка рта свисает струйка слюны, которую он не замечает. Чаще всего Наум Соломонович проигрывал, и это его озадачивало и даже злило. Иногда учитель даже высказывал осторожное предположение о том, что Умлы вовсе и не сумасшедший, а только притворяется и его необычное поведение – это своеобразный протест против нового уклада жизни, который насаждали приезжие большевики-тангитаны. Любопытство к Луне усиливалось невозможностью заглянуть на ее обратную сторону, и по этому случаю было множество фантазий. В те дни, когда советский космический зонд сфотографировал обратную сторону Луны и эту фотографию напечатали во многих газетах и журналах, показали по телевидению по всему миру, я находился на Аляске, в дальнем, затерянном в арктической тундре небольшом селении. У одного старого эскимоса я увидел на стене удивительную картину, чем-то напоминающую лунный пейзаж. На мой вопрос, что изображено на картине, мой хозяин спокойно ответил: – Эту картину давным-давно нарисовал мой дед и назвал ее «Обратная сторона Луны». Удивительное сходство этой картины со снимками советского «лунника» было поразительным и даже мистическим. Я вспомнил рассуждения некоторых этнографов о космическом происхождении малых арктических народов, якобы занесенных на планету Земля внеземными цивилизациями с какими-то известными только им целями. – Как же он это сделал? – с едва скрытым удивлением пробормотал я. – Он что, был Там? – Хотите, я покажу вам эту обратную сторону Луны? – весело предложил мой хозяин. Мы вышли из дома и, направившись в сторону от поселка, вышли на холм, с высоты которого открывался удивительный пейзаж. Перед нами лежал самый настоящий лунный ландшафт, с тундровыми замерзшими озерками-кратерами, слегка припорошенными только что выпавшим первым снегом валунами. Я долго стоял на холме, всматриваясь в расстилавшуюся передо мной картину. Эта была и впрямь обратная сторона Луны. ЛЕД гилгил – соленый лед, тинтин – пресный лед Соленый лед, который сопровождает круглый год приморского охотника, самый разнообразный в своих проявлениях. Здесь мне придется ограничиться собственным опытом общения с этим удивительным материалом. Морской охотник знает о гилгиле куда больше моего, различает его по оттенкам, разновидностям, по времени образования, по внешнему виду и даже, каким-то присущим ему чутьем, по степени солености. И это не удивительно: без точного знания гилгила зимнему морскому охотнику нечего делать в море. Его подстерегают опасности. К примеру, вы видите впереди себя ровное ледовое поле, слегка припорошенное только что выпавшим снежком. Казалось, смело ступай на гладкую манящую поверхность! Впечатление в данном случае обманчиво. Ледовая поверхность оказывается весьма тонкой и не то что человек, но даже голыш-камешек легко пробивает ее. Рядом может быть точно такое же на первый взгляд ледовое поле – вот по нему можно смело шагать и даже тащить за собой добычу. А если ты на собаках, можешь без опаски пускать упряжку вперед. Лед может громоздиться самым причудливым образом, создавая удивительные по форме сооружения, сказочные здания с пещерами, переходами и часто не верится, что это создание природы, а не творение рук человеческих. В детстве мы часто играли вот в таких прибрежных торосах, воображая ледовые нагромождения сказочными рыцарскими замками, о которых мы читали в романах Вальтера Скотта. Возле Уэлена гилгил редко исчезал. Если и уходил, то совсем недалеко, и стоило лишь подуть легкому северному ветру, как на горизонте показывалась белая полоса ледового поля. Но это было не сплошное ледовое поле, а состоящее из отдельных льдин разной величины. На некоторых льдинах возлежали, греясь на солнце, моржи. Редко в этом однообразном ледовом поле попадались обломки айсбергов, порой целые ледяные горы, отличающиеся ярким голубым цветом. С наступлением зимы лед подступал к берегу уже надолго. Сначала это был мелкобитый гилгил, настоящая ледяная каша, которая зловеще колыхалась на волнах и выбрасывалась на берег, сплавляя в единое галечный берег и подступающую тундру. Таким образом создавался так называемый припай, твердый ледовый берег, который стоял до самой весны, а то и до середины лета. Так, в 1946 году я отправлялся в далекое путешествие в Ленинград на кожаной лодке еще с твердого припая. А это было 27 июня, вроде бы в разгар лета. За неподвижным твердым припаем со зловещим гулом двигался никогда не прекращающий своего движения лед. Он шел мощной, неумолимой рекой. На этой границе чаще всего охотился на нерпу белый медведь. Неподалеку, у кромки припая, чаще всего возникали разводья, участки открытой воды. На ледяных берегах охотники караулили нерпу и лахтака. За всю мою жизнь в Уэлене мне только один раз довелось увидеть, как море покрылось ровным слоем льда. До наступления неожиданно сильных морозов стоял полный штиль и безветрие, что совершенно не было характерно для этого времени года. И когда ударил мороз, море заблестело до самого горизонта, отражая низкие лучи осеннего солнца. Блеск был нестерпим, пришлось надеть солнцезащитные очки, а те, кто не имел таковых, напялили на глаза полоски кожи с узкой прорезью – древние очки, которыми с незапамятных времен спасались от слепящих лучей весеннего солнца. Лед был так прочен и прозрачен, что было далеко видно в глубину, у берега почти до самого дна. Можно было разогнаться на санках из моржовых бивней и мчаться далеко к горизонту, туда, где в редких трещинах резвились нерпы. Но это чудо продолжалось всего лишь несколько дней. Однажды поутру вместо гладкой, блестящей ледовой поверхности мы увидели хаотичное нагромождение торосов. Гилгил, морской соленый лед, не всегда имел горький соленый привкус. Ветрами, ураганами, сильнейшими морозами из него выветривались кристаллы морской соли, и, если на морской ледовой охоте одолевала жажда, можно было смело отломить вершину отдельно стоящего ропака и насладиться вкусом холодного пресного льда. Из-за того что морской лед был далеко не однороден, сама морская ледовая поверхность таила много опасностей. Обычно по ней передвигались, нацепляя на ноги вэльвыегыт, «вороньи лапки», – своеобразные лыжи-снегоступы, очень похожие на теннисные ракетки. Но этого мало. Морской охотник кроме главного посоха имел второй – с острым наконечником, с помощью которого он ощупывал прочность льда, прежде чем наступить на него. В свое время я прошел немало километров по гилгилу, по морским ледовым тропам, охотясь на нерпу, лахтака. Когда мы ездили с бабушкой в гости к нашим эскимосским родственникам в соседнее селение Наукан, наш путь пролегал по ледовой морской дороге под черными скалами Дежневского массива. Настоящий зимний морской пейзаж – это торосы, ропаки, нагромождение битого льда, часто совершенно непроходимые. И в этом пейзаже было странное чувство вечности, нерушимости установленных природой закономерностей. И все-таки гилгил – это морской соленый лед. Тинтин. В этом слове слышен звонкий, тихий звук, идущий из глубины еще одного чуда природы – прозрачного пресного льда. Это лед замерзших рек и ручьев, застывших водопадов, речных перекатов, поверхностей тундровых озер, сосулек, свисающих с крыш по весне, когда солнечным лучам уже под силу растопить скопившийся за зиму снег. Я до сих пор не могу забыть картину, как в теплый полог с улицы, с мороза вносили глыбу голубого тинтина. Она распространяла вокруг себя облако мороза, в котором был какой-то особенный запах. Это облако растекалось по всему меховому пологу, вытесняя застоявшийся теплый воздух, идущий от каменных жирников, от эчульхинов, от сушащейся меховой одежды, прелых детских меховых лоскутков, которые употреблялись вместо современных памперсов. Становилось легче дышать, и голоса в тесном меховом помещении начинали звучать громче и звонче. Глыбу голубого льда клали на продолговатое деревянное блюдо-кэмэны и начинали дробить с помощью женского ножа-пекуля. Осколки летели в разные стороны, и мы играли тем, что ловили широко раскрытыми ртами ледяные осколки. Ледяными обломками заполняли ведра, чайники и котлы, и на некоторое время в душном меховом пологе становилось прохладнее и свежее. Самой вкусной и сладкой была первая вода, образовавшаяся от таяния льда. Она еще была глубоко под ледяными обломками, и надо было круто наклонять ведро, чтобы налить в чашку первые капли свежей талой воды. Легче было пить новую воду из носика чайника, подвешенного над ровным пламенем жирника. Но за этим строго следили взрослые, и надо было улучить минуту, чтобы быстро приложиться к чайнику. Лучший тинтин добывали в Уэлене за лагуной, на речке Тэювээм, что означало «Соленая речка». Я до сих пор не могу понять, почему так называлась вполне пресноводная тундровая речка, берущая начало у подножия высоких сопок, образующих Дежневский массив. Обычно я отправлялся за льдом на собачьей упряжке, имея в снаряжении топор и крепкие ремни, чтобы стягивать негабаритный скользкий груз на узкой нарте. Обратную дорогу с ледяным грузом приходилось бежать рядом с нартой, так как не было никакой возможности сесть верхом на ледяные глыбы – и неудобно и студено. В зимнее время это был неплохой приработок: тангитаны охотно покупали тинтин с Тэювээма. Они понимали толк в хорошей воде. Особенно хороша была вода из тинтина для чая. Тинтин и гилгил – это лед. Но разный… М МАТЕМАТИКА этого понятия в чукотском языке не было Как, впрочем, и других научных терминов. Люди прекрасно обходились без всяких подобных премудростей и чувствовали себя превосходно, пользуясь теми числами и счетом, которые были вполне достаточны для жизни. Основой счета была пятерка. Она звучала так: мытлынэн и восходила к слову «рука» – мынгылгын. Следующей единицей счета была десятка – мынгыткэн, буквально означающая «руки». За ней следовала двадцатка – самая большая числовая единица в чукотской математике – и звучала так: кликкин. Это слово обозначало человека, и не вообще, а именно человека мужского рода. – Все теперь надо считать! – ворчала моя бабушка, когда надо было определить количество чего-то, чаще всего денег. Для точного счета она разувалась, чтобы перед глазами полностью была естественная счетная машина – ноги и руки. Обе ноги составляли твердую десятку, а вот пальцы на руках можно было загибать, и только на руках можно было считать от единицы до десяти. Более крупные числа обозначались двадцатками. Например, число «сто» звучало как мытлынкликин, что в дословном переводе «пять человек», или, точнее, «пять мужчин». – Раньше мы не делили год, – продолжала свою критику бабушка. – А теперь, оказывается, в году столько дней! И даже день разделили на часы… – А час на минуты, – добавлял я, окончательно запутывая бабушку. Удивительно, но, насколько я помню, точный счет не являлся жизненной необходимостью для жителя яранги. Главные количественные измерения находились внутри двадцатки, то есть в пределах человеческого существа. И это было совершенно достаточно для нормальной жизнедеятельности. Вот только для счета денег требовались другие измерения. Помню, когда дядя Кмоль добыл сразу трех белых медведей, и все три великолепные шкуры были проданы местной торговой кооперации, и когда за них была выручена огромная по тем временам сумма, бабушка вечером посадила перед собой всех домочадцев, предварительно разув их, и велела держать перед ней растопыренными все пальцы на руках и ногах. От долго сидения в таком положении и руки и ноги затекали, хотелось ими пошевелить, но бабушка зорко держала в поле зрения весь громоздкий счетный аппарат, включающий меня, тетю, дядю, отчима и маму. Она покрикивала на нас, когда кто-то из нас, устав, пытался пошевелить пальцем. Это сбивало ее со счета, и приходилось делать все заново. Большие числа завораживали, в них чувствовалась какая-то скрытая, таинственная сила. В 1959 году, когда я путешествовал по северному побережью Ледовитого океана на собачьей упряжке, в селении Рыркайпий мне передали толстую тетрадь, испещренную аккуратными колонками цифр. Судя по напечатанному на картонной обложке, эта тетрадь принадлежала экспедиции Амундсена и должна была содержать значения магнитных отклонений. Но по рассказам людей, передавших мне эту тетрадь, она досталась им от дальнего родственника Какота, служившего поваром на судне Амундсена, в те дальние времена, когда норвежцы зимовали у берегов Чукотки. Владельцы тетради сообщили мне, что какое-то время она находилась в руках сотрудников КГБ. Но потом, не сумев расшифровать эти записи, чекисты тетрадь вернули прежним владельцам. Я догадался, что Какот искал какую-то неведомую силу в ряду постепенно нарастающих чисел. Ведь ранее для него любое число, как и для всех его земляков, всегда было связано с видимым, осязаемым, натуральным предметом или явлением. А тут – голые числа, обозначающие невообразимые количества. От них бросало в дрожь, в жар, затуманивало мозг и вызывало незнакомые телесные ощущения. Я просидел над этими цифрами немало времени и по следам собственных размышлений сначала написал рассказ «Числа Какота», а потом роман «Магические числа». В школе я полюбил математику, алгебру, геометрию и тригонометрию. Однако меня больше влекли гуманитарные науки. На какое-то время я отвлекся от математики и очень обрадовался, когда мне в Ленинградском отделении издательства «Учпедгиз», занимавшемся изданием учебников для северных школ, в том числе и для Чукотки, предложили перевести на чукотский учебник арифметики для начальных классов. И не только перевести, но и адаптировать для местных школьников. Так называемая «адаптация» заключалась в том, что предметы, которые надо было считать или измерять, простые и понятные тангитану, для чукотского ребенка звучали чуждо и непонятно. Например, в задаче фигурировали яблоки. Фрукты, которые чукотский ученик видел либо на рисунке, либо на этикетке консервной банки с яблочным компотом. Задача в учебнике для русской школы звучала так: Трое мальчиков сорвали с дерева десять яблок. Три яблока они съели. Сколько яблок осталось? Прежде чем приступить непосредственно к сути задачи, необходимо было разъяснить чукотским ученикам, что такое дерево, почему эти так называемые фрукты-яблоки растут на дереве, а не на земле, как тундровые ягоды морошка или шикша. Надо было также сообщить, что одно яблоко не такая уж большая штука и ее вполне может съесть нормальный ребенок. Я вспомнил задачки из так называемого «адаптированного» учебника арифметики для чукотской школы, по которому я учился в уэленской неполной средней школе. «Адаптатор» долго не думал. Он мгновенно прикинул: что может быть понятно чукотскому мальчику, жителю прибрежного селения? Ну, конечно, какой-нибудь заметный морской зверь. И под его лихим пером русская задачка о яблоках, зазвучала так: трое охотников-колхозников поймали десять китов, троих они съели… Сколько китов осталось? Когда эта задача дошла до наших ушей, нашему изумлению не было предела! Во-первых, кто такие эти неслыханно удачливые охотники, которые запросто могли поймать десять огромных морских великанов– китов? Чем они их ловили? Огромными сетями, петлями? Может, это не простые охотники, а сказочные великаны-пичвучины? Но в задаче ясно написано: колхозники… Простые колхозники оказались обладателями огромного, нечеловеческого аппетита. Съесть трех китов они могли лишь на протяжении нескольких лет, а оставшиеся семь туш за это время попросту сгнили бы или их погрызли белые медведи, песцы, расклевали вороны. За всеми этими по-настоящему жизненными проблемами главный вопрос арифметической задачи оказывался совсем незначительным. Такого рода несуразностями изобиловал учебник арифметики для начальных классов чукотской школы, и мне пришлось призвать на помощь все мое воображение и воспоминания, чтобы задачи и числа из учебника стали ближе и понятнее моим маленьким соплеменникам. И все же математика до сих пор остается для меня недосягаемой наукой и магия больших чисел волнует и тревожит меня, как созерцание звездного неба.








