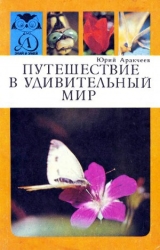
Текст книги "Путешествие в удивительный мир"
Автор книги: Юрий Аракчеев
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Глава четвертая, познавательная, самая длинная:
ОБЪЕКТЫ СЪЕМКИ

Общие рассуждения...
Но что же конкретно можно снимать в путешествиях с фотоаппаратом и удлинительными кольцами?
Прежде всего, это, конечно, живые обитатели зеленых «джунглей» – небольшие, подчас совсем крошечные, особенно интересные тем, что совсем почти незнакомы нам по причине обычного человеческого свойства: видеть то, что находится в сфере привычных человеческих взаимоотношений, привычных масштабов, а остальное, не менее важное, как бы не замечать вовсе.
«Слона-то я и не приметил!» – это известное выражение И. А. Крылова можно смело переиначить наоборот, ну, к примеру, вот так: «Муху-то я и не разглядел!..» Все, что находится за пределами повседневного и обычного, как правило, не удостаивается нашего внимания, если не лезет, конечно, слишком уж назойливо в глаза. Если же и удостаивается, то исключительно утилитарно – с точки зрения сиюминутного вреда или пользы.
Муха? Это нечто неприятное, антисанитарное, надоедливое, безусловно, вредное...
Комар? Ой, не надо! Звенит-свербит так противно, кусается, кровь пьет бессовестно, потом волдырь вскакивает, зудит...
Паук? Бр-р. Отвратительно. Липкая паутина в лесу, пыльная в неопрятном доме. Запустение, непорядок. Народная примета – письмо...
Бабочка? Красиво, мило, пестрое нечто и веселое. Бабочки порхают над цветами в солнечный день, а то и словно бы хороводы водят в воздухе. Ночью бабочки вместе со всякой дрянью на свет летят...
Гусеница? Фу! Толстый, противный червяк, голый или мохнатый. Вредит сельскому хозяйству. Увидишь – раздави немедленно...
Кузнечик? Коленками назад и трещит весь день почем зря...
Жуки? Разные бывают. Некоторые быстро бегают, некоторые кусаются, в руки брать опасно. Некоторые с длинными усами. В розах, в шиповнике попадаются очень красивые, золотисто-зеленые, но брать в руки не рекомендуется – неприятно пахнут...
Клоп? Фи, какая мерзость? Не говоря уж о тех, что в постели, не дай-то бог... но если собираешь, к примеру, малину, и попадается это вонючее создание... Нет, лучше не надо...
И в голову не приходит, конечно, что те, допустим, которых я тут наугад перечислил, – представители многочисленного, чрезвычайно многообразного мира живого на планете Земля, во много раз более многочисленного и разнообразного, нежели привычные нам крупные животные – млекопитающие, птицы, рептилии и земноводные, рыбы... Представители мира мало изученного, скрывающего несметное множество тайн. Заслуживающие внимания, может быть, гораздо большего не только в силу своей неизученности, но и по причине значимости своей в многоступенчатой пирамиде жизни на планете Земля. И в силу древности своей тоже: тараканы, к примеру, – одни из самых старых животных на планете, они существовали на Земле еще 300 миллионов лет назад и с тех пор мало изменились...
Что же касается вышеназванных, перечисленных наугад, то очень коротко можно сказать:
Муха – не только вредное, но в некоторых случаях чрезвычайно полезное существо, причем как раз с точки зрения санитарии. («В тропиках одна пара мух уничтожает труп лошади быстрее, чем лев» – утверждал Карл Линней.) Кроме того, мухи, как вы уже знаете, бывают и «аристократического происхождения» – цветочные, например.
Комар – тоже не так-то прост, он сам и его личинки играют немалую роль в слаженных природных процессах. В Китае, к примеру, в одной из рисовых провинций как-то уничтожили всех комаров, и что же вы думаете? Резко сократилось количество рыб и птиц, а урожаи риса сильно упали. Потому что рыбы питались личинками комаров, птицы – взрослыми комарами, а для кустиков риса служили удобрениями, оказывается, те микроэлементы, которые попадали в воду и почву в результате жизнедеятельности личинок...
Паук – вообще весьма полезное существо с точки зрения нашего хозяйства (сокращает количество насекомых-вредителей), а кроме того, необычайно интересен своими повадками, образом жизни, мастерством плетения паутины.

Бабочка, этот живой цветок, один из символов красоты, – создание не только легкомысленное, но и тоже чрезвычайно интересное своим образом жизни, биологией. Один онтогенез (индивидуальное развитие особи) и метаморфозы (превращения) чего стоят: яйцо – гусеница – куколка – крылатое очаровательное создание!.. А устройство маленького ее организма, окраска крыльев, покрытых волосками и чешуйками (словно этакой цветной «черепицей», разноцветной мозаикой из пылинок-чешуек) – богатейший материал для исследований!
Кузнечик – персонаж многих стихотворений, сказок, легенд, без его милой, чарующей «трескотни» трудно представить себе летний луг или опушку леса...
Жуки – представители самого многочисленного и разнообразного отряда насекомых. Один только этот отряд насчитывает свыше 250 тысяч видов – это в шесть с лишним раз больше, чем количество видов всехпозвоночных животных (млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных, птиц, рыб – вместе взятых), разнообразие их форм, окраски, размеров потрясает; образ жизни, повадки, обычаи представителей разных видов – тема для рассказов, повестей и даже, пожалуй, романов...
Клопы тоже бывают разные, некоторые из них чрезвычайно красивы, очень ценны с точки зрения фотографии...
Короче говоря, есть тут чем интересоваться, над чем подумать, чем заняться и над чем поработать.
А теперь конкретно – по типам, классам, отрядам, видам. Короткое описание и конкретные советы в порядке передачи опыта.
Тип – членистоногие, класс – насекомые
Итак, насекомые – самые многочисленные и самые обычные жители травяных «джунглей». Получили они свое название потому, что тельце их украшено как бы насечками, состоит оно, как правило, из трех частей – голова, грудь, брюшко; брюшко же чаще всего состоит из сегментов. Но это тело взрослого насекомого, имаго – так называют его на научном языке. А вот личинки, или, выражаясь образным языком, юношеская стадия самых разных насекомых, чаще всего похожи на разного размера и окраски червяков... Сказанное, конечно, очень условно. У всех взрослых насекомых шесть ног – три пары. Поэтому их часто называют классом «шестиногих».
Наука, изучающая насекомых, называется энтомологией. «Энтомон» в переводе с греческого – «насекомое», «логос» – «учение». Это очень обширная и очень важная отрасль биологии, со временем приобретающая все большее значение.
Есть учебники энтомологии, есть многочисленные монографии, исследования, труды по разным отделам этой науки, есть очень интересные научно-популярные и научно-художественные книги. Отсылаю вас к ним. Здесь же скажу только, что насекомые не случайно чаще всех других существ встречаются в травяных «джунглях». Дело в том, что они связаны с растениями жестко и непосредственно. Одни из них просто-напросто питаются растениями – разными их частями. Это – «вегетарианцы». Другие питаются «вегетарианцами», третьи – теми, кто питается «вегетарианцами», четвертые – третьими и так далее. Некоторые, правда, паразитируют на представителях других классов животных, но подавляющее большинство все же связано именно с растениями.
Отношения их взаимны: растениям насекомые тоже нужны. Они опыляют цветы.
С моей точки зрения нет более интересных живых существ для фотографии, чем насекомые. Ну разве что в какой-то степени с ними могут соперничать пауки.
Чем же шестиногие так интересны?

Прежде всего, это, как я уже говорил в самом начале книги, разнообразие форм. Чего тут только нет!
Бронированные, обтекаемые «самоходки» на шести полусогнутых «рычагах» – жуки.
Толстые, довольно медленно ползущие на коротеньких ногах-присосках, тем не менее пластичные в своих движениях и весьма оригинальные в некоторых позах (поза угрозы, например) – гусеницы.
Голенастые, быстро бегающие, состоящие из трех округлых «емкостей» разной величины, скрепленных между собой тоненькими перемычками, и словно бы не живые, а механические создания – муравьи.
Медлительные и плоские, некоторые будто сделанные из ржавого железа, некоторые из меди, а то – из пластмассы, из лакированного материала с эмалевым ярким рисунком – клопы.
Изящные, длинные и тонкие, с мягким зеленым тельцем, широким перламутровым, полупрозрачным балахоном крыльев над ним, милой головкой, больше половины которой составляют глаза – сверкающие, словно круглые изумруды, покрытые тончайшим слоем чистого золота, – златоглазки.
Кузнечики, удивленно глядящие на мир большими глазами, сложившие коленками назад длиннющие ноги, всегда готовые для прыжка.
Шмели, словно неуклюжие мохнатые медвежата, только почему-то с шестью тонкими лакированными ножками и прозрачными крылышками, сложенными на спине.
Четырехплоскостные «самолеты» – стрекозы с гигантскими глазами, состоящими из множества ячеек-фасеток.
Подводные «батискафы» – жуки-плавунцы.
Странные какие-то существа, неуклюжие, состоящие как бы из скрепленных концами палок, с согнутыми пополам передними конечностями, сплошь утыканными шипами-зубьями, а голова... ну прямо дьявол с рожками – богомол-эмпуза!
Осы с тончайшими «осиными» талиями, а то еще и с длиннейшей «пикой» на конце брюшка – этакие «мушкетеры»...
И наконец, бабочки, красавицы-бабочки, чьи крылья можно рассматривать, как картины, читать, как древние свитки с загадочными иероглифами...

Да, чего тут только нет! И все – доступно. Не обязательно даже ехать в далекие страны. Необходимо только внимание, терпение, ну и заинтересованный, живой взгляд, конечно.
А цвета, а краски! Жук-красотел переливается всеми цветами радуги – тут, когда фотографируешь, важно найти точку, с которой наиболее эффектен отлив, и правильно подобрать экспозицию: при передержке отлив из зеленого или красного станет просто белым, а при недодержке отлив, может быть, и останется, а вот самого жука не разглядишь... То же самое с жуком-бронзовкой и с зелеными жуками-листоедами. Отливают ослепительно-синим, небесно-синим цветом крылья бабочки-переливницы, если вы сумеете подобрать правильный угол съемки – при прямом, фронтальном взгляде крылья ее темно-бурые. Экспозицию, если снимаете с кольцами, старайтесь определить на глаз (как сказано в следующей, пятой главе) и обязательно делайте дубли с разной выдержкой – чтобы наверняка.
Отлив – этакое ускользающее, прямо-таки сказочное сияние – бывает и на крыльях некоторых стрекоз: поймать его в кадр очень трудно, однако есть смысл постараться, тут тоже очень важно точно определить выдержку. Тогда стрекоза на вашем снимке, может быть, напомнит волшебного эльфа.
Переливаются многими цветами крылышки некоторых мух-сирфид. А тельца ос-блестянок – это вообще «драгоценные камни», «золото», «перламутр», «лазурь», «огонь», «медь» и «бронза». Правда, фотографировать их очень трудно по причине малости и чрезвычайной подвижности. Не меньше часа охотился я как-то за осами-блестянками на цветах кермека в сырдарьинских тугаях, потратил две или три пленки, но ни одного по-настоящему хорошего кадра так и не сделал. Может быть, кому-то из вас повезет?
Переливы, отливы, радужные отсветы – это проявление так называемой «оптической окраски». Сами переливающиеся разными цветами покровы насекомого или его крылышки бесцветны, прозрачны (на панцирях жуков – это верхний бесцветный, прозрачный хитиновый слой, на крыльях бабочек – прозрачные чешуйки), но свет, падающий на них, преломляется и отражается то одним, то другим цветом, в зависимости от угла падения и отражения (интерференция и дифракция).
У некоторых насекомых – осы-блестянки, например, бабочки, – кроме бесцветных, преломляющих свет, покровов или чешуек, есть еще и окрашенные в определенный цвет, тогда общая окраска для наблюдателя складывается из оптической и обыкновенной, то есть пигментной. Есть тут чему позавидовать художникам-колористам!
У ученых же энтомологов вопрос об окраске всегда имел и имеет значение не только и не столько эстетическое, сколько функциональное. Ведь в природе все не просто так, а – с определенной целью.
Зачем насекомым окраска? Почему она именно такая? Какой биологический смысл в ней заложен?
И хотя многое тут как будто бы стало ясным, однако вопрос об окраске бабочек, например, до сих пор один из самых спорных в энтомологии.
Но почему они так красивы именно с нашей, человеческой точки зрения?
Некоторые – даже многие! – романтики доходили в своих размышлениях до того, что начинали думать: а не для того ли господь-бог создал этих крылатых тварей столь красивыми, чтобы они услаждали человека, развивали и лелеяли его чувство прекрасного? Иначе зачем еще?..
Но вот какие любопытные и, увы, печальные все же для себя размышления прочитал я однажды в книге известного натуралиста, современника и сподвижника Чарлза Дарвина, А. Р. Уоллеса, в его книге «Малайский архипелаг».
«Какая напрасная трата красоты!» – восклицает Уоллес, созерцая царственную, сверкающую всеми цветами радуги райскую птицу, принесенную ему дикими туземцами. Они, местные аборигены, не разделяют его восторга, он даже смешон им... И он пишет:
«Такие мысли возбуждают меланхолическое чувство. Грустно подумать, что, с одной стороны, такие прелестные создания должны жить и блистать своей красотой только в этих диких, негостеприимных странах, которым предопределено и в грядущем оставаться в безнадежном варварстве; с другой же стороны, если только цивилизованный человек проникнет когда-либо в эти отдаленные страны и внесет нравственный и умственный светильник в чащу этих девственных лесов, то нет сомнения, что равновесие между органическим и неорганическим миром будет нарушено до такой степени, что поведет к исчезновению и наконец вымиранию тех самых существ, красотой которых он один способен наслаждаться. Эти соображения должны, без сомнения, убедить нас в том, что все живые существа не были созданы для человека. Многие из них не имеют с ним никакой связи...»
Очень, к сожалению, убедительно. И – грустно. Как хочется, чтобы и в красоте бабочек скрывалась бы все же какая-то романтическая тайна... Впрочем, она все же, вероятно, скрывается.
Ведь что является для нас символом красоты? Очевидно – цветок растения. У индийцев, к примеру, цветок лотоса – это вообще источник чего-то изначального. Вот коротенькая цитата из книги Э. Манн-Боргезе «Драма океана»:
«Сначала была только вода, только вода в беззвездной ночи – этом безжизненном промежутке между растворением и творением. Все силы будущей эволюции, дремлющие и недифференцированные, таились в этом первобытном море... Индийцы же считали, что на нем рос волшебный лотос, через стебель которого из глубин поднялось высшее существо».
Так вот, цветок растения – для нас издавна символ прекрасного. А что такое цветок растения с точки зрения ученого-биолога? Это – орган размножения растения. А привлекательным создала его природа не для нас с вами, люди, а для мух, пчел, ос, шмелей, которые его опыляют. И цвет, и весьма совершенная, полная неизъяснимой гармонии форма цветка, и его аромат – для опылителей-насекомых...
Но почему же и нас привлекают цветы? Разве столь излишнюю параллельную цель могла преследовать слепая природная эволюция?
Красивы, с нашей, человеческой, точки зрения, и брачные наряды птиц, рыб, пресмыкающихся, насекомых... С точки зрения биологов, яркость и красота дневных бабочек – средство привлечения самцов и самок друг к другу... Но почему же они так привлекают и наш, человеческий взор?
Вот и пришел я к мысли (наверняка, конечно, не первый), что красота – это вечно дискуссионное, до конца не разгаданное понятие – играет важнейшую роль как объединяющее начало, связанное с продолжением и постоянным возобновлением жизни. Красота – это символ жизни, отзвук гармонии мироздания.
Разные виды окраски и разное поведение
Из школьных учебников биологии все вы уже знаете, что окраска бабочек и других насекомых подразделяется на:
покровительственную, или маскирующую;
предостерегающую, или отпугивающую;
мимикрирующую, или подражательную.
В том же ключе классифицируется и форма растения, и поведение некоторых насекомых: обычаи жизни, повадки, позы, которые они принимают в момент опасности.
Ясно, что здесь богатый материал для внимательного фотографа-путешественника. Как с научно-познавательных, так и с чисто эстетических позиций.
С точки зрения научно-познавательной интересно все.
И как серенькая, рябенькая бабочка-пяденица маскируется на коре дерева. И как бабочка Цирцея, складывая крылышки вместе, тотчас сливается с сухой землей и выжженной солнцем растительностью. Точно так же, как и павлиний глаз, углокрыльница, крапивница («шоколадница»), имеющие издалека заметные пестрые рисунки на внешней, «парадной» стороне крыльев. Складывая их вместе, рисунок к рисунку, они тотчас становятся незаметными, так как испод, изнанка их крылышек не имеет почти ничего общего с внешней яркостью и пестротой – они темные, почти черные у павлиньего глаза и коричневато-рябенькие у крапивницы и углокрыльницы. Правда, у последней нарисована еще и буква «с», словно белилами, на каждом заднем крыле, почему она и получила такое имя: углокрыльница «С-белое».
Очень интересно и поучительно наблюдать кобылок (близких родственников кузнечиков, но не с длинными усами, а с короткими), особенно тех, что встречаются на юге нашей страны. Некоторые пустынные кобылки как будто бы слеплены из почти бесформенных кусочков земли или глины – на сухой земле, среди точно таких же комочков, ее и не отыщешь, даже если будешь знать, в каком месте она сидит...
Маскируются соответственно местам своего обитания многие жуки, клопы (например, щитники, бурый или зеленый), гусеницы бабочек.

Но все же для фотографии наиболее выгодны, конечно, те, кто «носит» окраску отпугивающую, предостерегающую и соответственным образом себя ведет. Как правило, это существа ядовитые для птиц, главных своих врагов. Они не только могут себе позволить нарядиться в яркие, вызывающие одежды, они словно бы пытаются перещеголять друг друга в экстравагантности.
Вот клопы. Те, которые маскируются, спасаются при помощи неприятного запаха, а большинство не менее ядовитых, но не столь «ароматных» – это прямо-таки щеголи и арлекины. То на спинке у них некое подобие креста, словно на мантии королевских мушкетеров (наземник тощий). То будто ритуальная африканская маска: глаза, нос, рот, даже усы и губы – все это черное на ярко-красном фоне (клоп-«солдатик»). То золотистая чеканка со светлым рисунком (молодой щитник). То нечто, напоминающее щедро раскрашенную эмаль, да еще в национальном стиле той среднеазиатской республики, на территории которой этот клоп обитает – туркменский, казахский, узбекский орнамент, словно на тюбетейке или ковре...
Очень интересна и привлекательна окраска у некоторых жуков-навозников: есть густо-синий, а есть чисто фиолетовый, прямо-таки аметистовый отлив, который, правда, уловить и передать на снимке не так-то просто – жук очень подвижен.
Ярко раскрашены жуки-могильщики и мертвоеды. Особенно экстравагантными, порой ослепительно сверкающими нарядами щеголяют тропические представители этого семейства, но и у нас есть достаточно красивые виды.
О бронзовках я уже говорил, но порой не менее эффектны и златки и листоеды. Златка изменчивая, например, – это прямо-таки образец тончайшей чеканки по золотисто-зеленому металлу с включениями желтого, чисто-зеленого, бронзового и даже голубоватого. Великолепен лиловый отлив на спинке ярко-зеленого среднеазиатского листоеда и на спинке листоеда малого, который во множестве встречается в средней полосе России и даже в больших городах на листьях лопуха.
О божьих коровках нечего, наверное, и говорить – их все знают. Хотя сфотографировать их не так-то легко из-за малых все же размеров – целый комплект из трех колец надо навинчивать, а то и добавить колечки из второго комплекта. Лучше всего фотографировать этих очаровательных жучков утром, когда прохладно и они еще малоподвижны и как бы с трудом стряхивают остатки сна. Поймав солнечный луч в зеркальце и направив на маленького жука, вы заставите прямо-таки сверкать его полукруглые, гладкие, словно отлакированные надкрылья.
Хорошо смотрятся на слайдах жуки-нарывники. Они особенно ядовиты (несколько случайно съеденных с травой нарывников могут убить даже лошадь), их выделения, попавшие на кожу человека, вызывают раздражение и нарывы. Брать их в руки не рекомендуется, а фотографировать очень приятно, тем более на красивых цветках, где они обычно бессовестно поедают не пыльцу и нектар, как большинство нормальных опылителей-насекомых, а – тычинки и пестики. В южных широтах нашей страны (в Узбекистане, Казахстане – черные с красным рисунком) крупные (до трех сантиметров в длину) нарывники калида собираются вечером в большие скопления, буквально облепляя стебли некоторых травянистых растений, и утром, в первых лучах невысокого еще солнца, фотографировать их очень легко. Тем более что еще не так жарко. Постепенно просыпаясь, они занимаются «утренней гимнастикой» – потягиваясь, поочередно сгибая и старательно чистя каждую из своих шести ног, – потом разламывают пестрые надкрылья и с тяжелым самолетным гудом взлетают... Тут-то и можно успеть запечатлеть их при взлете или при посадке. И даже в самом полете, если приблизительно определить тот цветок, на который жук предпочтет опуститься, и рассчитать траекторию его подлета. Непросто, конечно, но возможно – однажды мне удалось достаточно хорошо снять в полете тяжелого нарывника калида в лучах утреннего солнца, против света, с выдержкой в 1/500 секунды и с диафрагмой что-то около 4,5 (одно среднее удлинительное кольцо). Правда, караулил я его, лежа животом на земле с фотоаппаратом наготове, не меньше получаса. Снимки против солнца эффектны особенно – распахнутые надкрылья просвечивают в солнечных лучах и сияют алым рубином...
Можно, конечно, долго говорить на эту тему. Ведь ни слова не сказал я о пчеложуках, тоже весьма щеголевато окрашенных (и в высшей степени интересных в своем поведении), о пчелах, осах, наездниках (одна мегарисса чего стоит!), о муравьях (их прекрасно описал П. И. Мариковский в разных книгах, например – «Два лика пустыни», много интересного о них в книгах Р. Шовена, И. Акимушкина, И. Халифмана). Очень мало сказано о цветочных и других мухах... А стрекозы? Вот ведь стрекоза-красотка (таково ее научное название), которая медленно летает где-нибудь у воды, распахнув свои темно-синие, отливающие зеленым и фиолетовым крылышки – это же просто неземное создание! А стрекоза-стрелка, глаза которой бывают огромные и голубые!..
Ничего не сказано о пилильщиках и их личинках – ложногусеницах, а они тоже представляют интерес для фотографа-натуралиста: обратите внимание на снимок на вкладке, где они дружно подняли вверх задние концы тел, изображая таким образом «вопросительные знаки» – это у них такая поза угрозы...
А жуки-слоники и листоверты? А тли? А богомолы и эмпузы, наконец, – это же просто счастливейшая находка для фотографа! Впрочем, о богомоле Пете вы еще прочтете в конце книги...
Да, нельзя объять необъятное. Одна надежда: дать вам толчок, напутствие, хотя бы лишь намекнуть на то, какие радости и открытия ждут вас, если вы только захотите.
Вперед, читатель! Вперед – в поле, на поляну, на опушку леса, в степь, в пустыню... И ты увидишь много такого, о чем не прочтешь ни в какой книге...

Несколько слов все же еще – как напутствие – скажу о поведении насекомых, которое может быть квалифицировано точно так же, как и окраска: маскирующее, отпугивающее и подражательное.
Главная жизненная задача каждого живого существа – сохранить себя и продлить свой род на земле. Много, очень много врагов у насекомых, поэтому жизнь научила их разными способами избегать опасности. Легко увидеть, что те, кто окрашен скромно, покровительственно, соответственно и держатся: прячутся, стараются оказаться в таком месте, где их трудно наметить. Их фотографии не очень эффектны, но они имеют познавательную, а иной раз и научную ценность. Бабочка-пяденица, скромно сидящая на коре дерева. Пустынная кобылка среди комочков сухой глины... Это понятно. Но вот каким оригинальным способом передвигается гусеница бабочки-пяденицы: словно отмеривает «пяди», закрепляясь передней частью тела и подтягивая к ней заднюю, при этом складываясь пополам... Вы случайно потревожили стебель, по которому она ползет, и... Нет гусеницы! Исчезла. Вместо гусеницы на стебле появился новый стебелек-отросток с почкой на конце... Как и положено стебельку, он совершенно неподвижен, торчит под углом и чуть в сторону... Таково маскирующее поведение гусеницы, которое, впрочем, имеет и подражательный характер – ведь она подражает стеблю растения...
Совершенно фантастический облик у палочника: его тело – сухая веточка с рябинками на коре, как и положено, а ноги – тонкие высохшие сучочки или черешки опавших листьев... Тут уже не только окраска, тут форма и соответствующее поведение: палочник днем практически неподвижен, питается он листьями, главным образом ночью...
Но совсем иная картина, когда мы имеем дело с поведением отпугивающим, предостерегающим. Вот где простор для наших эмоций! Вы догадываетесь, наверное, о чем тут речь: устрашающе распахивают крылья (да еще и с шуршанием-треском!) богомолы; встают на дыбы или сворачивают тельца наподобие вопросительного знака («Ну, чего пристал?») ложногусеницы пилильщика; некоторые гусеницы превращаются в «змею», «собачку», «дракона» и так далее – это, в общем-то, описано в разных книгах о насекомых и даже в учебниках. Потому и опустим эти описания здесь. Как и рассказ о мимикрии, этом удивительнейшем явлении природы. На самом деле: каким путем пришли мухи-сирфиды к подражанию – и в окраске, и в поведении – осам, этим грозным хищникам, вооруженным опасным жалом? Или бабочка-стекляница? С каких пор крылышки ее стали удлиненными и прозрачными, а тельце поперечно-полосатым – тоже словно бы у крупной, прямо-таки огромной осы? Почему «съедобные» лжепестрянки подражают «несъедобным» пестрянкам, вернее, не почему – это-то понятно! – а вот каким путем пришли они «к жизни такой»? Наконец, если вернуться чуть-чуть назад и задуматься над тем, о чем уже сказано: почему рисунок на спинке клопа-солдатика похож на «лицо», изображаемое на африканской маске? Почему – добавим – на спинке бабочки «мертвая голова» нарисован словно бы череп с костями – наш человеческий «предостерегающий знак»? Почему вообще «портреты» насекомых, как это ни странно, напоминают подчас человеческие портреты или «портреты» крупных животных, которые, в свою очередь, часто опять же схожи с людьми?..








