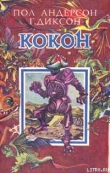Текст книги "Люби навсегда"
Автор книги: Юрий Окунев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Юрий Окунев
Люби навсегда

© ГУ «Издатель», 2010
© Е. Мандрика, 2010
© Волгоградская областная организация общественной организации «Союз писателей России», 2010
Дон Кихот волгоградский
Есть у поэта звание – Поэт, и есть награда для поэта – Имя.
Сергей Давыдов
О моем отце, поэте Юрии Окуневе, еще при жизни друзья рассказывали разные истории, да и сам он любил вспоминать о каких-то интересных эпизодах своей биографии. Вот один из них.
Стало известно, что в Волгоград должен прилететь очень знаменитый зарубежный гость. Отцу было предложено встретить его на рассвете. Творчество настигает поэтов чаще всего ночью, и в большинстве своем они не являются любителями ранних подъемов по утрам. В этом плане Юрий Окунев не исключение, но романтика ситуации была налицо, и в положенное время, вместе с группой «товарищей», он уже стоял на аэродроме. Гость удивил всех не только своей первой фразой, но и тем, что обратился лишь к отцу, едва спустившись с трапа самолета. Он сказал: «Вы – поэт».
Эти же слова написал 6 апреля 1958 года в письме отцу Юрий Карлович Олеша, а еще в том давнем письме говорилось, что Окунев – «талантливый, умный, оригинальный, веселый и грустный поэт…».
В апреле 2008 года время напомнило, что прошло уже двадцать лет, как не стало поэта Юрия Окунева. Он был человеком необычным, и мне захотелось, чтобы любому, кто откроет эту книгу, рассказали о нем друзья – поэты, хорошо его знавшие, ведь именно поэтам удается очень точно подметить яркое и характерное в людях и явлениях жизни.
У отца было много друзей, но абсолютное большинство, конечно, составляли поэты – бывшие студенты Литературного института.
Давид Самойлов, учившийся с отцом в семинаре Ильи Львовича Сельвинского, написал мне в письме: «Мы были знакомы 50 лет. Часто встречались на семинарах Сельвинского и в разных поэтических компаниях. Сельвинский его любил. Да и все относились к нему хорошо. Был он человек беззлобный, восторженный, искренне любивший поэзию» (04.05.88).
Тогда я попросила Давида Самойловича написать воспоминания об отце. Он согласился и слово свое сдержал. Вот его дополнение к портрету юного Юрия Окунева: «Он был всегда воодушевлен, оживлен, легко возбудим, встрепан, влюблен в Литинститут, в товарищей, в нашего общего учителя Илью Львовича Сельвинского, в стихи, свои и чужие, во всех проходящих мимо молодых женщин.
…Над его восторженностью и непрактичностью порой подтрунивали. Чаще всего он этого не замечал. А если уж очень донимали, поднимал бровь, прижмуривал глаз и произносил голосом театрального дуэлянта:
– Молодой человек! Я вас презираю!
До дуэли не доходило.
…Из соучеников особо почитал Кульчицкого, Глазкова, Слуцкого, Львова, Луконина. С последним они были земляки, может быть, это было дополнительной причиной верной привязанности Окунева к Михаилу Луконину, относившемуся к нему с дружеским юмором и особой снисходительностью. Окунев остался верен этой важной для него дружбе и после смерти Луконина был общественным директором квартиры-музея Михаила Луконина в Волгограде»[1]1
Самойлов Д. Памяти Юрия Окунева // МиГ. 1991. 1 марта (публикация в журнале «Отчий край» № 1 за 1999 г. под заголовком «Всегда влюбленный» была приурочена к 80-летию со дня рождения поэта). – Здесь и далее примеч. сост.
[Закрыть].
Илья Львович Сельвинский вспоминал: «В Литературном институте еще совершенно юный студент Окунев привлек меня своей душевной чистотой и какой-то самозабвенной откровенностью»[2]2
Окунев Ю. Лирика прежде всего / предисл. И. Сельвинского. Волгоград, 1968. С. 5.
[Закрыть].
Михаил Луконин во вступлении к книге Юрия Окунева «Ответ» писал: «Тогда в нашей среде он был поэтом «не от мира сего», его литературность, неприспособленность к жизни, одержимая упоенность другими поэтами иногда вызывали наше дружеское подшучивание. Но это не мешало Юрию Окуневу в первый день войны встать рядом с нами, со своим поколением в строй бойцов. В те первые месяцы великого испытания он был у меня в отделении, и мне не приходилось его искать в дымных взрывах первых бомбежек – он всегда был рядом»[3]3
Окунев Ю. Ответ / предисл. М. Луконина. Волгоград, 1976. С. 2.
[Закрыть].
Пройдут годы, но Юрий Окунев останется прежним, и в творчестве поэта сохранится «детское восприятие мира и взрослое его осмысление», как очень точно заметит Сергей Наровчатов[4]4
Наровчатов С. Берега времени. М., 1976. С. 234.
[Закрыть], а в одном из своих писем другу он продолжит эту мысль: «Ты истинный поэт, не только в стихах, но и в жизни» (28.01.77).
Об этом же говорят и строки Льва Озерова из письма к отцу: «…Меняясь, Вы не меняетесь, остаетесь все таким же пылким, склонным к преувеличениям и преуменьшениям, раздумчивым и желающим каждую минуту сызнова начать жизнь…» (29.12.76).
А Виктор Боков сказал о том же в шутливом посвящении Юрию Окуневу, которое было написано на обложке книги, подаренной отцу:
Юра! Ты мне симпатичен
Тем, что очень поэтичен,
Тем, что очень непрактичен,
Словом, идеалистичен,
Подписал похвальный лист
Витя Боков, реалист.
Все друзья знали, как отец уважал и любил своих учителей – П. Г. Антокольского и И. Л. Сельвинского. Следует подчеркнуть, что Сельвинского он не просто любил, а можно сказать – боготворил.
По словам Давида Самойлова, Юрий Окунев всегда говорил об Илье Сельвинском с особой теплотой, потому что именно Сельвинский «много сделал для творческого становления поэтов военного поколения, в том числе и для становления Окунева. Не все ответили ему такой верной памятью, как влюбленный в него ученик»[5]5
Самойлов Д. Указ. соч.
[Закрыть]. Это подтверждают две надписи, сделанные И. Л. Сельвинским в разные годы (даты не указаны) и бережно хранимые отцом всю жизнь: первая – на фотографии: «Милому Юрию Окуневу с верой в его дарование. И. Сельвинский»; вторая – на открытке: «Дорогой друг! Завидую Вашей мобильности. Вы живете полной жизнью поэта и, судя по письму, счастливы. Спасибо за память обо мне. Я всегда считал Вас одним из самых близких мне моих учеников. Жду Вас и Ваших стихов. Ваш Илья Сельвинский».
И. Л. Сельвинский заботливо наблюдал не только за творческим становлением учеников, но и за творческим ростом своих бывших студентов.
В июне 1967 года Илья Львович написал вступление к книге Юрия Окунева «Лирика прежде всего», и там есть такие строки: «Голос Окунева явно возмужал. В нем появилась медь.
У Юрия Окунева – лысинка, лицо обрело морщины. А стихи? Это все та же «лирическая лирика», без которой немыслим пейзаж души этого поэта. Я легко представляю его за студенческой партой даже сейчас – столько в нем юношеского, даже детского восторга и удивления перед чудом жизни…
Окунев пишет о разном… Но главная тема его поэзии – любовь.
…Любовь поглощает все существо поэта:
«Я очень, очень занят. Я влюблен…»
Сельвинскому вторил Михаил Луконин: «Искренность и влюбленность – основные свойства этого человека и поэта»[6]6
Окунев Ю. Ответ / предисл. М. Луконина. Волгоград, 1976. С. 2.
[Закрыть].
Все, о чем говорилось выше, подтверждает и необычное письмо отцу Льва Озерова (май 1967 г.). На сообщение Юрия Окунева о новой любви Озеров дает оригинальный отклик в стихах. Вот несколько строк из него:
Главное уже совершилось:
Вы ее встретили.
При чем здесь вторые лица и третьи,
Милость ее или немилость,
И что говорят вокруг,
И о чем помалкивают…
Письмо старшего друга явилось не только поддержкой поэту, но и вдохновило на создание нового стихотворения, которое было посвящено Льву Озерову. Первые две строчки из письма стали эпиграфом к этому стихотворению.
В дни юбилеев на отца обрушивался град поздравлений. Поэты Грузии и Татарии очень ценили его как переводчика поэзии, но не меньше ценили и его человеческие качества, называя Юрия Окунева своим другом и братом.
И в шутку, и всерьез поэты характеризовали отца по-разному, но чаще мнения совпадали. Так, не сговариваясь, Тамара Жирмунская, Марк Лисянский и Всеволод Азаров назвали Юрия Окунева рыцарем поэзии, а Давид Кугультинов уточнил – последним рыцарем. Позже, уже после смерти отца, Евгений Евтушенко, обращаясь в телеграмме к волгоградским любителям поэзии, написал, что Юрий Окунев – ее бескорыстный рыцарь, а в одной из своих публикаций добавил, что он был «бескорыстным романтическим служителем поэзии, которая являлась единственным содержанием его жизни»[7]7
Евтушенко Е. // Огонек. 1988. № 42. С. 8.
[Закрыть].
Этот повтор эпитета не случаен: бескорыстие – одна из важнейших черт отца.
Но имелось еще одно звание, выражающее не только особенность характера, манеру поведения, но и самую суть личности поэта Юрия Окунева.
С юности друзья называли отца Дон Кихотом, Михаил Львов – вечным Дон Кихотом, а Маргарита Агашина – великим волгоградским Дон Кихотом, что нашло отражение в ее стихах:
Пусть именами более высокими
И площадь назовут, и теплоход,
Но все равно живет на свете Окунев —
великий волгоградский Дон Кихот.
Эти строки были написаны в 1961 году. Первого марта Маргарита Агашина пришла на день рождения отца вместе со своим мужем, поэтом Виктором Уриным. Они принесли в подарок мини-столик для газет, который можно было использовать и как мини-тумбочку с ящичком для лекарств. И вот на этом столике-тумбочке поэты написали каждый свою строфу-посвящение. Позже, в 1966 году, Маргарита Агашина вышьет эти стихи на скатерти и также подарит отцу. Теперь эта скатерть хранится в краеведческом музее Волгограда. Тот столик-тумбочка еще цел, но надписи на нем уже читаются с трудом.
Строфа-посвящение Виктора Урина – совершенно иная. Она отразила силу поэтического темперамента Юрия Окунева:
Поэзия – архипелаг
И ты, как остров, Юрий Окунев.
Твоя душа кипит, как флаг,
До ярости, до боли, до крови.
(где-то в XX веке)
На все «почетные звания», которыми награждали Юрия Окунева поэты, отец реагировал с доброй улыбкой и легкой иронией. Он воспринимал шутки друзей как продолжение игр юности.
Озорные посвящения Юрию Окуневу присылал в письмах и Николай Глазков. Отец всегда смеялся, читая эти «хулиганские» послания.
Вот еще несколько строк из воспоминаний Давида Самойлова: «Мы встречались не часто, но регулярно. Окунев с энтузиазмом рассказывал о литературной жизни Волгограда, о своих учениках, на которых всегда возлагал надежды, был полон планов и прожектов.
По-прежнему он всегда был влюблен и, как всегда, чуть абстрактно, чуть отрешенно, скорей «для стихов», чем для себя.
Человек он был чистейший и добрейший. Типичный сеятель доброго, вечного, если не всегда разумного. Но он был чистый сеятель. Всходы его интересовали меньше. Тоже, в сущности, черта Дон Кихота»[8]8
Самойлов Д. Указ. соч.
[Закрыть].
Отец любил своих друзей, гордился ими, искренне радовался их успехам в жизни и творчестве. Смерть на войне друзей Н. Отрады, М. Кульчицкого, П. Когана и преждевременный уход из жизни И. Л. Сельвинского, М. Луконина, С. Наровчатова постепенно изменили взгляд отца на мир: он стал трагическим – ощущение потерь не отпускало.
Не прав оказался Евгений Долматовский, сказавший когда-то, очень давно, что «мечтатели и энтузиасты не стареют».
Годы продолжали свое наступление, и только память Юрия Окунева оставалась по-прежнему «действующей и клокочущей». Так написал в еще одном из писем отцу Лев Озеров (20.06.84). В этом же письме есть слова, напоминающие девиз – «Будем работать, помня. Будем помнить, работая», и они совпали с нравственной аксиомой отца. На протяжении всей жизни в стихах и прозе Юрий Окунев создавал портреты своих ушедших друзей и учителей.
Спустя год или два после смерти отца я взяла в руки книгу стихов Сергея Давыдова (это происходило в книжном магазине), начала перелистывать страницы и вздрогнула, увидев стихотворение, посвященное памяти отца. Так мог написать только один из близких друзей, потому что в этих строчках – абсолютно узнаваемый, точный портрет Юрия Окунева.
…Не гонялся за модой,
свой берет обожал.
Сам себя «Квазимодо»
иногда обзывал.
Этот нос, эти уши —
да и весь неказист.
А влюблялся – как Пушкин…
ладно, как гимназист.
Бог ты мой! – сколько шума,
комплиментов, острот —
это женщине шубу
Юра наш подает!
Это кто там чуть дышит,
с кем от нежности шок?
Это девушке пишет
Юра знойный стишок!
Беспокойный наш донор —
дружбы, службы другим.
Лучший друг его помер,
Юра в бездну, за ним!
Баста! Все, не до трепа,
стонет боль, как вдова!
Значит, «дружба до гроба»
не пустые слова![9]9
Давыдов С. Суровый праздник. Л., 1989. С. 81, 82.
[Закрыть]
Отец не смог пережить смерть Михаила Львова.
«Человек в беретке» – так назвал Юрия Окунева трагически погибший молодой и необыкновенно талантливый волгоградский поэт Леонид Шевченко. Он не был учеником Юрия Окунева, и отец не помогал Леониду, как помогал другим и поддерживал многих своих учеников. Поэтому мне особенно дороги его слова о нем. В одном из своих очерков Леонид Шевченко написал об отце: «…Для меня Юрий Окунев – символ всеобщности литературного процесса, неделимого по географическому признаку… Еще многие в Волгограде помнят его «культовую» беретку, его походку, его печальные глаза. И я – помню.
…Он не был завистлив. Он восхищался чужим талантом… Юрий Окунев не только восхищался, но и помогал. Кто вертелся в «богемных кругах», тот знает, о чем я: у Дома литераторов на Красно-знаменской таким надо бы памятники ставить. Тем более, таких единицы.
…Итак, в 1988 году Дон Кихота не стало. Кое-какие воспоминания опубликованы. И появятся, безусловно, еще. Но «вакансия» Сервантеса открыта. А на могильной плите выбита строфа, и одна из строк такая: «И останешься в памяти людей и деревьев». Не сомневаюсь, Окунев – остался»[10]10
Шевченко Л. Человек в беретке и его дочь // Вечерний Волгоград. 12.01.01.
[Закрыть].
Строфа, о которой говорилось в очерке Леонида Шевченко, впервые появилась на обложке последнего прижизненного издания отца – книги «Навсегда» (1984), и полностью она звучит так:
…Люби навсегда —
И останешься в памяти
Людей и деревьев,
Люби навсегда…
Книга стихотворений «Люби навсегда» подготовлена к 90-летию поэта Юрия Окунева.
Елена Мандрика
Если любишь
Что такое поэт?
I
Что такое поэт?
Вроде чуда и нет…
Произносит слова: город, женщина, море.
И мы слышим едва
Те простые слова…
Почему же мы чувствуем: радость и горе?
Что такое поэт?
Без особых примет
Он такой, как и все: смотрит, думает, дышит.
Он совсем не герой,
Незаметен порой,
Он читателей шумных порою потише.
В чем же этот секрет,
Что такое поэт?
Объясненье, пожалуй, любое здесь ложно.
Но когда безгранична отчаянья власть
И уже остается одно лишь: пропасть —
Он придет, он докажет, что жить еще можно.
Хоть ответа и нет,
Что такое поэт,
Но пока мы с тобой рассуждаем об этом,
Там, где врач не помог,
Где бессилен и бог,
Там последнее слово за ним – за поэтом!
II
Теперь при самом строгом соблюдении равноправия женщины нам нужен культ женского очарования…
И. Сельвинский. Проспект о прекрасной даме
Он ничем не особенный. Нет никаких
Исключений из правил. Он самый обычный.
От поэта всей жизни потребует стих.
Потому он на многое смотрит трагичней.
Изумленья его – то всегда не пустяк.
Человеком его изумленья бессчетны.
Больше женщиной? Что ж отрицать. Это так.
Но всегда эта искренность не мимолетна.
Он услышит порою: «Красотка! смотри!»
Он увидит в ней то, что и вечно и кротко:
И какие тут шутки? Немея замри —
Здесь величие явно, при чем здесь «красотка»?
Если уж красота – то без всяких границ.
Не спугнет ее взглядом, до пошлости жарким.
Не ломает комедию, не падает ниц.
Он вдали, но он близок к трагизму Петрарки.
Вот исчезла. Смеются. А он изумлен.
Переполнен одним только чувством – потери!
Только миг, но великий! что чувствует он,
Затаит. Лишь стихам свою тайну доверя.
Скажут: фокусы! современный поэт
Мелкотемьем считает такие мгновенья,
Ищет яркость! Сплошной ослепительный свет
Только там,
где бессмертен инстинкт преклоненья.
«Поэзия – искусство вычитания…»
Поэзия – искусство вычитания.
Избавь от фраз и научи молчанию.
Слова мне дай, словесность отними,
Чтоб так же, как деревья, пред людьми
Они и молча явственно звучали
Безмолвием и естеством печали.
Не поучая, как входить в сердца,
Не договаривая до конца.
Ты обошлась без слов. И в этот миг
Молчанья твоего я ученик.
«В сорок пятом мчались Польшей…»
В сорок пятом мчались Польшей.
И случается
Путь, что целой жизни дольше…
Не кончается…
В селах придорожных странно,
Словно эхо,
Всюду возгласы органа,
Но проехал
Мимо вечности и боли
Я без страха,
Мимо музыки в костеле,
Мимо Баха.
Я кричал: остановись!..
Но мы бешено
Мимо Кракова неслись,
Мимо Жешува.
Все мы, суета сует,
Твои узники.
Так и скачешь ты, поэт,
Мимо музыки.
Музыки простых чудес.
Промелькнули
Звуки, краски, зимний лес,
Зной в июле.
Мир сверкнул и был таков.
Мимо, мимо…
Будто клочья облаков,
Клочья дыма.
Сколько замыслов, идей —
Все на ветер.
Сколько прозевал людей,
Не приветил.
Так и мчал бы мимо снов
И событий.
Мимо собственных стихов
И открытий.
До последней бы черты
Мимо жизни…
…………………..
Если б не взглянула ты
С укоризной.
«С детства я приближался к тебе постепенно…»
С детства я приближался к тебе постепенно.
Я не знал, что к тебе я иду.
Просто слушал Шопена.
Что-то мне предрекала гроза
неразборчиво, хрипло.
Листья знак подавали. Не понял я шифра.
Думал: птицы толкуют поверхностно
новости в мире.
И откуда мог знать, что они о тебе говорили.
…Так о чем говорили и люди, и птицы,
и камни?..
Вот ведь что оказалось: они обещали тебя мне.
Глаза
Дорожное мученье. В полумраке
Глаза ее. Иль отблески окна?..
Какие-то таинственные знаки.
Все выдумка. Наверно, спит она.
В соседнее купе взглянул случайно.
Не обернуться просто мне нельзя!..
И вот опять глядят упрямо, тайно
Как будто бы глаза. Ее глаза.
Бессонница. Я сжал виски руками.
Не мог забыться. Думать об ином.
Не выдержал. И подошел. И замер.
Все выдумка. Спит непробудным сном.
Что снится ей? И что улыбка значит?
Ужели притаиться так смогла…
И только отошел, взглянул – маячат,
Зовут глаза из черного угла!
«Если любишь, покажутся мелкими…»
Если любишь, покажутся мелкими
И хвала, и хула.
Тихо, мерно бьют переделкинские
Колокола.
Только верящему, а не верующему
Ты, как крест.
Я пойду к патриарху… Что ж делать еще?..
Ведь не съест.
Я пойду к патриарху Алексию
На поклон.
– Нет, в любви вам не будет весело, —
Скажет он.
Даже бог не прибавит силы нам,
Зови не зови…
Никогда не дождешься помилованья
От любви.
Страхом душу не исковеркаю.
Была не была!
Отпевают меня переделкинские
Колокола.
Слушая «Аве Мария» Баха
Мы слышим предсказанье вышины.
И знаем оба: мы обречены.
Молчим. Пусть наши мысли не слышны,
Но слышим: на любовь обречены…
Мы ничего друг другу не должны,
Но встретились, и мы обречены.
Не все ль равно, то явь иль только сны.
Нам лишь бы знать, что мы обречены.
«Ты и музыка – это одно. И ваш космос един…»
Ты и музыка – это одно. И ваш космос един.
Два потока, что слились навеки в один.
Вот, от сна отряхнувшись едва,
ты открыла глаза —
Это музыка…
в небе весеннем гроза —
Это музыка…
музыка даже в таком
Моем горе, когда вне твоей я мечты.
Это музыка, музыка, что бы ни сделала ты.
Письмо в Вильнюс Игорю Кашницкому
Игорь, сердцем послушай,
какая у друга беда есть:
Ты прости, что к тебе я впервые
почувствовал зависть
Оттого, что Она на неделю уехала в Вильнюс.
Она рядом с тобою,
и кажешься мне ты всесильным.
Ты прости мне, прости:
для тебя она, знаю, чужая.
Но, случайно на улице женщину опережая,
Ты подумай, не в ней ли моя
безысходная драма?..
Может быть, подойдет и к часовне она
Остро-Брама…
Ходит, смотрит она, позабыв мои строки и беды…
И не знает, что всюду за нею иду я по следу.
От меня не сбежать ей вовек,
как от собственной тени.
Видит свой она профиль
в таинственном хитросплетенье.
Пусть она приглядится, разве это ее очертанья?
Ее тень – это я, прочерневший,
сожженный страданьем.
Вот, услышав орган,
она входит под строгие своды.
И за ней по пятам неотступно я, как Квазимодо.
Предо мной ее лик.
Он прекрасный, но смертно жестокий.
Пусть я в Вильнюсе не был.
Но там родились эти строки.
«Концерт для голоса с оркестром…»
Концерт для голоса с оркестром…
Молчим и слушаем… себя.
Нам неизвестно, неизвестно,
За что, ликуя и скорбя,
Мы привязались так друг к другу,
Что, кажется, года, века
Сквозь версты чувств,
сквозь мыслей вьюгу
Идем, идем издалека.
Глаза в глаза. Идем навстречу.
Вот, кажется, уже близки:
Бери – вот счастье человечье:
Оно в пожатии руки…
Но все не так… Не так сказали,
Не так взглянули – и опять
Вспугнули стих… Ты в дальней дали —
И не обнять и не понять…
«Идет французский фильм. Смотри не опоздай…»
Идет французский фильм. Смотри не опоздай.
В Москве тбилисский гость. Ты и его проведай.
Прощается Апрель. Сулит премьеры Май.
Спеши. И каждый день считай своей победой.
Я фильмы прозевал. Я медленней живу.
Коротких встреч с тобой листаю я страницы.
Тебе не до меня. Бреду через Москву
И верю: о тебе опять мне сон приснится.
Ты дома, иль в гостях, иль снова входишь в зал,
Где через пять минут угаснут искры люстры.
…А то, что я вчера тебе не досказал, —
Ведь это только жизнь… а ты живешь искусством.
Но будет час, когда сквозь призрачный экран,
Сквозь зыбкость миражей
изображенной страсти
Проступят раны строк, проступят строки ран.
Последней в этот раз ты не досмотришь части.
И осенит тебя «помилуй и спаси»!..
Но в страшный миг, когда такое произносят,
Троллейбусы полны и не найдешь такси.
Трамвай, хотя б трамвай!.. Но где-то черти носят!
Не новый вариант. Он был во все века.
– Что я наделала!.. —
…И, если ехать прямо,
В ловушку попадешь наверняка:
Ворота раскрывает мелодрама.
…Но мы затормозим на всем скаку.
И смерть мою опередим минуты на три.
Не кайся. Не вгоняй себя в тоску.
Не суетись. Сиди себе в театре…