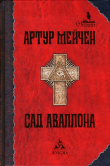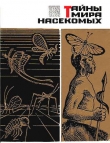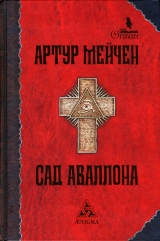
Текст книги "Алхимическая тинктура Артура Мейчена"
Автор книги: Юрий Стефанов
Соавторы: Антон Нестеров
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Можно было бы весьма пространно – и при этом плодотворно – порассуждать о том, что «Холм грез» – первая в истории мировой литературы попытка чистого мета-романа, посвященного самой тайне «алхимии слова», или же о своеобразных трансформациях «черного романа» от «Монаха» Мэтьюрина к «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» Де Куинси и далее – к Мейчену.
Последнее стоит наметить чуть подробнее, хотя бы потому, что имя Де Куинси постоянно всплывает в «Холме грез». Для XIX века «Исповедь англичанина…» воспринималась именно как готический роман.Весьма характерно, что в русском переводе, появившемся в 1834 г., авторство ее было приписано Мэтьюрину, олицетворявшему все готическое in masse. [66]66
Кондратьев В.Показания поэтов / Де Квинси Томас. Исповедь англичанина, употреблявшего опиум. М., 1994. С. 136–137.
[Закрыть]Но сам жанр готического романа возник как реакция культурного сознания на наступление «века толп», чей приход возвестила Французская революция. Террор плебса и всплеск интереса к террору инфернального слишком совпадают по времени: они – лишь разные стороны одной медали. [67]67
См.: Byrd Max.The Madhouse, the Whorehouse, and the Convent / Partisan Review, 44 (1977). P. 268–278; Le Tellier Robert.An Intensifying Vision of Evil: The Gothic Novel (1764–1820). Salzburg, 1980; Paulson Ronald.Gothic Fiction and the French Revolution / ELH 48 (1981). P. 532–554; Punter David.The Literature of Terror. London, 1980.
[Закрыть]Готический роман облек плотью слова ужасы и фантазмы, порожденные городской цивилизацией. А Де Куинси нашел мужество сделать следующий шаг, чтобы сказать: эти призраки и фантазмы таятся в каждом из нас. Разъяренная городская толпа и вереницы ужасающих личин, всплывающие в сознании во время наркотического опьянения, – и то, и другое лишь плата за выхолощенный рационализм и бездуховность нашего урбанистического «бытия». И если герои классических «черных» романов Рэдклиф блуждали в мрачных галереях замков или диких лесах, а рассказчик в романе Де Куинси странствовал по закоулкам опиумного бреда, испытывая клаустрофобию человека, загнанного в клетку собственного сознания, то в «Холме грез» Мейчена мы видим, как оба мотива сведены воедино: герой, осаждаемый своими фантазмами, скитается по городу, который предстает ему как «изматывающий тело и душу ад, созданный в эпоху бездарности, преисподняя, построенная не великим Данте, а дешевым подрядчиком».
Но пора сказать несколько слов о самом романе. В предисловии к «Холму грез» Мейчен признается, что решил написать своего собственного «Робинзона Крузо», роман, где героем будет не тело, а душа. [68]68
Еще одна замечательная параллель: Робинзон, скрупулезно подсчитывающий в дневнике, в порыве протестантского рвения, все тяготы и преимущества своего положения, Де Куинси, исчисляющий капли принятого за день лауданума, – и мейченовский Луциан, прикидывающий соотношение удачных и неудачных пассажей в своих творениях. Так и создается «национальная традиция» в литературе.
[Закрыть] «Я пришел к выводу, – говорит он, – что именно это мне и следует сделать, и решил взять тему одиночества, страха, разобщенности; но от одиночества моему герою предстояло страдать не на необитаемом острове, а в дебрях Лондона..<…> Океан, окружавший Робинзона Крузо и отделявший его от других людей, в моем романе должна была заменить духовная бездна». Луциан – единственный герой «Холма грез», если не считать скопища человекообразных существ – они кажутся ему «серыми тенями, пробегающими по серой простыне», – и его женского двойника – возлюбленной, вдохновительницы и убийцы, партнерши на подмостках призрачного театра, по ходу действия примеривающей на себя самые разные маски. Можно сказать, что Луциан – это один из узников знаменитой платоновской пещеры, перенесенной воображением Мейчена (и своим собственным) в конец XIX века, пытающийся силой все того же воображения превратить свою подземную темницу в «мистический город с роскошными виллами, тенистыми садами, колдовским ритмом мозаичных полов, плотными дорогими шторами, испещренными таинственным узором». Узники пещеры не видят ничего, кроме теней, отбрасываемых огнем на ее стены; Луциан, в полном соответствии со значением своего имени, дерзает глянуть вверх – в сторону света.
Он «прочел изрядное количество книг по современному оккультизму и запомнил кое-что из написанного в этих книгах». Посвященный, утверждалось в них, может уничтожить окружающую действительность и перейти в высшие сферы. Для этого достаточно изменить свой собственный внутренний мир. Совершив этот магический акт, Луциан перестает быть всего лишь зрителем платоновского театра теней, становясь драматургом, исполнителем, созерцателем своего собственного волшебного действа. Он перевоплощается в Робинзона Крузо на «необитаемом островке» среди Лондона, в любителя опиума Де Куинси, в «смуглого фавна, привольно вытянувшегося на солнце», в средневекового скриптора, украшающего свои рукописи диковинным орнаментом, ему открылась древняя тайна Великого Делания алхимиков, «под нищенским покрывалом повседневности он научился распознавать подлинное золото, сокровище пленительных мгновений, средоточие всех красок бытия, очищенных от земной скверны и хранящихся в драгоценном сосуде».
А между тем в «реальной» действительности, которой Луциан отказывает в праве на существование, «понемногу, но неуклонно стирая с лица земли современные прямоугольные жилища, отстраивая полный блеска и славы град силуров», окружающие все чаще обзывают его «глупой скотиной», «самым настоящим ослом». И эти обидные прозвища не случайны. Ведь главная роль Луциана, исполняемая им на просцениуме повествования, – это роль Луция из романа Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». В самом начале «Холма грез» говорится, что, «как герой волшебной сказки, он бесстрашно шел вперед, разглядывая открытую им удивительную страну». Со временем эта несуществующая страна становится для него настолько убедительной явью, что порой ему доводилось присутствовать на представлениях в античном театре – перед ним разворачивались сцены из «Дафниса и Хлои» и «Золотого осла». Апулей рассказывает, что, влекомый похотью (и тягой к рискованным магическим опытам), Луций теряет свой человеческий облик, превращается в осла. «Хорошо еще, что средство против такого превращения под рукою, – утешает его любовница. – Ведь стоит только пожевать тебе розы – и сбросишь вид осла и тотчас снова обратишься в моего Луция». [69]69
Апулей.Метаморфозы, или Золотой осел, XI, 5–6 / Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М., 1988. С. 156.
[Закрыть]Но процесс метаморфоз затягивается, и Луцию-ослу приходится на собственной шкуре изведать, что такое пресловутые «инициатические испытания», прежде чем он примет из рук жреца Исиды розовый венок и, пожрав его, снова станет человеком. Осел – символ невежества, похоти и демонического начала в человеке, роза олицетворяет возрождение и посвящение в мистерии. Вот как жрец по имени Азинус, то есть осел, alter ego Луция, объясняет смысл выстраданного им опыта: «Слепая судьба, мучая тебя худшими опасностями, сама того не зная, привела к настоящему блаженству… Ибо среди тех, кто посвятил свою жизнь нашей верховной богине, нет места губительной случайности. Какую выгоду судьба имела, подвергая тебя разбойникам, диким зверям, рабству, жестоким путям по всем направлениям, ежедневному ожиданию смерти? Вот тебя приняла под свое покровительство другая судьба, но уже зрячая, свет сиянья которой просвещает даже остальных богов». [70]70
Там же. С. 293.
[Закрыть]
Прототип Луциана из романа Апулея, миновав «худшие опасности», причащается Розе, сливается с ней в единое целое, в котором скотское естество пересилено божественным промыслом, становится человеком в полном смысле слова. Другое дело Луциан. Его освобождение из оков материального мира так же иллюзорно, как насажденные его фантазией сады Аваллона, где «кроваво-красные розы, изнемогая от жары, наполняли воздух ароматом таинственным и мощным, как сама любовь». Слишком много мистических роз благоухает в этих садах, слишком пышно цветут они на полях его эротического «молитвенника». Уподобляясь св. Хуану де ла Крусу, Луциан «вынимал из сундука можжевеловые ветви, расстилал их на полу и, сняв ночную рубашку, укладывался нагим телом на эту постель из шипов и жестких шишек». Но св. Хуан учил, что «следует бежать от видений и откровений, как от величайшей опасности», [71]71
Мережковский Д. С.Испанские мистики. Брюссель, 1988. С. 221.
[Закрыть]а для Луциана умерщвление плоти было подспорьем в магическом действе по перелицовке «реального мира». «Если мы хотим быть уверены, – писал св. Хуан, – что идем не по ложному пути, то должны закрывать глаза и обрекать себя на мрак, который служит для души убежищем от нее самой и всякой твари». [72]72
Там же.
[Закрыть]Луциана же влекло в тот тайный сад, где «каждая роза есть пламя и возврата из которого нет».
«Холм грез» можно сравнить с калейдоскопом, при каждом повороте которого глазу открывается новое сочетание форм и цветов, мгновенно переносящих нас из серых сумерек Лондона в «блистающий мир» античности или к подножию Холма грез – черного кургана на фоне багрового закатного неба. Каждому из этих миров присуща своя цветовая гамма и связанная с ней символика.
«В цветовой символике ирландской традиции, – пишет известный кельтолог С. Шкунаев, – красный цвет неизменно связывался с потусторонним миром, особенно когда он или связанные с этим миром персонажи окрашивались в зловещие, демонические тона. Эпитет derg– красный – часто входил в мифологические имена… Потусторонний мир, ассоциировавшийся с „островами блаженных“, напротив, часто маркировался зеленым цветом (или контрастом белого и черного)». [73]73
Шкунаев С.Похищение быка из Куальнге. М., 1985. С. 458.
[Закрыть]
В «Холме грез» такая символика служит если не смысловым каркасом романа, то композиционной «маркировкой», отмечающей переходы от одного уровня бытия к другому, системой опознавательных знаков, с помощью которых читатель может легче ориентироваться в многоплановых пространственно-временных конструкциях повествования. В этом смысле знаменательна первая фраза романа: «Небо полыхало, словно там, в вышине, открылась заслонка огромной печи». Отблески «красного пламени», «небесного костра», «пурпурного колдовства» перебегают со страницы на страницу; их игра усложняется переливами других цветовых брызг и пятен того же оттенка – «кроваво-красный поток», «кроваво-красные розы», «вино цвета темной розы», «красные язвочки» на теле Луциана, терзающего свою плоть ветками можжевельника, и даже «красная глина», послужившая ему основой краски для буквиц в рукописи, в которой воспевается его любовное безумие…
Каждая из этих искр и капель – крохотный просвет или огромный проем, открывающийся в мир инобытия, недоступный восприятию участников «маленькой ярмарки тщеславия», – они кажутся Луциану «целым роем жирных мух, гудевших и хлопотавших над куском гнилого мяса, валявшегося в траве». «Сады Аваллона», коренящиеся в недрах его воображения, сияют всеми цветами радуги: «В листьях лавра таилась нефритовая прохлада; сады, полные красных, золотых, голубых и белых цветов, переливались в солнечном мареве, словно огромный опал; река напоминала ленту из старинного золота». Волшебный Аваллон, остров бессмертных из кельтских сказаний, – антипод Лондона, царства духовной и материальной серости. Автор называет его «ледяной пустыней» и «серой пустотой», сравнивает с заброшенным языческим капищем: «В эти часы Лондон превращался в огромный серый храм, где совершался некий страшный обряд. Каменные алтари чародеев кольцо за кольцом опоясывали одним им ведомый центр, и каждое новое встреченное кольцо было посвящением, и каждое новое посвящение означало утрату. Может быть, он просто заблудился в стране серых скал?»
Еще одна символическая цветовая тональность – белизна, соотносящаяся не с многоцветьем Аваллона из грез главного героя романа, а с традиционными эпитетами этого мифического острова, который с равным основанием зовется то «зеленым», то «белым». Зеленый цвет знаменует потусторонность, запредельность (еще в Древнем Египте Красное море, тогдашний предел обитаемого мира, называлось «Великой зеленью»). Белизна соответствует просветлению человеческой души, освободившейся от коросты страстей и грехов. На вершине холма, куда любит забираться Луциан, «мерцали стены Белой Фермы», где живет старый Морган с дочерью Энни. Впервые она появляется в романе на развилке дорог у холма: «что-то белое отделилось от темной изгороди, проскользнуло мимо него и растворилось в таинственном полумраке сгустившихся сумерек, чуть подкрашенных багрянцем последних солнечных лучей». Мейчен подчеркивает цветовые контрасты: белая фигура – и черные силуэты дубов на фоне освещенного неба. Вторая сцена с участием Энни Морган происходит на старинной Белой Ферме, «где можно было прикорнуть в холодную декабрьскую ночь, наслаждаясь покоем, безопасностью и теплом». Энни угощает Луциана зеленоватым сидром, а ее отец заводит разговор о яблонях и яблоках. И все это – отнюдь не «проходные», ничего не значащие подробности, которым не место в магических мирах Мейчена. Уж слишком много здесь бросающихся в глаза символических параллелей.
Морганой или Морриганой (ср. русск. «мор», «марево», «мрак» и «морок») именовали кельтскую богиню смерти и загробного царства; так же, по сути дела, зовут и юную мисс Морган. Многозначительно и ее личное имя, если вспомнить, что в бретонских легендах богиня Анна повелевает народом мертвых – анаон,а валлийское название потустороннего мира – Аннон. [74]74
Bzaz A.La legende de la mort. Paris, 1968. P. 133; Мифы народов мира. Т. 2. М., 1992. С. 317.
[Закрыть]Моргана владеет «Белым островом», Энни Морган живет на Белой Ферме. Название «Аваллон» происходит от слова абалили афал(яблоко) – Белая Ферма славится своими яблоками. «Мой дед посадил яблоки во время войны, – говорит отец Энни, – а уж лучше его никто в то время в яблоках не разбирался». Яблоки феи Морганы сродни яблокам Гесперид – это плоды тайноведения и бессмертия. Кроме того, в фольклоре многих народов Европы яблоко, приносимое девушкой юноше, означает признание в любви. И наконец, Моргана переносит на остров Аваллон смертельно раненного короля Артура, где он покоится в волшебном дворце.
Энни-Анна-Моргана предстает на страницах «Холма грез» в разных, но узнаваемых обличьях. Это и дочь простого фермера, однако ее «удивительно бледная кожа», «блестящие, словно подкрашенные чем-то губы, черные волосы и бездонные, мерцающие глаза» приводят на память строки из поэмы Гумилева «Дракон»: «Губы смерти нежны и бело молодое лицо ее». Это и созданная воображением Луциана «обнаженная, почти бесплотная женская фигура – ее светлые руки обвивали шею раненого рыцаря, на ее груди находил покой преследуемый миром возлюбленный, ее ладони были щедро протянуты навстречу нуждающимся в милосердии…». «Она научила его волшебству, пробудившему к жизни сады Аваллона», явилась воплощением алхимической премудрости, «волшебным ключом открывшей ему закрытый вход во дворец». [75]75
Намек на знаменитый трактат Филалета «Открытый вход в закрытый дворец Короля» (1667).
[Закрыть]И она же – «царица шабаша», ночная красотка под газовым фонарем в разгаре пьяной лондонской оргии, красотка, которая «чем-то удивительно напоминала портрет работы старых мастеров». Энни – символ и воплощение таинственной женской натуры или даже самой жизни, но, с другой стороны, «в лице этой женщины ему явилась смерть».
Явилась под конец романа: «великолепные бронзовые волосы струились по спине, щеки разгорелись, глаза призрачно мерцали». Она была как две капли воды похожа на гулящую девку, когда-то окликнувшую Луциана на улице. Автор сравнивает ту и другую с ожившими мраморными статуями, внутри которых трепещет огонь. «Когда она заговорила, – пишет он о первой, – на лице ее вспыхнуло и угасло дрожащее алое пламя. Девушка гордо вскинула голову и замерла, словно статуя, – бронзовые волосы слегка курчавились возле точеного уха». Вторая бесшумно прокрадывается в комнату умирающего Луциана, неся с собой лампу: она как бы проигрывает на свой лад ту сцену из «Метаморфоз» Апулея, когда Психея-душа со светильником в одной руке и кинжалом в другой склоняется над ложем Купидона: «…когда она склонилась над Луцианом, сияющее пламя вспыхнуло в ее темных глазах, а легкие завитки волос на шее казались золотыми кольцами, украшающими мраморную статую».
Финал «Холма грез», как, впрочем, и другие эпизоды романа, не под дается однозначному толкованию, да и не нуждается в нем. «Ожившая статуя» изъясняется на вульгарном жаргоне: «втемяшил себе в голову», «писаки все такие», «он вот-вот загнется»; она сообщает своему спутнику, что Луциан оставил ей свои сбережения; тот начинает тут же лапать ее. Из всего этого вроде бы можно заключить, что «шабаш», на который приглашала Луциана уличная незнакомка, обернулся пошлой любовной интрижкой или не менее банальным браком.
Однако возможно и другое прочтение. «Человек – свет в ночи: вспыхивает утром, угаснув вечером», – говорил Гераклит. Вся описанная в романе жизнь Луциана укладывается в этот краткий промежуток между двумя вспышками пламени: в начале и в конце повествования над Луцианом полыхает багровое зарево, «словно где-то в вышине открылась заслонка огромной печи». И разве не сам он наколдовал такую судьбу? Само имя Луциана – свидетельство его соприродности свету и огню, пусть даже самоснедающему и зловещему. Существительное luxпереводится как луч, свет. Глагол lucereозначает лучиться, светить, блестеть, сиять. Но не забудем, что от того же корня образовано имя Люцифера, падшего ангела. «Луциан стал пленником черной магии, – напоминает нам Мейчен. – <…> Он был уверен – или почти уверен, – что только что вступил в общение с дьяволом».
Луциан всю жизнь сжигает себя – то занимаясь аскетическими подвигами, то истязая себя работой, то поглощая наркотическое снадобье из бутылочки темно-синего стекла – ее аналогом в садах Аваллона являются темно-синие чаши, «по глубине и ясности их цвет мог соперничать с самим летним небом, а сквозь толщу стекла просвечивали мощные вкрапления желтизны, ветвившиеся от ножки кубка к его краю, словно вены на руке». В предсмертном бреду ему мерещится, что он вновь встретился с Энни. Их огненный брак свершается в бесконечных кругах огромных камней – это и языческое капище, и современный Лондон, «бессмысленный, отвратительный, изматывающий тело и душу ад». Так не лучше ли превратиться в вечный огонь, чем вечно томиться в этой «серой пустоте»? «Он обнял ее – но в тот же миг из груди Энни вырвалось пламя. Луциан опустил глаза и увидел, что его плоть тоже охвачена огнем. И он понял, что этому огню не суждено угаснуть никогда».
Он пробудился ото сна – ему должно быть безразлично, чем вызвано это пробуждение: горячим ли маслом из светильника Психеи, капнувшим на его тело, или пылающей керосиновой лампой, с которой в его обшарпанную комнату вошла уличная потаскушка, богиня любви и смерти.
Луциану, летящему, как мотылек, в тот «таинственный сад, где каждая роза есть пламя», не удалось завершить свой литературный шедевр: осталась только груда листков, «покрытых безнадежными каракулями, в которых лишь иногда можно было угадать отдельное слово». Вся или почти вся энергия его творчества перегорела в люциферическом огне мыслеобразов, заменивших ему «реальность». Автор «Холма грез» оказался счастливее, ему удалось вырваться из плена черно-красной магии, иначе мы не имели бы возможности проникнуть в магическое многоцветье садов Аваллона.
…В одном из писем, отправленных Артуру Уайту через несколько лет после распада Золотой Зари, Мейчен замечает: «Теперь я не чувствую никакой тяги к лунам и шабашам. Я возвращаюсь к изначальному христианству». [76]76
Цит. по: Machen A.Le cachet noir. Paris, 1968. P. 12.
[Закрыть]
В предисловии к роману «Тайная слава» сказано несколько слов об этом обращении: «Меня захватило глубокое исследование красивой легенды о Святом Граале; точнее, одна из граней этого необыкновенного свода сказаний. Мне удалось обнаружить связь легенды о Святом Граале с исчезнувшей кельтской церковью, существовавшей в Британии в V–VII веках нашей эры; и я пустился в необычное и пленительное путешествие по туманным и смутным областям истории христианства… это было странствие по исполненному опасностей морю, паломничество к забытой всеми волшебной земле…»
Результатом паломничества явился целый цикл, связанный с историей о Святом Граале: повесть «Великое возвращение» (1915), несколько статей, посвященных Чаше Тайной Вечери, роман «Тайная слава» (1924) и ряд рассказов (около 1923), в которых появляется главный герой романа – Амброз Мейрик, – потомок кельтского рода, связанного с Хранителями Священной Чаши, сокрытой в горах Уэльса. Он становится последним в великой цепи христианских праведников, оберегавших Грааль: повинуясь воле Провидения, Амброз доставляет Чудесный сосуд в Азию, где передает его «в руки тех, кому ведомо, как навсегда сокрыть славу Чаши от мира зла». Возвращаясь в Европу, Амброз становится жертвой резни, «учиненной то ли турками, то ли курдами», и принимает мученическую смерть на кресте.
В «Великом возвращении» повествуется о том, как во время Первой мировой войны в Уэльсе произошло чудо: в маленькой деревушке явились трое святых, которые с древних времен были хранителями Грааля.
В рассказе «Сокрытое чудо» пересказывается некая статья, якобы написанная Амброзом Мейриком и утверждающая, что истинные чудеса постоянно явлены нашим взорам, но мы их не замечаем.
И наконец, в «In convertendo» повествуется о юности Мейрика, когда он впервые узнал волшебные предания, связанные с историей «кельтской церкви».
Настойчивая повторяемость ряда мотивов, когда между текстами, которые отделяют друг от друга едва ли не десять лет, существует масса прямых параллелей, наводит на мысль, что Мейчен раз от разу пытался высказать нечто глубоко прочувствованное, но не поддающееся выражению, а потому предпринимал новую и новую попытку. [77]77
Заметим, что А. Э. Уайт, собрат Мейчена по Золотой Заре, публикует в 30-е годы большое исследование, посвященное Граалю: White А. Е.The Holy Graal, its legends and symbolism. London, 1933. Рецензию P. Генона на эту работу можно обнаружить в: Геном Р.Символы священной науки. М., 1997. С. 51–67.
[Закрыть]
Легенда о Граале восходит к апокрифическому «Евангелию от Никодима», где говорится, что Иосиф Аримафейский собрал кровь, вытекающую из ран распятого Христа, в чашу, которая служила во время Тайной Вечери сосудом Евхаристии.
Эта Чаша с кровью Спасителя, с тех пор скрыто пребывающая в мире, есть величайшее из сокровищ, дарованных человечеству.
Внутренний смысл легенды легко понять, взглянув на гравюру из «Книги священного Евангелия Господа нашего Иисуса Христа», изданной в Вене в 1555 г. [78]78
Liber Sacrosancti Evanngelii de Iesu Christo Domino e Deo Nostro. Vienna, 1555. Воспроизведена в: Mattheews John.The Grail. Quest for Eternal. London, 1994. P. 38.
[Закрыть]На гравюре изображен св. Иоанн, созерцающий распятого Христа, чьи раны проецируются на Древо Сефирот. Ране, нанесенной копьем Лонгина, соответствуют две сефиры – Теферет (Великолепие), изображенная в виде Солнца, и расположенная у подножья Древа Малхут (Царство), символизированная чашей – т. е. Граалем. Гравюра на языке христианской каббалы говорит, что Теферет, Сердце Сердца, соответствует крови Христа, содержащей Его Дух – средоточие и сердце Универсума, а Малхут символизирует присутствие Божества в материальном мире – жертвенную кровь, очистившую сынов Адамовых.
В каббалистике сефира Малхут есть реализация Божественного замысла, ей соответствует аспект воплощения. Если же рассматривать Малхут, взятую не отдельно, но в ее аспектах, то она подобна Солнцу, скрывшемуся за горизонтом, она есть «выступившее на первый план земное (мгла), мир реализующихся потенций». [79]79
Раби Шимон.Фрагменты из книги «Зогар». М., 1994. С. 266.
[Закрыть]Раби же Шнеур-Залман из Ляды учит, что «Малхут есть Утаение, она скрывает Свет Эйн Софа, благословен Он, чтобы время и пространство не лишились своего существования даже для нижних». [80]80
Шнеур-Залман из Ляды.Ликутей Амарим. Вильнюс, 1990. С. 393.
[Закрыть]Цель каббалы – «высветить» эту сефиру, отпавшую от Господа, переместить ее в невидимую одиннадцатую сефиру Даат, символизирующую духовное совершенство.
Тем самым обретение Грааля есть «просветление» в человеке сокрытого в нем божественного начала – обожение, истинное крещение в дух. И потому не следует понимать Священную Чашу, сокрытую от мира, слишком материально.
Но вернемся к самой легенде… Согласно «Хронике Псевдо-Декстера», «жители иерусалимские, преисполнившись злобы к благословенному Лазарю, и Магдалине, Марселле, Максиму и достойному декуриону Иосифу Аримафейскому, и ко многим другим, посадили их на корабль без руля и ветрил и отправили в изгнание; те же, по воле Господа, переправились через могучий океан и достигли Марсельского побережья, не претерпев при том никакого ущерба». [81]81
Цит. по: Alexander Mark.British Folklore, Myth and Legends. London, 1982. P. 14.
[Закрыть]
Однако Иосифу не суждено было осесть в Галлии. Апостол Филипп ставит его во главе двенадцати учеников, что отправляются проповедовать христианство в Британию. Некоторые источники указывают, что выбор пал на Иосифа, ибо, будучи купцом, он прежде посещал эту землю по торговым делам. (Заметим, что независимо от того, правда это или нет, сама возможность подобных путешествий совершенно реальна: и Иудея, и Британия были частью единой империи – Pax Romana, – так что иерусалимский торговец вполне мог ездить за товаром – скорее всего, оловом – куда-нибудь в Уэльс.)
В написанной около 1130 г. хронике «De Gestis Regum Angliae» «О деяниях английских королей» – Вильгельм Малмсберийский, ученейший из людей своего времени, [82]82
Подобно современным исследователям, Вильгельм ездил по всей Англии и работал в монастырских архивах, собирая материал для своей истории.
[Закрыть]упоминает учеников Филиппа, говоря, что «вовсе не противоречит истине: если апостол Филипп проповедовал галлам (как пишет Фрекульф в четвертой главе второй книги), то можно поверить, что он посеял семена проповеди также и через океан. Но чтобы не показалось, будто я обманываю ожидания читателей, рассказывая пустые басни, то, оставив в стороне противоречивые сведения, я перейду к рассказу о деяниях, чья истинность несомненна». [83]83
«Nee abhorret a vero; quia si Philippus apostolus Gallis praedicabat (sicut Freculfus libro secundo, capito quarto dicit), potest credi quod et trans oceanum sermonis semina jecit. Sed ne videar per opinionum naenias lectorum expectationem fraudare, illis quae discrepant in medio relictis, ad solidae veritatis gesta enarrare succingar». William of Malmesbury.Gesta Regum Anglorum. V. 1. Vadus. 1964. P 32.
[Закрыть]Казалась бы, хронист чрезвычайно сдержан, к тому же он ни словом не упоминает об Иосифе Аримафейском. Если бы не одно но: весь абзац начинается с того, что по просьбе короля бриттов Луция (и тут все основано на источниках, которые Вильгельм видел и которым можно верить!) в Англию, в Гластонбери, прибыли посланцы Папы Элевтера (176–189 гг.) и там воздвигли церковь, посвященную Деве Марии. А дальше следует престранная оговорка: «Sunt et illae non exiguae fidei literae in nonnulis locis repertae ad hanc sententiam, „Ecclesiam Glastoniae non fecerunt aliorum hominum manus sed ipsi discipuli Christi earn aedificaverunt“» [84]84
Там же.
[Закрыть]– «Однако есть достойные доверия свидетельства, найденные в неких местах, говорящие, что „не руками иных каких людей, а учениками самого Христа была построена церковь в Гластонбери“». Учениками Христа, а не Филиппа! Причем и о свидетельствах, и о том, где они найдены, говорится невнятно и неохотно.
А затем начинают происходить вещи вовсе странные. Хроника «О деяниях английских королей» написана. И тут монахи монастыря Гластонбери приглашают Вильгельма ознакомиться с некими неизвестными ему документами. Такова версия аббатства Гластонбери. Вильгельм принимает приглашение. То, что он работал с монастырскими архивами, – не вымысел. И после этого Вильгельм практически переписывает всю историю!
Согласно его «De Antiquitate Glastoniensis Ecclesiae» – «О древности церкви в Гластонбери», – в пятнадцатый год от Успения Богоматери (63 г. н. э.) Иосиф Аримафейский с двенадцатью учениками прибывает в Британию и получает от короля Арвигаруса, отказавшегося принять новую веру, но проникшегося почтением к их образу жизни, дар – землю в Инис Витрин, у подножия холма в Гластонбери. Затем еще двое языческих королей прибавляют по наделу земли от себя, так что двенадцать первохристиан Британии имеют по «укромному убежищу каждый». Им является архангел Гавриил и, указав место, велит воздвигнуть на нем «церковь из ветвей древесных» (вспомним «густую ясеневую поросль», скрывающую руины загадочной церкви из рассказа Мейчена «In convertendo», являющегося парафразой на тему романа о Граале!). Церковь должна быть освящена в честь Богоматери, ибо так пожелал сам Христос. Отшельникам после этого часто являлась Богоматерь, притом чудесным образом принося им все необходимое для жизни. И лишь затем следует сюжет с королем Луцием и посланцами Папы. [85]85
Migne.Patrologia. CLXXIX, 1681–1734. Paris, 1855.
[Закрыть]
Хроника «О древности церкви в Гластонбери» написана около 1135 г. Однако оригинальная рукопись погибла во время пожара аббатства. Как и древняя церковь. А сохранившиеся копии датируются, самое раннее, 1240 г. На основании чего считается, что вся история «вписана» монахами аббатства уже после смерти автора хроники. Из лучших побуждений, но… [86]86
См.: Trehamer R. F.The Glastonbury Legends. Bristol, 1967. P. 25–40.
[Закрыть]
Теперь перенесемся на другой конец Британии. Около 1130 г. (странное, как мы увидим, совпадение) монах Джефри (Гальфридиус) из Хандафа, что в Уэльсе, составляет, в форме проповеди, житие святого Тейло, жившего в VI в. Святого Тейло, который является хранителем Грааля в «Вечном возвращении» (и «Тайной славе») Мейчена. Единственное документальное упоминание об этом святом, крайне почитаемом в Южном Уэльсе (и внесенном в святцы – празднуется 9 февраля), – скупая запись в книге церкви св. Клэда. Из этого жития мы узнаем, что Тейло, родившийся в местечке Пенэлли, вырос в Тенби, в Пембрукшире, и до принятия монашества носил имя Элиуд. Он был учеником св. Дубриция (житие которого вполне подробно и фактологично), а потом – некоего Паулина (возможно – св. Павла Аурелиана, о котором тоже известно весьма многое). Затем произошла встреча Тейло со св. Давидом, ставшим после канонизации патроном Уэльса. (Интересно, что мощи св. Давида в XIV в. были перенесены из собора в Минив в Гластонбери.) Вместе со св. Давидом Тейло предпринимает путешествие в Иерусалим, окутанное некой загадочностью и мало похожее на обычное паломничество. Более всего рассказ об этом путешествии напоминает волшебную легенду о плаванье св. Брендана. [87]87
См.: Denis O’Donoghue(ed.). Lives and Legends of Saint Brendan the Voyager. Felintachc, 1994.
[Закрыть]Вернувшись в Британию, Тейло поселяется в Доле вместе со св. Самсоном, и они «сажают большой фруктовый сад, протянувшийся на три мили, от Дола до Кая, и сад тот до сих пор зовется их именами» (вот они, сады Аваллона!). [88]88
Walsh W.(ed.). Lives of Saints. Welwood, 1985. P. 42.
[Закрыть]Через семь лет Тейло возвращается в Уэльс, где вскорости умирает. [89]89
Подробнее см.: Evans D.S. Lives of the Welsh Saints. Gardiff, 1971. P. 162-206.
[Закрыть]
Таково церковное предание – довольно странное и невнятное. И в нем бросается в глаза не очень понятная связь св. Тейло с Гластонбери через св. Давида.
Вернемся на мгновение к легенде о св. Иосифе Аримафейском. По утверждению монахов Гластонбери, Иосиф привез Грааль в Британию. Это же утверждает и роман Робера де Борона «Иосиф Аримафейский», написанный в конце XII в. [90]90
См.: Веселовский А. Н.Где сложилась легенда о Святом Граале / Мэлори Томас. Смерть Артура. Т. 3. М., 1991. С. 61.
[Закрыть]Согласно монастырской легенде, Священная Чаша была сокрыта в источнике Гластонбери.
А теперь укажем, что вплоть до начала нашего века в Ландейло Лвидарт, что в северной части Пембрукшира, Уэльс, существовал культ источника Святого Тейло. Вода из этого источника исцеляла все немощи и болезни (таковы же свойства Грааля), если выпить ее из хранящегося в доме у источника черепа святого Тейло, поднесенного прямым потомком семьи, издавна живущей у волшебного родника (непрерывная цепь Хранителей Святого Сосуда!). Известный фольклорист Рис держал этот череп в руках. Как он пишет в своей книге «Кельтский фольклор»: «Я мало что знаю о черепах, но я почти уверен, что то была крышка толстого, крепкого черепа». [91]91
Rhys J.Celtic Folklore. Welsh and Manix. Vol. I. Oxford, 1901. P. 398.
[Закрыть](Череп исчез в 1927 г. – через три года после выхода в свет «Тайной славы» Мейчена. [92]92
Folklore, Myths and Legends of Britian. N.Y., 1977. P. 392.
[Закрыть]) Несомненно, здесь мы имеем дело не с «теологически правильным» церковным преданием, а с народным христианством, но параллелизм с легендой о Святом Граале бросается в глаза.
И так ли уж случайно одновременное оформление монастырской легенды о Граале и воскрешение памяти о странном и весьма древнем святом в первой трети XII в.? Не просвечивает ли за ними некий общий сюжет?
Отчасти таким общим сюжетом являлась сама история кельтской церкви. Мы располагаем свидетельствами о том, что первые христиане появились в Англии и Ирландии в начале II в. н. э. Так уже Тертуллиан в 208 г. и Ориген в 230-м пишут, что в христианскую веру обратилось значительное число жителей отдаленных северо-западных провинций империи, хотя в некоторых пустынных и диких областях и не слышали проповеди слова Божия. Документально засвидетельствовано, что трое британских епископов: Эбориус из Йорка, Реститутус из Лондона и Адельфиус из Линкольна присутствовали на Соборе в Арле в 314 г., из чего можно заключить, что к этому времени христианские общины на острове были весьма значительны. [93]93
Oman Charles Sir.A. History of England before the Norman Conquest. London, 1994. P. 180.
[Закрыть]Сульпиций Север в «Священной истории» пишет, что на Соборе в Ариминуме в 359 г. среди 400 церковных иерархов присутствовали по меньшей мере три епископа из бриттов, «не имевшие собственных средств и не желавшие жить на пожертвования своих коллег», в связи с чем Север замечает, что «таковая приверженность их бедности вызвала в нем глубокое уважение». [94]94
Oman Charles Sir.A History of England before the Norman Conquest. London, 1994. P. 181.
[Закрыть]Обратим внимание на эту деталь, ибо она многое объяснит в истории кельтской церкви. В приписываемой св. Патрику, крестителю Ирландии, «Исповеди» также говорится о том, что когда он около 432 г. прибыл на остров со своей миссией, то, как и ожидал, обнаружил, что часть населения страны, пусть и незначительная, верует в Христа. При этом специфика кельтского христианства заключалась в том, что оно опиралось на монастыри, а не на диоцезы, как на континенте: в Ирландии в большей степени, в Уэльсе, ориентировавшемся, скорее, все же на континентальную модель, – в меньшей. Во всяком случае, в Уэльсе мы находим церковную организацию более соответствующей именно римской модели, ибо духовной жизнью валлийцев руководят не столько святые и праведники, опирающиеся на свой авторитет, сколько местные епископы, стоящие во главе территориальных общин. [95]95
Ibid. P. 180.
[Закрыть]Но и там, и там принявшие Христа действительно посвящали Ему свою жизнь, ревностно и радостно служа Спасителю, принимая обет бедности и аскезу. Недаром кельтскую церковь называют «церковью святых». Кельты сделались едва ли не самыми ревностными проповедниками веры в Европе, кельтские миссионеры дошли даже до Киева. [96]96
Шкунаев С.Герои и хранители ирландских преданий / Предания и мифы средневековой Ирландии. М., 1991. С. 9.
[Закрыть]Но при этом кельтская церковь сохраняла известную автономию, если не сказать изоляцию, от прочих христианских церквей. В частности, она иначе исчисляла пасхальный цикл, опираясь на расчеты Сульпиция Севера, положившего в основу временной интервал в 84 года, тогда как все прочие церкви Запада пользовались к концу V в. 532-летним циклом Анатолия Александрийского. Отличие это, собственно говоря, было чисто формальным, однако оно свидетельствует о том, что церковь Ирландии и Уэльса ревностно хранила предания и обычаи своих первосвятых и основателей, отказываясь от всяких инноваций и изменений. Обилие монастырей давало возможность от монаха к монаху передавать соответствующие легенды и обряды в неискаженном виде на протяжении многих десятилетий.