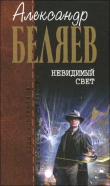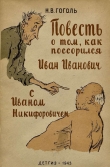Текст книги "Де Санглен Яков Иванович - рыцарь при императорском дворе (СИ)"
Автор книги: Юрий Дрюков
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Началась война. Французские войска вторглись в страну, а русские, не вступая в бой, стали отступать к Смоленску. Теперь главными задачами подчинённых де-Санглена станет захват "языков", допрос пленных и перехватывание французской корреспонденции.
"Привели ко мне взятого в плен казаками французского штаб-офицера, к допросу, с планами, снятыми им во время марша. Он отвечал на мои вопросы довольно откровенно, и, наконец, спросил: "долго ли вы будете играть эту комедию?"
– Какую комедию? – спросил я.
– Будто вы не знаете? Так я вам скажу по секрету: вся эта война с Россиею притворная, скрывается от англичан. Мы вместе с Россиею идём в Индию, выгнать оттуда англичан.
Я рассказал это Барклаю, который отвечал: "ещё новая выдумка Наполеона".
Однако другие пленные тоже подтверждали это до самого Смоленска".
После Смоленского сражения командующим армией станет М.И. Кутузов.
После Бородино, когда русские войска отступят к Можайску, Барклай-де-Толли вызовет к себе де-Санглена и с горечью скажет, что все отвернулись от него, и никто не хочет отвезти его депеши к государю.
– Я вашему высокопревосходительству, по службе, ни чем не обязан; но, предполагая, сколь нужно вам, чтобы ваши депеши вручены были императору, готов исполнить ваше желание.
Де-Санглен отправится в Петербург даже не смотря на явное недовольство этим Кутузова...
Государь тогда проживал на Каменном острове.
Войдя в дежурную залу генерал-адъютантов, де-Санглен увидел, что находящиеся там с удивлением посмотрели на него, но не показали и виду прежнего знакомства.
Он попросил дежурного генерал-адъютанта доложить государю, что приехал из армии с депешами от Барклая.
– Ни за что в мире, любезный друг. Император, по донесению фельдмаршала, хочет отправить вас в Сибирь. Я прикажу сделать это камер-лакею, так как не хочу быть орудием вашего несчастия.
Вскоре к нему подошёл камердинер:
– Государь приказал вам сказать, что, по новому положению, никто из приезжающих из армии не является к государю, а должен явиться к графу Аракчееву.
Первое слово Аракчеева было: "Зачем вас ко мне прислали? Вы сами доверенная особа у государя?"
– Видно, это не так, ваше сиятельство! Меня послали к вам...
– Ну, так отдайте мне ваши депеши. Я представлю их к государю.
– Если бы ваше сиятельство отправляли меня, как ныне Барклай, с тем, чтобы я депеши вручил единственно государю, то я бы никому кроме его не вручил. Сверх того, имею от Барклая словесное поручение к государю.
Мы опять пришли в генерал-адъютантскую.
– Подождите здесь.
Вскоре Аракчеев возвратился и, отворяя дверь, сказал: "Пожалуйте к государю".
Де-Санглен вошёл.
Государь стоял посреди комнаты, прислоняясь к своему письменному столу:
– Вы полагаете, для вас Сибири нет?
– Для невинного Сибири нет, государь!
Император, наморщил брови...
– Реляция Кутузова о Бородинском сражении мне не очень понятна; не можете ли вы мне кое-что объяснить?
Де-Санглен начал рассказ и, по окончании оного, прибавил: – Барклай поручил мне донести вашему величеству, что если он не убит, то он не виноват: он везде был впереди.
– Напишите мне, что рассказывали о Бородинском сражении, но черновой у себя не оставляйте... Зачем вы не остались в армии, когда Кутузов два раза увещевал вас остаться?
– Один раз, государь! Мне жалок был Барклай в его несчастии и оставленный всеми, им облагодетельствованными.
Государь потрепал де-Санглена по плечу: "Ты всё старый... Отвезите его к князю Горчакову; скажите, что он останется при нем".
Как рассказывал потом князь Горчаков: "он испугался, думая, что де-Санглена привезли к нему, дабы отправить в Сибирь".
При князе Горчакове де-Санглен оставался до 1816 года.
В начале 1816 года его пригласит к себе, по высочайшему повелению, граф Аракчеев и у них состоится беседа о деле Сперанского.
–Я вытребовал из Вологды Магницкого в Грузино и спросил: "Правда ли будто де-Санглен был причиною вашей ссылки?"
– Нет, если-бы мы не пренебрегли его знакомством, то вероятно ссылки бы не было... мы им одолжены, – ответил он.
– В чем же это одолжение состояло?
– Благодарность заставляет о том умолчать, чтобы де-Санглена не подвергнуть ещё большим неприятностям.
Теперь я спрашиваю вас: "Государь желает знать, в чем это состояло?"
Де-Санглен ничего не скрывая рассказал Аракчееву о всех тех событиях и его участниках, а в заключение добавил, что окончательно убедился в том, что "двор – это омут, в котором разве только один чёрт спастись может", и попросил графа исходатайствовать ему отставку.
Государь на отставку не соглашался, тогда граф выхлопотал де-Санглену по указу от 23 марта 1816 года: причислить к герольдии, с производством по 4 т. р. ежегодно.
"Когда я откланивался государю, его величество сказал:
– Я тебя не отставлял, ты на службе, и с жалованьем; отдохни; понадобишься – опять призову.
Он милостиво отпустил меня, даже прибавил: "до свидания"".
После этого де-Санглен отправился в Москву, где спокойно зажил в маленьком имении, занимаясь литературным творчеством. Вскоре он опубликует роман "Жизнь и мнения нового Тристрама", – подражание роману Лоренса Стерна "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена" и "Подвиги русских под Нарвою в 1700 г."...
Но после восшествия на престол Николая I, начали распространяться в Москве на его счёт разные клеветы, и все из дому московского генерал-губернатора князя Голицына.
Де-Санглен явился к князю и попросил его рассмотреть дела, которые возложены были на него императором Александром, из коих усмотреть можно, что все разглашаемое на его счёт просто клевета.
– Меня это не касается, и мне нет времени, – услышал он в ответ.
– Вы московский военный генерал-губернатор; я московский дворянин и прибегаю к вам, как к начальнику с просьбой.
– Я говорю вам: мне некогда.
– Так я докажу, ваше сиятельство, что сам император меня выслушает.
Де-Санглен поклонился и вышел вон.
Он напишет письмо Николаю I, после чего будет доставлен в столицу, причём тайно и ночью.
Вскоре будет устроена встреча де-Санглена с Николаем I.
"Император меня внимательно выслушал и даже поручил разобраться с доносом князя А.Б. Голицына "О иллюминатстве в 1831 г.".
Пришедши в мою комнату, я тотчас принялся читать порученный мне фолиант, и на каждый пункт писал мои опровержения.
Постигая во всей полноте волю его императорского величества, возложившего на меня пояснения сих бумаг, скажу я, как пред Богом сердцеведцем, карающим рано или поздно всякую неправду, то, что знаю. Ложь всегда была мне чужда!
...донос был едва ли не на всех, окружавших покойного государя и оставшихся при Николае I. Все были объявлены иллюминатами: кн. Александр Ник. Голицын, Кочубей, Сперанский и прочие; сам император Александр, даже митрополит Филарет..., без малейших доказательств.
Я все опровергал, с надлежащими доводами, и объявил доносителя фанатиком.
Во всех бумагах сих, намёков, ударений на лиц – пропасть; доносов – гибель; лжи – неисчётно, – и едва ли можно доселе ещё принять что-либо в доказательство.
Какая логика в этой статье, можно ли упрекнуть иллюминатов в цели, которая ведёт к мечтательному водворению всеобщей морали? Как? Водворение всеобщей морали – мечта? Чего же требует Евангелие, как не водворения морали, объясним слово – нравственности? И каким образом мораль, нравственность, трудятся над низвержением царей и престолов...
Окончив огромный этот труд, я отправил его к императору, как приказано было, за тремя печатями.
Повергая все с верноподданническою преданностью, прошу ваше императорское величество, как милость, отпустить меня к моему семейству".
Государь был им доволен, сказав: "...у вас лица в стороне. Вы доказываете и опровергаете всё самими происшествиями и духом того времени..."
Он повелел, чтобы к отправлению Санглена к его семейству, "буде пожелает оставить Петербург", не было делаемо препятствия. Кроме того, император пожаловал Санглену бриллиантовый перстень в две тысячи рублей и велел выдать 3.000 руб. ассигнациями на путевые издержки.
И снова продолжилась спокойная жизнь в усадьбе и занятия литературой.
Выходят новые сочинения де-Санглена: роман "Рыцарская клятва при гробе" и "Шиллер, Вольтер и Руссо". В начале 1830-х годов он сотрудничает с журналом "Московский телеграф" и публикует свои статьи в "Трудах Московского общества истории и древностей", а с1845 года стал печататься в журнале М.П. Погодина "Москвитянин".
Погодин обратится к нему с просьбой о помощи в подготовке статьи о Сперанском.
18 ноября 1861 г. он получит от де-Санглена ответное письмо: "...Вот всё, что я мог вам сказать; на остальное наложил император Александр I вечное молчание, и я исполню его волю до конца жизни моей".
"86-ти летний старик, разбитый параличом, не смотря на свои лета и болезни, сохранил свежую память, тёплое сердце, и принимал живое участие в политике, как внешней, так и внутренней.
Я познакомился с ним перед тридцатыми годами, в доме попечителя Писарева; он полюбил меня и сохранил ко мне с тех пор неизменно-доброе расположение, принимая участие во всех моих изданиях, начиная с Урании 1826 года, – в Московском Вестнике и Москвитянине.
Яков Иванович де-Санглен казался мне, человеком честным и благородным, сколько я мог заметить в продолжении 40-летняго знакомства, не имея с ним впрочем никаких дел, кроме бесед и литературных сношений. Бескорыстие его доказывается тем, что он кончил жизнь почти в бедности, пользуясь только какою-то ничтожною пенсией. Жил он лет десять один-одинёшенек в двух-трёх низеньких комнатах, на даче, в Красном Селе (под Москвой), питаясь в день чашкою кофе и тарелкою супа с куском жаркого.... Заставал я его всегда за кучею газет... Просьбу мою он исполнил и присылал при письмах замечания на всякую тетрадь, прося усильно, чтоб я содержал все втайне и не оглашал его имени, которое говорил он, можно узнать по тем или другим признакам. Начальник некогда тайной полиции, он никак не мог освободиться от того страха, который прежде наводил на других, и боялся, чтоб не попасть в беду, хотя в замечаниях его, говоря вообще, не было вовсе ничего опасного. Я, разумеется, дал ему слово, и свято сохранял при его жизни". (М.П. Погодин)
Барон М.А. Корф, для которого де– Санглен так и останется важнейшем и таинственным лицом в деле Сперанского, тоже обратится к нему с просьбой поделиться с ним запасом своих воспоминаний.
"Мы занимаемся составлением подробной биографии Сперанского н е д л я с о в р е м е н н и к о в, а д л я о т д а л е н н о г о п о т о м с т в а."
"Отношения наши дают вам право на полную с моей стороны откровенность; но вот затруднения: эпоха эта, кажется, слишком ещё от нас близка, чтобы раскрыть вполне причины, её произведшие. Из всех действовавших лиц остался в живых – один я. Император, скрывая от всех сих лиц настоящую причину своего неудовольствия на Сперанского, дозволил им тайное за ним наблюдение, выслушивал их донесения и направлял все к своей цели, им неизвестной, а между тем полной своей доверенности удостоил м е н я о д н о г о, поставив меня между партиями, в том убеждении, что все, делаемое за кулисами, от него не скроется. Тайна, поверенная таким образом царём и соблюдённая им до гроба, может ли нарушена быть подданным? Прилично ли заклеймить имена людей усопших, игравших роль, которую помрачили вероломством? Назвать ли других, которые служили слепыми орудиями людям, стоявшим на первой степени? Все то, что я сказать могу, не нарушая правил моих и из уважения к особе, желающей узнать эту эпоху, состоять будет в следующем..."
Затем, сообщая, в нескольких общих чертах, более намёки на происшествия, нежели их сущность и связь, и более указаниe той важной роли, которую сам он тут играл, нежели её развитие, де-Санглен кончил своё письмо так: "Более объявлять не смею: ибо тайна, возложенная на меня – почему, для чего и как? – соблюдена быть должна свято. Развязать уста может единственно высшая власть".
Как писал де– Санглен в своём романе "Жизнь и мнения нового Тристрама":
"Весёлость духа – это экспромт сердца...
Она состоит в добром расположении к людям вообще, свежит ум, смеётся над непостоянствами фортуны, возвышает приятности жизни, словом, есть истинное сокровище, оживляющее сердце, как вечерняя роса после знойного дня возбуждает природу к новому бытию.
Этот род весёлости... украшает мою хижину, сопутствует в трудной жизни и дойдёт, надеюсь, со мною до пределов темных".
Ни Погодин, ни Корф не увидят его "Записок" которые он писал в тайне от всех.
"Решившись писать о многих происшествиях, в которых участвовал я сам, иногда как действующее лицо, иногда как зритель, другие передать хочу по дошедшим до меня верным слухам; я избрал истину единственною моею руководительницею; следовательно, за одно достоинство моих записок я ручаюсь смело – правдивость. Я не щадил никакого лица, ни самого себя. Угождать самолюбию своему и других может полезным быть для жизни, но на краю гроба, по моему мнению, было бы преступно выказывать себя или других лучше или хуже, чем они действительно были. Я пишу не для современников, пишу, как будто уже меня нет; следовательно, без зависти, без злобы. Хвалить, щадить некого; лживо порицать – порицать подло... Земных интересов для меня уже быть не может. И так пусть водит пером моим строгая истина: я мог ошибаться – я человек,– но отвечаю за то, что умысла, злого намерения не было.
Я. де-Санглен"
Эти записки будут напечатаны только после его смерти.
Он писал их очень осторожно. Так, рассказывая о деле Сперанского, он не дал никакой оценки произошедших событий.
Правда, говоря об Екатерине II, он, как-будто, отсылает нас к одному очень интересному документу.
"Самовольное, не на законах основанное управление народом бывает для государей гибельнее личных их несправедливостей или заблуждений.
Здесь у места упомянуть мнение её о процессе Волынского. Она приказала представить ей процесс Волынского, и, прочитав оный, написала своеручно (свой по сему процессу отзыв)".
И тут же де– Санглен переходит к описанию совсем других событий.
"Упрекают её в слабостях, имевших вредное влияние на нравственность..."
Но давайте прочитаем этот отзыв императрицы.
Собственноручное наставление Екатерины II сыну и потомкам её по поводу несправедливого решения дела о Волынском
(1765 г.)
Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело, от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел. Императрица Анна своему кабинетному министру Артемию Волынскому приказывала сочинить проект о поправлении внутренних государственных дел, который он и сочинил, и ей подал. Осталось ей полезное употребить, неполезное оставить из его представления. Но, напротив того, его злодеи, и кому его проект не понравился, из того сочинения вытянули за волосы, так сказать, и взвели на Волынского изменнический умысл и будто он себе присвоивать хотел власть государя, чего отнюдь на деле не доказано. Ещё из сего дела видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи; ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодною кровью; всякий пытанный в горячке и сам уже не знает, что говорит. И так отдаю на рассуждение всякому, имеющему чуть разум, можно ли верить пыточным речам и на то с доброю совестию полагаться. Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменил; но напротив того – добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего отечества, и так смертную казнь терпел, быв невинен, и хотя б он и заподлинно произносил те слова в нарекание особы императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то б она, быв государыня целомудрая, имела случай показать, сколь должно уничтожить подобные малости, которые у ней не отнимали ни на вершка величества и не убавили ни в чем её персональные качества.
Всякий государь имеет неисчисленные кроткие способы к удержанию в почтении своих подданных: если б Волынский при мне был, и я бы усмотрела его способность в делах государственных и некоторое непочтение ко мне, я бы старалась всякими, для него не огорчительными, способами, его привести на путь истинный. А если б я увидала, что он неспособен к делам, я б ему сказала или дала уразуметь, не огорчая же его: будь счастлив и доволен, а ты мне не надобен.
Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены. Изволь мириться по сей аршин! А если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтёт с уничтожением, так ему боле в свете, и особливо в Российском, счастья желать, нежели пророчествовать можно.
Екатерина.
(Сборник Русского Исторического общества. Т. X. 1872 г. С. 56-57.)
И видно, что Александр I вёл себя по отношению к Сперанскому, совсем не так, как ему заповедовала Императрица на примере Волынского – доброго и усердного патриота.
Но ведь у Александра было другие приоритеты: "Интриганы в государстве также полезны, как и честные люди; а иногда первые полезнее последних"...
А теперь несколько небольших отрывков из «Записок Якова Ивановича де-Санглена. 1776-1831 гг.»
***
Расскажу только об одной моей шалости, в которую вовлечён был более самолюбием, нежели из внутреннего желания показать пренебрежение к мёртвым и к святыне...
Однажды г. N. (Август Коцебу), в день своего рождения, собрал несколько из сих избранных, в числе которых находился и я, в намерении отпраздновать у него на вечеринке этот знаменитый день для романтиков и поэтов.
Ударило 11 часов. Г. N. потребовал молчания и, возвыся голос, предложил гостям своим следующее. "Приближается час явления духов, пойдём все провесть ночь в церкви св. Николая, где лежит лишённый почести погребения бальзамированный труп герцога де-Круа".
Общее рукоплескание было ответом на это предложение...
Мы вошли в первое отделение церкви, где на правой стороне, за стеклянными дверями, стоял на возвышении, окрашенный тогда зелёною краскою, гроб герцога де-Круа. "Сперва сюда, сказал г. N., мне нужно с ним переговорить". Вошли, вынули по его приказанию тело из гроба и поставили в угол. Г. N. стал перед ним, снял шляпу... упрекнул герцога в трусости, оказанной под Нарвой в 1700 г., и осудил его за такой малодушный поступок стоять всю ночь в углу, пока мы проведём её в его соседстве.
При входе находилось место, окружённое решёткою с дверью, где священник исповедовал приходящих.
– Вы в мундире, при шпаге, сказал мне г. N., вам должно занять это место, дабы здесь, у входа, в случае нападения, вы могли нас защитить от нечистой силы.
Г. N. назначил место каждому особенно и в отдалённости друг от друга.
Все уселись, а я пошёл в мой конфесьонал.
Кюстер ушёл с фонарём, и мы остались в темноте; ибо слабый свет луны, проникавший сквозь стекла окон, замалёванных гербами и другими разноцветными рисунками, не позволял нам ничего различать.
Вдруг пролетело что-то по церкви, ударилось об щиты, колонны, взвивалось вверх, опускалось вниз и опять поднималось. Чрез несколько времени слышен был шорох по каменному полу, как будто извивалось по нём несколько огромных змей. Наконец дверь, род калитки, скрипнула, и я услышал страшное стенание, как будто умирающего насильственною смертью. Ужас овладел мною, но дверь моя заперта, думал я, – ко мне никто войти не может, завернулся в плащ, и, благодаря молодости, заснул...
Просыпаюсь, уже солнце взошло, слышу говор, хохот, вылезаю из норы своей и вижу сквозь решётку церковнослужителей. Они мели церковь и между ними узнаю нашего кюстера. "Куда девались товарищи мои?" – "Они разбежались, – отвечал, улыбаясь, кюстер. – Как это вы уцелели?
Какое торжество! Честь мундира сохранена без пятна, и, кажется, я не струсил.
На другой день узнал я, что летавшие по церкви гости не были душами усопших, как я полагал, но ночные птицы, которые в железных латах завели гнезда свои. Они влетали сквозь большое отверстие, где стояла погребальная колесница. Не змеи, как мне казалось, ползали по полу, а товарищи мои, которые ползком на брюхе искали дверь, чтобы выйти из церкви. Стон происходил от господина фон П., который был не в меру толст. Он счастливо дополз до дверей и благополучно пролез до половины тела, но когда она тяжёлым блоком своим обхватила толстое брюхо, он далее пролезть не мог, испугался, думал, что не пускает его герцог де-Круа, стонал, просил у него пощады и помилования. Худощавый г. N., отыскавший ту же дверь, наткнулся на него, догадался, в чем состоит дело, переполз чрез несчастного, растворил дверь побольше и выручил г. фон П., который все ещё оглядывался не бежит ли за ним герцог де-Круа. Прочие товарищи, не найдя дверей, выползли сквозь большое отверстие, род свода, в которое влетали и улетали ночные птицы...
Адмирал, как будто мимоходом, спросил улыбаясь: "ну как отпраздновали вы рождение г. N?" Я обрадовался случаю как можно живее передать начальнику все слышанное, виденное и содеянное на сем пиршестве.
"Это все?" спросил адмирал с холодностью, которая меня поразила, – "и вам не стыдно, молодой человек, тщеславиться поступком, который всех вас срамит в глазах порядочных людей? Знаете ли вы, что такое церковь, когда обращаете её преступно в место вашего кощунства... Вы молоды, будьте осторожнее в выборе друзей и бесед ваших...
Этот урок так сильно подействовал на меня, что я отказался от театра, и мало-по-малу оставил большую часть членов этого общества. Хотя сим отречением я нажил кучу врагов и самого г. N., но я имел довольно силы этим пренебречь и обрёл ту выгоду, что этот случай направил мой ум и сердце к религии, и во всё течение жизни со стези религиозной я никогда не совращался...
Во второй день моего приезда в С.-Петербург встретился я с одним из наших офицеров. На вопрос его: «где ты остановился?» -"У Демута", – отвечал я. – «Что платишь за обед?» – «Рубль». «Коли хочешь дёшево и славно отобедать за императорским столом, то приди завтра ко двору в 12 часов и стань у фонарика. Не забудь только взять 25 копеек».
Мы вошли во дворец, поворотили направо и между колоннами пробрались до императорской кухни. Все поварёнки поклонились моему товарищу, и он подошёл к человеку пожилых лет, указал на меня, и нас впустили в боковую комнатку. Стол был накрыт. "Садитесь, сказал мой лейтенант, отведайте царского кушанья и царского вина". И в самом деле мы славно отобедали...
На 5-й день, накормив нас сытно, объявили нам печальную весть, что обеды наши прекращаются. Какой-то шпион, виноват, тогда ни людей этих, ни слова этого не существовало, а просто какой-то мерзавец донёс о наших обедах гофмаршалу, и этот императрице, которая приказала узнать, кто эти обедальщики? К счастию, никто фамилий наших не знал. Гофмаршал мог только донесть, что это флотские офицеры, а о деньгах умолчено было.
– Я так и думала, – сказала императрица, – у моряков науки много, а денег мало; пусть их кушают. Прикажите только, чтобы они на кухню не весь флот вдруг приглашали".
И мы по-старому ходили обедать.
***
Как снисходительна Екатерина II была, а по ней и вельможи, к неуважительным предметам, к малостям, может служить следующий анекдот. Однажды, после обеда, играла императрица в карты с графом Кириллом Григорьевичем Разумовским. Входит дежурный камер-паж и докладывает графу, что зовёт его стоящий в карауле гвардии капитан.
– Хорошо! – отвечал граф, и хотел продолжать игру. – Что такое? – спросила императрица. – Ничего, ваше величество! Зовёт меня караульный капитан. – Императрица положила карты на стол, – подите, – сказала она графу, – нет-ли чего? Караульный капитан напрасно не придёт. Граф вышел и немедленно возвратился.
– Что было? – спросила Екатерина. – Так, государыня, безделица; господин капитан обиделся немного. На стене, в караульной, нарисовали его портрет во весь рост, с длинною косою и со шпагою в руках, и подписали: тран-тараран, Булгаков храбрый капитан.
– Чем-же вы решили это важное дело?
– Я приказал, коли портрет похож, оставить, коли нет, стереть. – Государыня расхохоталась.
Как уважала она службу людей, в каком-бы чине они не были, и тем самым заставляла и своих вельмож поступать также, докажет следующее: граф Николай Иванович Салтыков, по рапортам начальствовавших лиц, представил императрице об исключении из службы одного армейского капитана.
– Это что? ведь он капитан, – сказала императрица, возвысив голос. – Он несколько лет служил, достиг этого чина, и вдруг одна ошибка может ли затмить несколько лет хорошей службы? Коли в самом деле он более к службе неспособен, так отставить его с честью, а чина не марать. Если мы не будем дорожить чинами, так они упадут, а уронив раз, никогда не поднимем.
Она говаривала, что была преемницею Великого Петра. Но Пётр действовал с строгостию; непреклонная его воля всё решала, он вводил своё нововведение принуждённо. Екатерина милостиво владела сердцами, возвеличила все начатое Петром, сделалась тоже преобразовательницею России, и повелевала как земной Бог. Чем? Уважая тех, которые ей повиновались; этим средством облагородила она повиновение, сделав его нравственным. Она прославила Россию победами, законами, и заставила иностранцев не только любить, но и уважать Россию...
Не страхом, не казнию, не пыткою, а милосердием владычествовала она.
Двор её, гвардия, армия, флот, гражданские чины, все дышало благородством, честно, непритворною любовью к отечеству – и все это внушала Екатерина. Страшились только одного – подвергнуться гневу её.
Утаить нельзя, подле благодеяний, излиянных Екатериною на Россию, есть и зло. Солнце не без пятен. Наказ её истинно либеральный, ибо за свободу мышления публично сожжён был в Париже. Однако бессмертный этот наказ в исполнение приведён не был. Зачем преждевременно знакомить народ с такими предметами, которые пустить в обращение опасно?..
Раскроем историю: чем выше, чем благороднее человек, тем более подвержен он слабостям, и часто ведшие его подвиги бывают следствием этих же слабостей. Екатерина не упускала из виду императрицы. Любимцев своих употребляла она исполнителями высоких своих предприятий. Если ошибалась в выборе, немедленно их сменяла, и долгое время придерживалась достойных.
Управляя обширнейшим государством в мире, находила время учиться, и сделавшись сама писательницею, возбудила в русских желание подражать ей. Явились: Херасков, Княжнин, Муравьев, фон-Визин, Державин, Капнист, Богданович, и проч. Ученье сделалось при ней необходимостью. Не будь Екатерины и ученика её Александра, был ли бы у нас Карамзин?
Россия живёт в возвышенности и достоинстве своих царей – Екатерина то доказала!
Возвышенный дух Екатерины переходил к вельможам, от них к последующим за ними начальникам, от этих к их подчинённым, и таким образом дух Великой Екатерины, более или менее, но распространялся по всей России. Утвердительно сказать можно, что Россия Екатериной мыслила, судила, жила.
Дошли до её сведения оскорбительные об ней заключения, и советовали наказать дерзновенных. "Я могла бы, требовать от русских современников молчания, и к тому их принудить; но что сказало бы потомство? а мысль, подавленная страхом в сердце, разве менее была бы для меня оскорбительна?"
"Самовольное, не на законах основанное управление народом бывает для государей гибельнее личных их несправедливостей или заблуждений".
Здесь у места упомянуть мнение её о процессе Волынского. Она приказала представить ей процесс Волынского, и, прочитав оный, написала своеручно (свой по сему процессу отзыв).
Упрекают её в слабостях, имевших вредное влияние на нравственность.
Но чтобы судить об Екатерине, должно её рассматривать, как владычицу полвселенной, а не как женщину в приватной её жизни. Сидя на престоле, взвешивала она судьбу как своих, так и других народов с удивительным искусством, твёрдо управляла кормилом государства, умела всегда во время поддерживать и расторгать связи с другими державами. Довольство, счастие подданных было единственною её целью, хотя иногда в способах к достижению сего могла ошибаться. Как женщина, в домашнем кругу своём, она была снисходительна, любезна, и телом и душей предана любви.
Владычествовать и любить – были две необходимости для её души.
Век Екатерины кончен. Она сошла в гроб, а с нею и волшебный мир, ею созданный. Блеску много, ибо век её ныне, в 1860 году, почитается баснословным...
***
Павел всегда останется психологической задачей. С сердцем добрым, чувствительным, душою возвышенною, умом просвещённым, пламенною любовию к справедливости, духом рыцаря времён протекших, он был предметом ужаса для подданных своих. Остаётся неразрешённым вопрос: хотел ли он быть действительно тираном, или не выказали ли его таким обстоятельства? Во все продолжение царствования своей матери был он унижен, даже во многом нуждался с семейством своим. Фавориты, вельможи, чтобы нравиться Екатерине, или из подлости, боясь гнева её, не оказывали ему должного уважения, а когда царедворцы узнали, что императрица намерена переменить и назначить преемником престола Александра, тогда сколько нанесено ему оскорблений! Блистательные учреждения Екатерины зрелому уму его не нравились, казались несообразными ни с духом народным, ни с степенью его просвещения.
– Наказ императрицы, – утверждал он, – прелестная побрякушка: этим пускает (она) пыль в глаза иностранцам, надувает своих вельмож и все одурели, но исполнения по нем никогда не будет.
Но проявлялись и среди сих мрачных минут, искры ума светлого, строгой справедливости, доброты душевной и даже величия. Эти драгоценные минуты я старался довесть до сведения потомства; по оным судить можно, чем был бы этот император, если бы тяжкие обстоятельства протекшей его жизни не раздражили его характера.
Отправленные из Петербурга в Сибирь, князь Сибирский и генерал Турчанинов, следуя по тракту, остановились в Нижнем-Новгороде на почтовом дворе. Нижегородский полицмейстер Келпен явился к г. гражданскому губернатору Е. Ф. Кудрявцеву и объявил ему об их прибытии, рассказав несчастное их положение, что скованные и обтёртые железом ноги их все в ранах и оба они в изнеможении. Сверх того, быв отправлены осенью, настигла их зима, у них нет ни шуб, ни шапок, ни сапог, даже нет и денег.
Е.Ф. Кудрявцев, честнейший и благороднейший человек, вручил полицмейстеру 1,000 руб. асс., приказав ему ехать к князю Грузинскому, князю Трубецкому, Захарьину и Левнивцеву и сказать им, что он дал 1,000 руб., чтобы и они с своей стороны тоже оказали им вспомоществование, которые все по богатству своему превзошли ожидания губернатора. Он приказал снять с князя Сибирского и Турчанинова оковы, накупить им все нужное, а остальные деньги им вручить. По выходе полицмейстера, призвал он своего правителя канцелярии Солманова и продиктовал донесение его величеству, которое было, сколько упомню, следующего содержания: "полагая, что угодно вашему величеству, дабы преступники, князь Сибирский и Турчанинов, доехали живые до места своего назначения и тут раскаялись бы в своих преступлениях, я, при проезде их чрез Нижний-Новгород убедясь, что они больны, ноги их в ранах и, не взирая на появившуюся зиму, не имеют ни шуб, ни шапок, ни денег, приказал снять с них оковы, снабдить всем нужным, и тем думаю исполнить волю императора моего, о чем донести вашему величеству счастие имею".