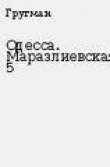Текст книги "Солдатские ботинки. Японская зажигалка из Египта"
Автор книги: Юрий Рожицын
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Юрий Рожицын
Солдатские ботинки
Японская зажигалка из Египта
Юрий Рожицын
Солдатские ботинки
В неурочный час открылась нынче «кормушка», небольшое квадратное окошечко, прорезанное в обитой железом двери. По утрам в него просовывают пайки хлеба, в полдень в глиняные, необлитые миски плескают черпачок жидкой баланды, а вечером, перед сном, балуют крутым кипятком. Тут же в дыру заглянуло мясистое лицо и быстро исчезло, следом и дверцу со стуком захлопнули. Ржаво и пронзительно заскрипел ключ во внутреннем замке. Те, кто подремывал на нарах после обеда, проснулись, из-под нар тоже показались головы любопытных. Одна и та же мысль – горькая и тоскливая, – мелькнула и утвердилась в нашем сознании – этап. Его ждали со дня на день, в душе радуясь каждому часу отсрочки, вслух же матерились и негодовали. Нас можно понять. Как ни плоха тюрьма, как ни набита людьми камера, а тут тепло, да мы уже привыкли, обжились. На улице снег, палящий мороз, да такой, что лопаются стволы деревьев, и у нас по ночам выдувает живое тепло. Никто не приготовил для нас в лагере варшавских кроватей с пуховыми перинами, а работать на пронизывающем до мозга костей свирепом хиусе в легоньких бушлатах – не большое удовольствие.
Дверь бесшумно распахнулась, и в ее проеме возник незнакомый казенный человек в новеньком форменном мундире со всякими значочками на широкой груди. Из-за его спины робко выглядывает коридорный, забитый подслеповатый старик. Он с двумя напарниками посуточно «пасет» свое заблудшее стадо, не выказывая к нам никакого интереса. Наши сердца раздирают дикие страсти, а он равнодушно пожевывает впалым беззубым ртом и думает о чем-то своем, никак не связанным с нашими переживаниями. И мы на него – ноль внимания. Наши взоры прикованы к его молодому, ражему спутнику, а вернее, начальнику. Мы поняли – он из кадровых, довоенных надзирателей. Их мало осталось, но таких сволочей и зверюг еще поискать. Ледяной пустой взгляд скользнул по заключенным, сбившимся в ком на нарах и выглядывающим из-под них. Мест не хватает. Камера считается пересыльной, этапов давно не было, а суды работают без выходных, вот и набили осужденных как сельдей в бочку. Кто похамовитее да поблатнее на досках обжились, остальные – на полу и возле вонючей параши.
– Следующим, названным мною, приготовиться на выход с вещами.
В могучем теле скрывался неприятный гнусавый голос. Фамилии он выкрикивает по списку, но скороговоркой, и не поймешь, кого он назвал. Он словно подчеркивает, что только необходимость заставляет его общаться с такими подонками, как мы. Мы для него не люди, преступники, с которыми непонятно почему возжается рабоче-крестьянское государство. И странно, об этом я часто думаю, раньше мне казалось, что тюрьма ставит на человека несмываемое клеймо, что общение с ним опасно и омерзительно. Но меня, желторотого птенца, и простить можно. Но надзиратели-то всю жизнь едят тюремный хлеб, бывают с зеками больше времени, чем со своими семьями, они-то не хотят признать, что настоящих-то преступников в камерах раз-два и обчелся. Большинство – жертвы немилосердных сталинских законов.
Тюремные служители презирают и ненавидят заключенных и, что для меня удивительно, стремятся поразить нас своим внешним видом. Каждый месяц в камеру на минуту заскакивает прокурор по надзору. По-моему, к своему посещению он готовится остальные двадцать девять дней. Он чисто выбрит, подстрижен, благоухает дорогим одеколоном (когда простым смертным так называемый тройной выдают на разлив по карточкам из керосиновых бочек и употребляют его, в основном, вовнутрь от простуды), в парадном мундире со всяческими регалиями, позолоченным кортиком, в зеркально сияющих ботинках. Толку от него как от козла молока, но появляется он в сопровождении свиты тюремных прихлебателей. По камерам проносится метеором, и я ни разу не успел толком разглядеть его лицо. Подобной же страстью блистать своим оперением страдают артисты, архиереи, врачи. Каждому хочется чем-то выделиться из серой массы, а тут такие благодарные зрители собраны…
– Бесфамильный! – услышал я металл в гнусавом голосе и неспешно откликнулся:
– Тутака!
В надзирательском взгляде, обращенном на меня, впервые промелькнуло обычное человеческое любопытство. Но оно тут же погасло, и тем же голосом, каким выкликались фамилии, была произнесена необычная для камеры сентенция:
– От каторжного семени не жди хорошего племени.
Я стоически вздохнул: за последние три месяца привык к повышенному вниманию, претерпелся к разного рода шуточкам. Однажды на допросе следователь замахнулся на меня, но я его так шуганул, что потом он разговаривал со мной на расстоянии и в присутствии конвоира. Шутить-то шути, да рукам воли не давай! А этот, видать, грамотный, коль знает, откуда моя фамилия идет.
Назвал он человек двадцать и сложил список. Из камеры выходил не так, как наши старички-коридорные: глазами следил за нами, а сам пятился. Дверь с силой захлопнулась, как серпом по сердцу хватил ржавый скрип ключа в изношенном замке. Я вытянулся на нарах, спихнув ногами какого-то доходягу, и уставился в прокопченный до черноты махорочным дымом высокий потолок. Опять в моей жизни перемена. Не к добру они у меня пошли. «Дорога дальняя, казенный дом…»
– И ты уходишь, Колька, – устало проговорил мой сосед и компаньон Виктор Трофимович, примащиваясь рядом. Кожа его лица напоминает старый пергамент, который я видел в краеведческом музее в разделе древнеегипетской культуры: она такая же морщинистая, желтая и безжизненная. Только глубоко запавшие глаза своим лихорадочным блеском выдают ту напряженность, с которой он живет. Судьбе его не позавидуешь. Больше года в тюрьме, дважды побывал в камере смертников. Обвиняют его в нешуточном преступлении – хищении десяти тонн муки. Для меня фантастическая цифра. Говорят, с припеком получится около двадцати тонн чистого пшеничного хлеба. Невольно вспоминается черный, мокрый, слипшийся кусок с нераздавленными в нем морожеными картофелинами. Мама приносила этот хлеб из магазина, получив по иждивенческим карточкам и выстояв за ним полночи. Мне он казался намазанным медом, и всегда его не хватало. А десять тонн муки! Огромное богатство, им можно весь город зараз накормить вдосталь.
Не пойму себя. На воле я бы его люто, до смерти, ненавидел, считал бы врагом рода человеческого, а здесь не могу. Видно, подневольное положение нас уравняло. Вид у него не ахти какой, хотя и старается держаться молодцом. Ссохшийся, ссутулившийся, только в глазах жизнь. До поздней ночи мы с ним полушепотом, чтобы не нарваться на грубый окрик после отбоя, разговариваем о жизни. Делимся скудными передачами, что приносят из дома. Мужик он умный, многое повидал, образно рассказывает. О своем деле молчит. Я его понимаю. Все эти уголовные истории, которые собрали нас под одной крышей, от бесконечных повторений у следователя навязли у каждого в зубах, и потому лишний раз вспоминать о них тошно. К тому же я в курсе его дела. В подследственной камере сидел с его соучастником и знал, что Виктора Трофимовича дважды приговаривали к расстрелу и дважды возвращали дело на доследование. Страшно подумать, что он дважды умирал. Не мог осуждать его еще и потому, что сам нес крест неведомо за какие грехи.
И надо же такому случиться! В армию меня взяли полгода назад, и военкомат направил в школу младших авиационных специалистов. Набралось там гавриков двести. Изучали радиоаппаратуру, ключом морзянку выстукивали, разбирали скорострельные авиационные пулеметы и учились стрелять, знакомились с моторами самолетов и изредка топали на плацу. По тыловым нормам кормили неважнецки, да и зверски уставали, потому и спали мертвецки. Духом не падали. Согревала и бодрила мысль, что скоро на фронт. Мы хотели не только громить немецких оккупантов, но и добить фашистского зверя в его берлоге – Берлине. Честно признаться, влекла нас и военная романтика. Ведь нам было по семнадцать лет!
В последнюю перед арестом неделю отрабатывали упражнения на «кукурузнике», как по примеру старших мы называли самолет ПО-2. К нему у нас двойственное отношение. Уважительное, как к ночному бомбардировщику, нагонявшему страх на гитлеровцев, и мальчишески-ироническое, так как при дневном свете вид у него был сугубо гражданский. Как бы то ни было, а он летал, и это его свойство было для нас наиважнейшим. На учениях один «кукурузник» обычно тащил за собой колбасу – большой, распяленный на обручах полотняный мешок, который в воздухе надувался, а с другого самолета курсанты по очереди палили по мишени из пулемета. И я изредка попадал в нее.
В тот день, перевернувший вверх дном мою жизнь, мы занимались учебным бомбометанием. На аэродроме подвесил я под пузо самолета три отлитые из цемента бомбочки, внутри каждой помещался семидесятишестимиллиметровый снаряд, уселся позади пилота-инструктора, и мы неспешно взлетели. Над полигоном я нормально отбомбился, а чуток отлетели, пилот спрашивает:
– Вроде бы две взорвались?
– Может, у третьей взрыватель не сработал? – предположил я.
– И такое бывает, не впервой, – легко согласился он со мной.
Пролетели мы над городом, сделали традиционный круг над аэродромом и сели. Спрыгнул я на землю, глянул под самолет: порядок, бомбочки на полигоне остались. Технари мотор зачехляют, а мы в расположение части направились. Прошли полдороги, нас кто-то на «виллисе» догоняет. Лейтенант, что в машине сидел, и слова не сказал, а мы поняли – беда. Он кивнул, и мы на заднее сиденье прыгнули. К особому отделу нас привезли.
– Фашисты, диверсанты! – встретил нас криком майор в голубых погонах. – Своих бомбите! Сколько за диверсию получили?
У меня и колени ослабли, задрожали. По стойке смирно вытянулся, глазами хлопаю, а в голове сумбур. Инстинктивно обернулся к инструктору, а у того лицо белее мела, губы синие, прыгают. Рассвирепел фронтовик, глаза аж оледенели.
– Да как ты смеешь, тыловая крыса, меня, боевого летчика, в диверсии обвинять?! – повторял он придушенным шепотом, а сам рукой свое бедро цапает, должно быть забыл, что он не на фронте и пистолета на боку нет.
Майор притих, видать, понял, что малость перегнул палку, но часового от двери не убрал. Вскоре из города прикатили те, кого ждал особист, для него картина прояснилась, а для меня окончательно запуталась. Немного прожил я на белом свете, а знаю, не всегда у человека получается, как он задумал. Судьба порой такие фокусы выкидывает, что диву даешься. Подшутила она и над нами. Третья бомбочка, взрыва которой мы не засекли на полигоне, спокойненько висела под самолетом, а над городом оторвалась и взорвалась рядом с тюрьмой. Взрывной волной сбросило со сторожевой вышки часового, выбило стекла в оконцах за козырьками. При падении солдат сломал себе шею. Уверен, заставь меня специально бомбить тюрьму, я при всем своем желании не сумел бы столь точно в нее угодить.
Меня с пилотом арестовали и посадили на гауптвахту. И допрашивали нас по отдельности, и на очных ставках сводили – покоя не давали ни днем ни ночью. Как на меня ни жали, я стоял на своем: ничего не знаю, злого умысла не имел, ни с какими шпионами не связан, против советской власти не настроен. Летчика вскоре отпустили. Фронтовик, орденоносец, проверенный в боях офицер. Да и бомбочки подвешивал я, я их и сбрасывал. Перед выходом на волю инструктор договорился с начальником караула, и тот пропустил его ко мне в камеру.
– Не тушуйся, парень, все образуется, – ободрял он меня. – И тебя скоро выпустят. Ты ж ни в чем не виноват…
Я и сам знал, что не виноват, но попробуй докажи, что ты не верблюд! С губы меня перевели в тюрьму, дознание повела военная прокуратура. Первый раз в своей небогатой событиями жизни я наткнулся на глухую стену, которую не прошибешь и тараном. С монотонностью приходского дьячка, был такой на Николаевском кладбище, поминавшего за упокой живых и мертвых, я изо дня в день флегматично рассказывал о случившемся, и в сотый раз следователь, аккуратно заплевав окурок, брал изгрызенную ученическую ручку и деловито предлагал:
– Набрехался? Теперь говори правду. Не укрывай тех, кто подбил тебя на диверсию. Назови их имена, где они тебя завербовали. Мы все знаем, но если ты не признаешься, тебе же хуже будет. Да и трибунал при вынесении приговора учтет твои чистосердечные признания.
Я задыхался от собственной беспомощности, люто возненавидел своего мучителя. Рыжий, моложавый, с розоватой, поросячьей кожицей на сытеньком лице, он любил пить круто заваренный чай с сахарином и часами блаженствовал, не обращая на меня внимания. В конце концов и он возненавидел меня. В какой-то момент потерял над собой контроль, выскочил из-за стола и замахнулся кулаком. Я уклонился от удара и с наслаждением пнул его массивным солдатским ботинком пониже живота. С той поры у двери при моих допросах торчал часовой с карабином, а я пять суток провел в тюремном карцере. Там ни встать, ни лечь, в полной темноте по мне сигали бесстрашные крысы. Зато следователь стал вежливее, держался на расстоянии и меньше говорил о диверсии. А вскоре мое невольное бомбометание окрестили преступной небрежностью.
Судил меня трибунал открытым процессом в ленинской комнате школы младших авиационных специалистов. Курсанты мне сочувствовали, из-за спин часовых подбадривали улыбками, взглядами, в перерыве передавали махорку, пайки хлеба, кусочки сахара. Как я им завидовал! Ладные, подтянутые, загорелые, они, счастливцы, вот-вот сержантами поедут в действующую армию, а мне «цыганка гадала, цыганка гадала, за ручку брала…» Скрывая навертывающиеся слезы, я наклонялся, пряча лицо, и горячие капельки, одна за другой, через диагональ галифе обжигали колени.
Приговор был суров: восемь лет заключения с пребыванием в исправительно-трудовых лагерях. Не помогли мои мольбы, обращенные к судьям, отправить штрафником на фронт, дать возможность искупить несуществующую вину своей кровью. Отказали! Слушать не захотели! В тюрьме перевели из подследственной камеры к осужденным, ожидающим этапа в лагерь, вечером принесли два чистых тетрадных листка, ручку и чернила. Апелляцию я писал командующему Сибирским военным округом, где просил заменить лагерь действующей армией.
– Не унывай, – уговаривает меня Виктор Трофимович, – все пройдет и быльем порастет. Я бы с превеликой радостью на этап пошел, готов день и ночь вкалывать. Там жизнь, – и такая тоска послышалась в его голосе, безнадежность, даже показалась – еще мгновенье и он сорвется на волчий вой. Но он справился с собой, сглотнул горький комок и глуховато, сорванно посоветовал: – Там, в лагере, не давай себя в обиду. Если эта подлая уголовная сволочь чуть почувствует слабину, до смерти заклюет. Тебе надо выдюжить, до справедливости живым дотянуть. Бей первым, наотмашь! Ботинки у тебя крепкие, береги. В ЧТЗ на морозе подохнешь…
На ногах тех, кого привозили из лагерей в тюрьму на переследствие, я видел эти ЧТЗ, бахилы из старых автомобильных покрышек, кое-как скрепленные медной проволокой. Носили их те, кому никто и нечем уже не мог помочь. Доходяги и фитили меня мало интересовали, за себя же я буду бороться до конца. Мне тогда казалось – бушлат, гимнастерка, галифе и американские ботинки на толстой подошве последняя нить, которая связывает меня с армией, и если она оборвется, то я – пропащий человек.
Опять – серпом по сердцу! – заскрипел замок, распахнулась дверь, а появившийся в ее проеме коридорный надзиратель стал выкликать тех, кто отправлялся в этап. Старика война заставила заняться ненавистным делом, и не в пример прочим был он добродушен, сквозь пальцы смотрел на мелкие нарушения тюремного режима. Как-то признался, что я схож с его младшим сыном, который второй год воюет, уже ранен и контужен, не чает и живым с фронта вернуться. Мою историю он знал, сочувствовал мне. Однажды словно ненароком обмолвился:
– Угодил бы ты, парень, сюда двенадцатидюймовым, сколь грехов со своей бы души списал. Оставить бы здесь на тот срок жиганов поговнистее, да из нашего брата покобелистее…
Назвал мою фамилию, глянул грустно, похоже, взгляд даже на секунду у него затуманился. Но мне, видать, показалось. Очнувшись от минутного оцепенения, я натянул солдатский бушлат, поглубже надвинул на голову выгоревшую пилотку и взял протянутый Виктором Трофимовичем тощий узелок.
– В платке две пайки хлеба, три картофелины да полселедки, – сухонький, с землисто-пробеленным лицом стоял он передо мной и, не мигая, смотрел в глаза. – Здоровье, Колька, береги, потеряешь – не вернешь. Прощай, друг! Больше уж мы не свидимся…
Безысходная безнадежность его голоса еще долго преследовала меня, и потом мимо сознания проскользнули формальности при передаче нас тюремным начальством лагерному конвою. Когда вывели из ворот, я словно проснулся и долго рассматривал мрачную каменную глыбу, подслеповато, из-под деревянных козырьков, таращащуюся на заходящее зимнее солнце. Одним махом вычеркнуты из жизни три месяца. Что я приобрел на тюремных нарах? Никому из нормальных людей ненужный опыт прятать иголки и лезвия бритв, в поисках которых надзиратели сатанели при внезапных шмонах, гадать на бобах, петь блатные песни, бить тех, кто посягал на жалкие мои камерные права. Потерял же честь, замарал доброе имя отца, сломал свою жизнь. «Береги честь смолоду!» – и волком готов броситься на автоматы конвоиров, в клочья разорвать двух злющих овчарок… Не бросился, не разорвал, а хмурый, разом обессилевший от горьких дум, шагаю в расползающейся на скользкой дороге небольшой, десятка два человек, колонне правофланговым. Сзади вполголоса заговорили, грубый начальнический лай оборвал зековскую самодеятельность:
– Прекрати-и-ить!..
Собаки ощетинились и рвутся с коротких поводков. Осенью на допрос в прокуратуру вели меня два солдата из комендатуры – один впереди, другой сзади с винтовками наперевес. Глянул я с проезжей части дороги на деревянный тротуар и увидел остолбенело застывшего одноклассника. В школе его Очкариком прозвали, в армию из десятого класса по близорукости не взяли, когда парней под гребенку гребли. Он, видать, растерялся и преглупо мне крикнул: «Куда это ты, Николай?» Готовый от стыда провалиться сквозь землю, я с наигранной бравадой ответил: «На охоту иду, а солдаты мои ружья несут». Сейчас бы к ружьям добавил и волкодавов.
С детства знакомы эти кривые, деревянные улицы. Пацаном гонялся по ним с приятелями на самодельных коньках-колодках за редкими автомашинами, потом ходил в школу, библиотеку, слонялся с друзьями летними прозрачными вечерами, бегал по лавкам. Иду, опустив голову, не дай бог из знакомых кто увидит: родители стыда не оберутся!
Шагаю в первой пятерке и тупо разглядываю шершавые носки давно не чищенных солдатских ботинок. Дорога обледенела. Поземка гонит по ее отполированной поверхности снежную крупку, и я чувствую, как деревенеют от мороза ноги, а незащищенные уши и лицо покрываются куржаком. Застывшие до онемения руки я машинально засовываю в карманы бушлата.
– Руки назад!.. Кому говорю, падла! – слышу рядом с собой сиплый, промороженный голос начальника конвоя и чуть не лечу на мостовую от сильного удара прикладом.
Да-а, началась веселенькая охотничья жизнь! Замком сцепляю за спиной пальцы и вскоре перестаю их чувствовать. Счастье еще, что торопились к поезду и быстро добрались до вокзала. Едва остановились, хватаю негнущимися руками черный от мазута и паровозной сажи снег и изо всей силы оттираю омертвевшие пальцы, бережно согреваю дыханием. Постепенно их кончики сводит мучительная боль, но я рад, что они отходят. Вернулся начальник конвоя, и нас погнали к хвостовому вагону пригородного пассажирского поезда.
– Быстрей, быстрей! – подгоняют конвоиры.
– На правобережье повезут, – шепнул сосед. – От дома недалеко, с голоду не подохнем.
На него рыкнули, и он испуганно смолк.
В вагоне сравнительно тепло, да и ледяной ветер сюда не достает. Нас рассадили по тесным купе, а конвоиры устроились в проходе, сторожко следят за каждым нашим движением. Прошел старшой, опять нас пересчитал и прислонился спиной к стенке. В тюрьме пересчитывают обычно дважды – утром и вечером, а нынешним днем чуть ли не десятый раз. Проверки потеряли новизну, не угнетают людей. По-моему, бальзаковский Гобсек реже пересчитывал свои сокровища, чем охрана нас. Оно и понятно. Кому из конвоиров хочется попасть в штрафной батальон из-за вонючего зека? А на фронте ведь стреляют, вину кровью смывают.
Поезд тронулся, и я хотел смахнуть со стекла мокрую от дыхания накипь, мешающую смотреть в окно.
– Убери грязную лапу!
Нет, наши тюремные надзиратели сущие ангелы по сравнению с этими исчадиями ада. С теми хоть по-человечески можно иногда о чем-то договориться, а тут… Сдерживаю кашель, начальник конвоя и так недобро на меня косится. Даже сосед старается ко мне не прикасаться. Он похож на рака-отшельника, по случайности заползшего в компанию медуз. Низенький, плотненький с вечным склеротическим румянцем на пухлых щечках, сидит он, пригорюнившись, над железным своим сундучком и печально шевелит сивыми моржовыми усами.
«Рак-отшельник» – машинист с железной дороги. Месяца два назад от тяжеловесного состава, который он вел на подъем, оторвались несколько вагонов и под уклон, на станцию. Много бы они бед натворили, да издали их увидел смекалистый стрелочник и успел отвести с главного пути. Вагоны влетели в тупик и вдребезги, а машинист стал моим соседом на десять лет. Он трусоват, без боя отдавал приносимые из дома передачи шпане. Как-то я не выдержал, шуганул урок, и с той поры он держится ко мне поближе.
Напротив Ленька – начинающий карманник, зыркает в мою сторону, что-то сказать хочет. При разговоре он так в рот и заглядывает, неловко порой, когда по моему одному слову он срывается с места. Остальных не празднует, в упор не видит. Парню шестнадцать, работал на заводе учеником слесаря. И кража-то у него ерундовая. Хлеб по карточкам не на что было выкупить, залез в карман к какому-то жлобу и попался. Парень не испорчен, и характером тверд, но сумеет ли он уркаганам противостоять?
Под вагоном глухо застучали колеса: железнодорожный мост. Сквозь мутную пленку, расплывшуюся по стеклу, мелькают тени стальных переплетов его ажурных пролетов, железные лесенки на них, металлические гнезда, похожие на наблюдательные бочки на мачтах парусных пиратских кораблей. Частенько проезжал я этим мостом, купался на соседствующем с ним песчаном пляже, среди высоких ледяных торосов сражался с нашими неприятелями из соседней слободки. Теперь те пацаны с фашистами воюют, а я под конвоем еду в места не столь отдаленные от моего дома…
К воротам зоны нас подогнали в полной темноте. Если у горожан в квартирах светили мигалки и лучины, то здесь электроэнергию не экономили. Прожектора и огромные лампочки, подвешенные к рефлекторам на столбах, словно бесились от избытка тока. Начальник конвоя ушел на вахту, прилипшую к рядам колючей проволоки, а мы грелись кто как мог. Мороз крепчал с каждой минутой, и даже собаки, присмирев от лютой стужи, не обращали на нас внимания и рвались с поводков к жилью. Воздух сгустился как сметана, от него перехватывало дыхание, а морозный туман густо облепил лампочки на столбах, и они тратили свой накал на полуметровый сияющий ореол. Конвоиры забеспокоились, они в двух шагах не могли разглядеть заключенных. Один из них исчез. Не успел он вернуться, как часовые с вышек направили на нашу колонну ослепляющие лучи прожекторов. Лучи словно материализовались и упруго, с силой, давили на нас, заставляя шаг за шагом отступать назад.
– A-а, ну-у-у, осади, осади-и! – угрожающе заорали конвоиры. – Сто-ой, стрелять буду-у!
Когда распахнулись ворота, мы совсем окоченели и со стороны, должно быть, представляли жалкое зрелище. Холод, казалось, добрался до мозга костей и навеки заморозил их. Трудно стронуться с места, а двинулся, длинные, в метр, иголки пронзили живые ткани. Стараясь удержаться на бесчувственных ногах, не упасть и не вскрикнуть от страшной боли, делаю шаг… второй… третий…
– Первая пятерка… арш. Вторая… Третья… Четвертая…
Неподалеку от ворот в этот поздний час на пронизывающем ледяном хиусе толпились зеки. Одни с лицами, закутанными рваньем, с надвинутыми на лоб прохудившимися шапчонками, в белых, до колен, бушлатах и подвязанных веревками четезе держались друг от друга на особицу, робко сторонились небольшой кучки тепло одетых мордатых парней. Те развязно подошли к нам, и, похохатывая, стали толкаться, пока не сбили с ног плюгавенького старикашку, «лампадника». В камере он наставлял нас, своих невольных слушателей, что нужно отказаться от оружия, на зло отвечать добром…
– Граф, – с разочарованной миной на желтом измытаренном лице повернулся к рослому, широкоплечему парню тощенький мужичонка, – фрайеров пригнали, у них…
– Пошли, – оборвал тот, – в карантине шмон устроим.
После долгих мытарств нас привели в комнату с двухъярусными деревянными нарами. Стояла в ней удушливая, спертая жара. Я настолько промерз, что забрался на самый верх, где и дышать-то было нечем. Меня трясло в ознобе, зуб на зуб не попадал. Сняв бушлат, кинул его в изголовье, хотел разуться, да Ленька, устроившийся рядом, потянул за рукав и шепотом предупредил:
– Не разувайся. Крючка на дверях нет, утянут ботинки ночью и не услышишь.
Я посмотрел на него уважительно: дело пацан говорит. Ленька, оказывается, смекалистый, житейски предусмотрительный малый. Горький опыт научил меня не пренебрегать добрым советом. В животе подсасывало, уж не помню, когда я и наедался досыта. А тут впервые за последние недели побывал на свежем воздухе и аппетит разыгрался зверский. А от тюремной похлебки, где крупинка крупинку погоняет с дубинкой, только по малой нужде к параше бегать.
Размышлять над очевидными истинами я подолгу не привык и потому достал из узелка пайку хлеба, круто посолил и откусил крохотный кусочек от горбушки. В те годы хлеб был необычно вкусен. Не нужны разносолы, вволю бы черствого черного хлеба с солью. Со смаком пожевал, а разлепил зажмуренные от удовольствия веки – встретил голодный Ленькин взгляд. Тот невольно сглотнул слюну и деликатно отвернулся. Отломил и ему кусочек. С детства отец приучил последним делиться с товарищем.
Наслаждаться едой не пришлось. Широко, по-хозяйски дверь распахнул и вошел в комнату тот самый паскудненький мужичонка, что встречал нас у лагерных ворот.
– Здорово, урки! – этаким фертом он прошелся у печи. – Земляков че-то не вижу?
Никто не откликнулся: каждый отмякал в тепле и был занят своими горькими мыслями. Похоже, жигана ничем не смутишь. Замухрыжистым петушком протанцевал он вдоль нар и остановился у моих ног. С видом барышника, приценивающегося к лошади, он осмотрел ботинки, поколупал ногтем кожаную подошву, приподнялся на цыпочки и понюхал ее.
– Меняем! – выставил ногу в разбитом штиблете, с отставшей подошвой, подвязанной медной проволокой, и поднял голову.
– Катись-ка ты на легком катере к едреной матери, – внутренне сжавшись как пружина, с внешней беззаботностью отослал его к речникам.
– С тобой, падла, как с человеком, а ты? – неожиданно обиделся он и тут же, как ни в чем не бывало, продолжал: – Меняем, чего сучишься…
Он взялся за шнурок ботинка и ловко, одним движением, развязал его. Тут я не выдержал и в четверть силы пнул мужичонку. Он проворно отскочил, потер ушибленное плечо и с угрозой проговорил:
– Ну, подожди, гад… Ты меня попомнишь. Жалеть будешь, што мать родная тебя родила, паскуду, – и опрометью выскочил из комнаты.
Те, что на нарах устроились рядом со мной, расползлись по сторонам, как тифозные вши с покойника. Торопливо рассовывали по карманам и узелкам кусочки хлеба, и тут же свертывались калачиками на голых нарах, пряча головы в промасленное, заношенное тряпье. Они не хотели ничего видеть и слышать. По-моему, после тюрьмы их страшили собственные тени, а в лагере они утратили последние остатки разума. Они словно заранее готовились задницы лизать уркаганам.
Ленька, подтянув коленки к подбородку и обхватив их руками, лихорадочно, как перед дракой, блестел глазами и возбужденно говорил:
– Эх, сюда бы моих дружков… Врезали бы мы этому кодлу. А эти, – презрительно кивнул он на притихших соседей, – разве люди? Подонки! В ложке баланды друг друга утопят…
Ждать пришлось недолго. Вьюном проскочил в дверь мой крестник – плюгавенький мужичонка. Как он вертелся, юлил вокруг вошедшего следом рослого парня – Графа. Вот бы кого я назвал красавцем. Высокий, широкоплечий, кровь с молоком, лицо правильно очерченное, глаза – голубые, потемневшие от напущенного на себя психа. За ним в комнату шагнули еще четверо. Явилась, как я понял, карательная экспедиция, решившая в корне пресечь малейшую попытку к неповиновению. Плюгавым они и сами брезговали, но из высших соображений не могли пройти мимо моего своеволия.
– Который? – с ленивой усмешкой спросил Граф.
– Вот этот! – подбежал к нарам мужичонка. – Понимаешь, Граф, – тарахтел он, заглядывая главарю в глаза, – я этому фрайеру как человеку предложил ботинками поменяться, а он, падла, трах… век мне свободы не видать! И в ухо. Я, говорит, под нары вас, жучков, загоню…
Меня и забавляла, и пугала эта неправдоподобная сцена. Дожелта отмытые полы, ослепительный свет пятисотсвечовой лампы, кучи тряпья на нарах и пять темных, страшных в объединяющем их чувстве, фигур. В неподвижном молчании они застыли, ожидая команду. Я насторожился, подобрался, словно приготовился к прыжку без парашюта.
– А ну, слазь, – медленно, с издевательской расстановкой протянул Граф.
– Иди-ка ты… – не выдержал и обложил его с верхней полки.
Другого ответа Граф, видимо, и не ждал. Он подал незаметный знак, и его дружки, словно сорвавшиеся с поводка волкодавы, кинулись на меня. Одного я пинком сбросил с нар, второму так двинул в ухо, что он волчком завертелся на полу, бессмысленно тараща глаза. Третий отлетел к печи и, держась за скулу, с надрывом вопил:
– Кто меня? Какая сука зубы выбила?
Видать, в поднявшейся суматохе его незаметно чем-то ударил Ленька, который сейчас лежал неподалеку, понимая, что ничем не может мне помочь. Шум, возню, крики падения и удары словно не слышали остальные восемнадцать гавриков, вместе со мной пришедших в лагерь. Нас – двадцать мужиков, и мы запросто, без особых усилий, могли смять ворвавшуюся в карантин погань. Могли, но мешала подлая трусливость этих людишек, их страх за свои жалкие шкуры. В своем желании уцелеть во что бы то ни стало, они делались легкой добычей уголовников, объединенных вокруг паханов. Своих соседей я ненавидел пуще, чем врагов, распаленных болью и местью.