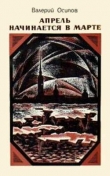Текст книги "Грибной царь"
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
17
– Куда едем? – спросил Леша.
– В офис. Кто-нибудь звонил?
– Отец Вениамин. Просил напомнить про болтики…
– Болтики? Ах, ну да – болтики…
Они тронулись, и вскоре, оглянувшись, Свирельников заметил серые «Жигули».
«Да и черт с ними! Вот ведь как жизнь чудно устроена: если бы на него не наехал центр из-за Толкачика, может, еще с „Филями“ и потянули бы. А тут раз – и решили! Прав, прав Алипанов: когда пируют великаны, лилипуты сыты крошками! Господи, от чего только не зависит жизнь и состояние человека! От любой ерунды! Но на банкет, гад, не пригласил!..»
– Леша, – приказал он. – Видишь, серая «копейка» сзади?
– Вижу! – подтвердил водитель, глянув в зеркало.
– Подпусти поближе!
– Сейчас…
Вскоре «жигуль» оказался настолько близко, что можно было рассмотреть номер на переднем бампере. Можно – да нельзя! Жестяная табличка оказалась густо замазана грязью.
– Отрывайся! – распорядился директор «Сантехуюта» и набрал номер Алипанова.
– Аллеу. Ты где?
– Еду. Ну, как у нас там?
– Пока – никак. Работаю. Узнал номер девочек?
– Узнал. Записывай. Фирма «Сексофон»…
– Саксофон? – удивился бывший опер.
– Нет, «Сек-со-фон».
– Ишь ты! Какие у нас все-таки люди талантливые! А как их звали?
– Не помню. Беленькая и черненькая. Беленькая с глазом…
– Неужели?!
– …На пояснице.
– Ух ты! Разберемся. Этот-то так за тобой и катается?
– Катается.
– Номер не рассмотрел?
– Рассмотрел.
– Ну?
– Грязью затерт, ничего не видно. Профессионал!
– Не обязательно. Может, просто телевизор смотрит. А куда сейчас едешь?
– В офис.
– Не исключено, он с тобой на контакт попробует выйти. Не волнуйся, держись твердо. Если он оттуда, откуда ты думаешь, то мелочь. Шестерка. Понял?
– Понял.
– Ну, давай, до связи! Будет информация – позвоню.
Офис «Сантехуюта» располагался в Костянском переулке в панельной многоэтажке, втиснутой между дореволюционными домами. Прежде свирельниковская фирма арендовала двухкомнатную квартиру, но постепенно, год за годом, расползлась и заняла весь первый этаж. Подъезд Михаил Дмитриевич, конечно, отремонтировал, вставил железную дверь с кодом и домофоном (заодно пришлось одомофонить всех жильцов), вымостил вход и первый лестничный пролет красивыми плитками, стены облицевал бежевыми пластиковыми панелями, а потолок – рейками. Дальше, на второй этаж, как и прежде, вели выщербленные ступени, а покрытые старинной масляной краской стены запечатлели похабщину по крайней мере трех поколений. Свирельников несколько раз собирался перевести контору в какой-нибудь престижный бизнес-центр, но в последний момент отказывался от этой затеи. Отчасти из-за дороговизны, но в основном из суеверия: менять обжитое место – дело опасное. Так, «святой человек», когда по-родственному расписывали «пульку», ни за что во время игры не пересаживался, даже к стулу своему прикасаться запрещал. Однажды он отошел в туалет, а Полина Эвалдовна из озорства, чтобы карту перебить, подвинула стул. Валентин Петрович, вернувшись, заметил и так раскричался в гневе, что все в конце концов переругались и бросили игру. Из-за передвинутого стула. А тут целый офис!
Охранник Витя, нанятый в основном для того, чтобы местные пацаны не портили послеремонтную красоту офисного подъезда, почтил появление хозяина вставанием. Черная униформа висела на его тощем теле, точно на вешалке, он явно страдал от какого-то серьезного недуга и, вместо того чтобы бдительно вглядываться в экран караульного монитора, постоянно читал книжки про чудесные исцеления. Время от времени он вообще покидал свой пост и запирался в туалете, так как с некоторых пор пристрастился к уринотерапии.
– Ты вот что, Виктор, если появится такой бритоголовый в красной ветровке, сразу меня позови!
– Угу! – кивнул охранник. – Могу задержать!
– Не надо! – поморщился Михаил Дмитриевич: ему показалось, будто от охранника повеяло отвратительным его лекарством. – Просто позови меня!
– Есть.
– И с поста никуда не отходи!
– А я и не отхожу!
– Вот и не отходи!
Свирельников двинулся по коридору к приемной, чувствуя, как коллектив, оповещенный о появлении шефа, затаился, гадая, в каком настроении пребывает начальство. От этого зависело, как пройдет рабочий день – спокойно или в криках с нагоняями. Секретарша Нонна в момент его появления вытирала журнальный столик, скрывая последние следы массового дамского чаепития, происходившего тут несколько мгновений назад. Она печально улыбнулась вошедшему, плавно проследовала к своему рабочему месту и протянула шефу список звонивших, отдельно сообщив, что отец Вениамин просто уже заколебал ее своими болтиками.
– Да помню я, помню! – сердито ответил Свирельников, снова совершенно забывший про эти чертовы болтики.
– Я вам вечером домой звонила, – с незаметным укором сказала Нонна. – Вас не было…
– Да, я слышал на автоответчике. Чего грустишь?
– Без вас я всегда грущу!
– Да ладно! Колись! Муж обижает?
– Что там муж? Парень мой задурил, – вздохнула секретарша. – В девятый класс идти не хочет…
– А чего хочет – работать?
– Ничего не хочет. У матери на шее хочет сидеть.
– М-да, вот такие они теперь, детки. Отец-то с ним разговаривал?
– А-а! – махнула рукой Нонна с тем родственным презрением, с каким относятся к своим благоверным, наверное, только русские женщины.
До Светки у Михаила Дмитриевича с Нонной было. Оно и понятно: не иметь интимную связь со своей секретаршей так же противоестественно, как состоять в близости со своим шофером. Озорничали обычно в комнате отдыха, устроенной на месте бывшей шестиметровой кухоньки. Нонна, одаренная по женственной части эффектная тридцатипятилетняя шатенка, на самом деле к сексу относилась почти равнодушно и отзывалась на порывы руководства так, точно это входило в условия подписанного контракта и являлось прямой служебной обязанностью. Только иногда, накануне месячных, она испытывала что-то отдаленно напоминающее удовольствие и обычно в таких случаях, встав с дивана, смущенно сообщала:
– Завтра, значит, крови придут…
Михаила Дмитриевича все это вполне устраивало, ибо вечерние соединения с секретаршей были для него после дневной нервотрепки активным, если так можно выразиться, отдыхом.
Правда, некоторое время назад он здорово подставил Нонну, заразив хламидиозом, подхваченным от Светки, а секретарша, в свою очередь, одарила этими подлыми простейшими своего простоватого мужа, возившего из Холмогор в Москву пиломатериалы на арендованном длинномере. Впрочем, все обошлось: муж, сам, видно, погуливавший в командировках, вину взял на себя, а чтобы заслужить прощение, купил Нонне нутриевую шубу. Одного он никак не мог понять: откуда в Холмогорах этот диковинный хламидиоз? Триппер – ясно. Но хламидиоз? Свирельников, возмещая ущерб, подарил секретарше новенькие «Жигули». Обрадованному мужу на всякий случай сказали: это вместо годовой премии, так как клиент расплатился по бартеру – тачками. С тех пор у Михаила Дмитриевича с Нонной ничего не было, ну, может, парочка спонтанных оралов после офисных праздничных выпивок. А большего и не требовалось: юная Светка выматывала его до полного невнимания к другим женщинам.
– Бухгалтерию ко мне! Прямо сейчас! – сурово распорядился Свирельников, направляясь в свой кабинет. – Черт знает что такое! До сих пор за рекламу «Столичному колоколу» не перечислили!
– Сейчас у вас Григорий Маркович. Вы ему на час назначили.
– Да, точно! – вспомнил он. – После Григория Марковича бухгалтерию!
В кабинете его дожидался юрист по фамилии Волванец – курчавый толстяк с лицом оперного красавца.
– Ну, как у нас дела? – спросил Свирельников, пожимая законнику руку.
– Дожимаем. Главное – доказать, что ваш договор с «Астартой» – юридически ничтожен.
– Докажем?
– Думаю, да. Я отдал документы на экспертизу очень серьезным людям и получил обнадеживающее заключение. А пока подготовил встречный иск. Вот прочтите!
Свирельников взял странички, сел за стол и постарался вникнуть. Конечно, если быть честным хотя бы перед самим собой, сроки монтажа сантехнического оборудования в оздоровительном центре «Астарта» сорваны по вине «Сантехуюта»: не оплатили вовремя счета «Сантех-глобалу», те, соответственно, задержали поставку, а договором предусмотрена неустойка – вот ее-то теперь и взыскивает через суд «Астарта». Собственно, о чем тут говорить: раскошеливайся за разгильдяйство подчиненных, которые зарплату хотят получать в капиталистических долларах, а работать как при социализме – через седалищный орган.
Но именно для подобных каверзных случаев и существуют умельцы вроде Григория Марковича. Он изучил ситуацию, на первый взгляд безнадежную, и раскопал: оказывается, договор от «Астарты» подписал гендиректор, к тому времени только что назначенный и еще не внесенный в реестр, а это, по сути, делало сделку юридически ничтожной. «Сантехуют» якобы был вынужден отдать договор на дополнительную экспертизу, и это задержало перечисление средств «Сантех-глобалу». А без денег кто ж тебе отгрузит джакузи и массажные душевые кабинки? Значит, в срыве сроков монтажа виновата сама «Астарта».
«Лихо! – подивился Свирельников и с уважением глянул на хитромудрого Волванца. – Вот ведь еврейские мозги! Молодец!»
Занимаясь бизнесом, он быстро понял: если хочешь выиграть дело в суде, без еврея-юриста, или, как выражался Вовико, «евриста», не обойтись. И это была чистая правда.
– Отлично! Выпьете, Григорий Маркович?
– Рановато.
– Коньячку. Символически. За успех!
– Ну, если символически…
Директор «Сантехуюта» нажал кнопку селектора:
– Нон, лимончик принеси!
– Кончился.
– А что есть?
– Апельсины.
– Давай! Только не режь, а почисти!
– Почему?
– Потому что такой день сегодня.
– Какой день?
– Усекновение головы Иоанна Крестителя. Резать никого нельзя!
– А-а-а…
Григорий Маркович во время этого «селекторного совещания» не смог скрыть улыбки, похожей на те, которыми обмениваются между собой родители, когда их дети в играх изображают взрослых. Но как только Свирельников отдал распоряжение и направился к большому глобусу, в котором таился бар, Волванец постарался придать своему лицу выражение доброжелательного равнодушия.
Надо сказать, Михаил Дмитриевич, в отличие от брата Федьки, относился к евреям с уважительной настороженностью. Еще в детстве он заметил: коль скоро заходила речь о них, отец с матерью всегда, даже если в комнате не было посторонних, почему-то понижали голос. Валентин Петрович как-то рассказывал, будто в двадцатые годы за антисемитские разговорчики могли запросто и расстрелять: декрет такой имелся, подписанный чуть ли не Лениным. Но родители понижали голос, даже если говорили о евреях вещи заурядно-бытовые, а то и вполне дружелюбные. Странно все-таки…
О том, что его жена на четверть еврейка, Свирельников сообразил года через три после свадьбы, слушая рассказ Полины Эвалдовны о каком-то витебском родственнике, добивавшемся разрешения на выезд в Израиль. Ну и что? Мало ли у кого какие гены: в прежние времена на это вообще не обращали внимания. Родственники могут иметься всякие, а ты – советский человек. Тоня в этом смысле вообще была ходячим пособием по интернационализму: дед – латыш, бабка – еврейка, краткосрочный целинный отец, который настоял на том, чтобы девочку назвали простецким именем Антонина, из павлодарских казаков. «У тебя голос крови, – смеясь, говорила она мужу, – а у меня хор кровей!» Но с годами, судя по разным приметам, в этом хоре наметился солист. Наверное, человеку для внутреннего здоровья вредно слышать в себе зовы сразу нескольких разноплеменных предков, и, слабея с возрастом, он выбирает какой-то один. Тоня предпочла витебский зов…
Свирельников налил «Хеннесси», и в кабинете запахло чем-то отдаленно коньячным. А раньше! Если кто-нибудь на этаже откупоривал бутылку обычного трехзвездочного армянского, то по всем коридорам народ принюхивался к веющим ароматам и безошибочно определял, где гуляют.
Нонна внесла блюдечко с очищенным, разъятым на дольки апельсином и поставила на стол, а перед тем, как выйти из кабинета, глянула на шефа с добродушным осуждением: мол, рановато, друзья, начинаете!
– Ну, будем здоровы!
Григорий Маркович пригубил рюмку, а Свирельников свою опрокинул и почти сразу же почувствовал в затылке легкий теплый удар, словно выталкивающий из головы похмельную тяжесть.
– Иск уже подали? – бодро спросил он.
– Подал. Судья по моей просьбе написала частное определение. В нашу пользу.
– Сколько мы должны судье?
– Пять тысяч евро.
– Уже перешли на евро?
Свирельников направился к сейфу, вставил ключ и вдруг понял, что с похмелья забыл четырехзначный шифр. Впрочем, восстановить его в памяти просто: первые две цифры – год рождения Тони, а вторые две – год рождения Алены. Сейф доступно скрежетнул, Михаил Дмитриевич засунул в него пакет с деньгами, полученными от Фетюгина, потом из малой ячейки, отпиравшейся специальным ключиком, вынул «еврики», похожие на фантики с несерьезными картинками, и, отсчитывая, подумал: «Странное дело! Чем важнее деньги для человечества, тем легкомысленнее на них изображения. Когда на всей планете воцарятся одни-единственные, неодолимые деньги, то на них, скорее всего, будут нарисованы какие-нибудь телевизионные балбесы, разевающие рты под фанеру…»
– После суда нужно будет занести еще пять тысяч, – принимая купюры, сообщил Григорий Маркович.
– А если после суда я не отдам? – вдруг спросил Свирельников: у него вызвало острое, почти физическое отвращение то, с какой сладострастной нежностью адвокат пересчитывает бумажки.
«Наверняка договорился на меньшие деньги!» – подумал директор «Сантехуюта».
– Отдам свои. Честь дороже! – совершенно серьезно отозвался Волванец, глянув на клиента с холодным недоумением.
– Я пошутил.
– Я так и понял.
– А вам? Тоже в евро? – спросил Михаил Дмитриевич, заминая неловкость.
– Мне лучше в рублях. Сыну новый компьютер к началу учебного года обещал.
– Будет целыми днями в «стрелялки» играть! – предупредил Михаил Дмитриевич, отсчитывая деньги. – Моей замуж пора, а все в игры играет…
– Мой не будет! – значительно ответил Волванец.
Допив коньяк и проводив адвоката, Свирельников почувствовал прилив сил, вызвал к себе начальника отдела снабжения и с удовольствием наорал на него за нерастаможенные чешские душевые кабинки. Потом главный бухгалтер Елизавета Карловна, тучная пожилая дама с финансовой безысходностью во взоре, доложила, что деньги в «Столичный колокол» давно перечислены, и принялась вяло объяснять новую схему ухода от налогов с помощью векселей. Затем пришел кадровик и жаловался, что не может набрать нужного числа инвалидов на фиктивные должности (это тоже делалось из-за налогов): увечный люд, почуяв рыночный спрос, стал разборчивым и заламывает несерьезные цены…
Потом заглянула Нонна, свежеподкрашенная и надушенная:
– Вы сегодня допоздна?
– Отпроситься хочешь?
– Нет. Наоборот.
– Не знаю еще…
Это было что-то новенькое. Не так уж безразличны ей, оказывается, скоропалительные диванные радости в кабинете шефа. Свирельникова это озадачило и даже возбудило: по телу пробежал веселый похотливый сквознячок.
– Иди ко мне! – Он похлопал ладонью по деревянной ручке вращающегося кресла.
Нонна подошла и присела. Михаил Дмитриевич положил ладонь на ее прохладное голое колено, потом медленно провел рукой вверх, под коротенькую юбку – там оказалось гораздо теплее. Нонна вздрогнула и задышала. Но туда, где совсем горячо, добраться не удалось, секретарша остановила его поползновенную руку и, справляясь с собой, вымолвила:
– Из «Столичного колокола» снова звонили…
– Да, надо туда ехать. Но я вернусь! – пообещал Свирельников.
Нонна понимающе погрустнела.
18
Выходя из офиса, Михаил Дмитриевич не обнаружил на посту охранника, отлучившегося, вероятно, по своей урино-лечебной надобности.
«Вот бардак! Хорошо, хоть этот бритоголовый из приличной организации. А то – заходи и убивай! Так вот в подъездах и отстреливают!»
Мысленно уволив ненадежного сторожа, директор «Сантехуюта» поискал глазами в окрестностях серые «Жигули» и, не найдя, сел в джип.
– Куда едем? – поинтересовался Леша.
Михаил Дмитриевич посмотрел на часы, прислушался к своему телу, как-то вдруг обеспокоившемуся после коньяка и Нонны, еще раз глянул на циферблат и спросил:
– Кто звонил?
– Опять отец Вениамин. Просил напомнить про болтики…
– Достал он меня со своими болтиками! Поехали!
– Куда?
– В Матвеевское. Пока я там буду, сгоняешь на «Фрезер» и заберешь болтики. Два ящика. В проходной вызовешь по внутреннему телефону Павла Никитича. Отдашь деньги. – Михаил Дмитриевич достал из портмоне доллары и положил на переднее сиденье.
– Будет сделано!
Когда ехали уже бульварами, Свирельников еще раз внимательно поозирался и, не обнаружив хвоста, решил, что у сотрудника «наружки», наверное, обеденный перерыв.
…С отцом Вениамином Свирельников познакомился давным-давно, когда тот еще был начальником лаборатории да к тому же заместителем секретаря парткома по контрпропаганде в научно-производственном объединении «Старт», занимавшемся космосом. В НПО, которое сотрудники промеж собой называли то шарагой, то «Альдебараном», изгнанный из армии Михаил Дмитриевич устроился на работу в военизированную охрану. Узнав, что в кадрах появился отставной офицер, «контрпропагандист» тут же примчался знакомиться, ставить на партийный учет и записывать в заочный Институт марксизма-ленинизма. Звали его тогда Вениамином Ивановичем Головачевым, а промеж собой именовали Трубой: за раскатистый голос, иерихонски разносившийся на собраниях и научных заседаниях.
Однажды, получив в райкоме задание организовать «анти-Пасху», Труба загорелся идеей сконструировать мощный проектор и на известковой стене храма Преображения Господня, располагавшегося метрах в двухстах от основного корпуса НПО, показывать собравшимся на крестный ход диафильм «Религия на службе мракобесия». Однако в горкоме, где все-таки водились разумные люди, идею не поддержали, а посоветовали устроить, как и прежде, в клубе «Альдебарана» коротенькую антирелигиозную лекцию, а потом концерт какого-нибудь популярного ВИА, чтобы отвлечь молодежь от поповщины.
Пригласили ансамбль «Перпетуум-мобиле» под руководством Аркадия Мицелевича. Увидав его физиономию, можно было легко вообразить, как бы выглядели люди, если в ходе эволюции отпочковались бы не от приматов, а от грызунов. Ходили слухи, будто Аркаша – племянник крупного партийного босса, а то бы давно сидеть ему в каталажке за антисоветский образ жизни и левые концерты. Сначала «мобилевцы» обещали попеть бесплатно, исключительно на атеистическом энтузиазме, но в самый последний момент Мицелевич, грызунчато усмехаясь, объявил, что у них сломался усилитель, и затребовал на ремонт триста рублей, немалые по тем временам деньги. Осведомленный о родственных связях музыкального проходимца, председатель профкома, матерясь, раскошелился, а убыток провел по статье «Материальная помощь в послеродовой период».
Народу в клубе НПО натолкалось много, и не только молодежи: Головачеву на чисто общественническом обаянии удалось добыть у бадаевцев пятьдесят ящиков свежего пива, что и определило массовость атеистической акции. «Мобилевцы», одетые в странные мешковатые робы, спели вокально-драматическую композицию «Галилей» собственного сочинения:
Галилей не лил елей,
Мысль его была остра-а-а!
Не боялся Галилей
Костра-а-а-а-а…
Мицелевич, естественно, был за Галилея, а остальные члены ВИА попеременно изображали то светлые, то темные силы истории. В финале все хором славили победу разума над мракобесием:
И все-таки она вертится,
Вертится, вертится
Наша Земля-а-а!
Ля-ля-ля-ля-а-а…
После официально-атеистической части оторвались по полной программе: клуб ходил ходуном, содрогаясь от тяжких электробасов и слаженного подпрыгивания научных работников. Меж коллег, ломающихся в танце, метался богоборец Головачев, излучая то особенное, организаторское счастье, которое охватывает идеологического труженика при виде удавшейся политической акции.
Свирельников проработал в НПО совсем недолго и ушел, как только разрешили кооперативы. Минуло, наверное, лет десять, и Михаила Дмитриевича пригласили на освящение офиса торговой группы «Мир пылесосов», где его фирма устанавливала всю сантехнику. Батюшка в епитрахили, фелони и поручах рисовал кисточкой масляные крестики на расклеенных по стенам охранительных бумажках, а потом брызгал святой водой, пропевая густым басом: «Кроплением воды сия священныя в бегство да претворится все лукавое и бесовское действо…» И только потом, оказавшись в многолюдном застолье как раз напротив попа, Свирельников обомлел: перед ним сидел Труба, похудевший, пожелтевший, с обширной седой бородой и большим серебряным наперсным крестом.
– Вениамин Иваныч, это ты?!! – тихо спросил потрясенный директор «Сантехуюта».
– Аз есмь! – басом отозвался бывший заместитель секретаря парткома по контрпропаганде и грустно улыбнулся.
А история с ним приключилась удивительная! Головачев поехал в командировку на какие-то полигонные испытания и попал под утечку топлива. Очень скоро у него обнаружили лейкемию, определили в хорошую клинику, но врачи заранее предупредили жену, что, судя по всему, больной безнадежен. В ту, перестроечную, пору в больницы часто привозили гуманитарную помощь. Помимо консервированных колбасок, чипсов и прочих съедобностей с истекающим сроком годности, в полиэтиленовых пакетах можно было обнаружить и кое-что непреходящее, например протестантское Евангелие в мягкой обложке, напечатанное на газетной бумаге.
Головачев, почерпнувший основные религиозные сведения из институтского курса научного атеизма, а также из популярных книжек, вроде «Библейских сказаний» и «Забавного евангелия», поначалу просто засунул благую весть в больничную тумбочку. К тому времени он полностью погрузился в безысходно-обидчивое оцепенение, в какое впадает человек, почуяв гневным сердцем, что умирает. И эта необъятная обида на судьбу, на страну, на планету, на людей, остающихся жить, так изматывала все его угасающее существо, что не было сил даже поговорить с женой, неотлучно сидевшей возле его койки и, чтобы как-то скоротать время, читавшей гуманитарное Евангелие. Она была врачом-ревматологом и понимала необратимость происходящего.
– Читай вслух! – попросил он однажды, устав от обиды.
– …У одной женщины двенадцать лет было кровотечение, она натерпелась от разных врачей, истратила все, что у нее было, но помощи не получила: ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, подошла сзади и прикоснулась к Его плащу (она говорила себе: «Если хоть к одежде Его прикоснусь, выздоровею»). И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом ощутила, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас почувствовав, что из Него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» – «Ты видишь, как толпа сдавила Тебя, а еще спрашиваешь, кто к Тебе прикоснулся!» – сказали Ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, испуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к Его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла вера, – сказал ей Иисус. – Ступай с миром и будь здорова…»
– А вот интересно, – на пожелтевшем, заострившемся лице Головачева появилось давно забытое оживление, – какая сила из него вышла?
– Видимо, он обладал мощным биоэнергетическим полем, – предположила жена.
– Почему же тогда это поле исцеляло только тех, кто верил в него?
– Не знаю.
– А если он исцелял не своей энергией, а той энергией, которую высвобождает в самом человеке вера? – начал вслух рассуждать бывший атеист.
– Но ведь тут же ясно написано: «из него вышла сила»! – возразила жена.
– Да, – огорчился Головачев и, помолчав, спросил: – Как ты думаешь, это правда?
– Трудно сказать, – пожала она плечами. – Анамнез неизвестен. После исцеления женщина у специалистов не наблюдалась. Может, у нее через неделю снова кровотечение открылось!
– Если бы открылось – всем сразу стало бы известно. Что там эта Иудея – Волоколамский район!
– В общем, конечно, – согласилась жена. – Книжники и фарисеи постарались бы, раззвонили!
– Да, если бы кровотечение у женщины снова открылось, его бы так долго не помнили! Забыли б, как Кашпировского или этого… Ну, со странной фамилией – воду по телевизору все время заряжал…
– Не помню.
– Вот видишь, а Его помнят!
Он выговорил слово «Его» с таким неожиданным для бывшего организатора «анти-Пасхи» почтением, чуть ли не заискивающе, что жена, наклонив голову к книге, не смогла сдержать улыбку.
Вскоре врачи, чтобы не портить отчетность, выписали Головачева домой, и он стал ходить в церковь в Предтеченском переулке рядом с домом. Несколько дней просто стоял напротив храма, возле диорамы краснопресненских революционных боев, и наблюдал, как люди поднимаются по крутым ступенькам на паперть, подают нищим, как крестятся и кланяются, прежде чем войти в высокие двери, как, выйдя, оборачиваются на храм – снова крестятся и кланяются. Потом, что-то превозмогая в себе, Труба зашел вовнутрь. Конечно, он бывал в церквах и раньше: на экскурсии, например, когда организованно вывозил актив «Альдебарана» в Суздаль, несколько раз присутствовал на отпевании умерших родственников… Но это было совсем другое: культурное любопытство или печальная семейная обязанность, когда смотришь на отложившегося от жизни знакомца и думаешь о том, что надо бы все-таки бросить курить.
Но в тот день, войдя в сладкую духоту храма, Головачев вдруг ощутил, что вот здесь, посреди шумной, суетливой, грешной, беспощадной Москвы, есть, оказывается, тайный вход в совершенно иное измерение, где жизнь течет не по законам борьбы и выживания, а по законам веры, доброты и покоя, где можно надеяться на невозможное и ждать помощи от непостижимого. Но самое удивительное: судя по тому, сколько на службу собралось народу, множество людей – в отличие от Головачева – давным-давно знают этот вход в другую жизнь.
После службы он подошел к старушке-свечнице и записался на крещение.
С тех пор в храм он ходил каждый день, отстаивал утреннюю, а то, передохнув, и вечернюю службу, все более проникая в смысл полувнятных речитативов и песнопений. Иногда все происходящее казалось ему бесконечным повторением некой нечеловечески талантливой пьесы, которую играют слабенькие, почти самодеятельные актеры. От батюшкиных же проповедей веяло глухим сельским лекторием. Но тем не менее вся эта золочено-парчовая самодеятельность вызывала у него теперь не иронию, как в прежние, здоровые годы, а умиление, доводящее до чистых слез. День ото дня на душе становилось все светлее и слаще, а тело меж тем худело, слабело, уничтожалось. Через месяц он уже не мог дойти до храма, жена выпросила отпуск по уходу и во взятой напрокат инвалидной коляске возила его в церковь. Старушки за спиной шептались, что женщина совсем измаялась, но зато муж обязательно после смерти спасется. Священник его заприметил и всякий раз дружелюбно кивал.
После очередного визита врача из районного онкодиспансера Труба, доплетясь до кухни, нашел жену роющейся в красной коробке из-под «набора делегата», где хранились семейные документы. И хотя она, честно глядя ему в глаза, уверяла, будто разыскивала завалявшуюся фотографию для нового пропуска на работу, умирающий, конечно, догадался: искала жена не снимок, а документ на могилу, куда его можно будет вскоре по-родственному подложить.
– Жалко умирать с таким уютом в душе! – сказал он.
В какой момент душевная сила вдруг стала проникать в умирающее тело, оживляя его, Головачев и сам точно определить не мог. Но однажды утром он встал с кровати и решил дойти до храма без коляски. Отпуск у жены закончился, поэтому в церковь она могла его возить теперь только по выходным. С трудом, держась за стены, подолгу отдыхая, он добрался до храма, остановился возле круто уходящих вверх ступенек и понял, что одолеть их уже не сможет. И все-таки, отдышавшись, стал подниматься, но на третьей ступеньке почувствовал страшную тяжесть в теле. Потом черная вспышка в голове и – мгновенная, летучая, уносящая вверх легкость… Очнувшись, он обнаружил себя уже на паперти. Сам ли он в беспамятстве одолел этот крутой подъем, или ангелы, подхватив, вознесли бывшего контрпропагандиста, – спросить было не у кого: вокруг не оказалось ни души, хотя обычно непременно сидели нищие.
Головачев продолжал ходить в храм каждый день. Старушки заговорщически кивали на него прихожанам, вон, мол, совсем помирал мужчина, а теперь смотри-ка! Батюшка одаривал его той благосклонно-удовлетворительной улыбкой, с какой врач смотрит на вылеченного лично им пациента. Когда удивленный районный онколог направил Вениамина Ивановича на обследование, смотреть его фантастические анализы сбежалось полклиники, ведь все, кто вместе с Трубой попал под утечку на полигоне, давно поумирали. Никто ничего не мог понять, и медики все списали на скрытые и внезапно отмобилизовавшиеся резервы организма.
В храме Головачев стал своего рода достопримечательностью, живым свидетельством милостивого всемогущества Бога Живаго.
Поначалу он сделался алтарником, затем, поднаторев в ритуале и подучив книги, был возведен в чтецы. Позже окончил краткосрочные курсы (тогда открывали новые приходы, кадров не хватало), сдал экзамены и был со временем рукоположен. Правда, вместо храма ему досталось пепелище от церкви, в которой много лет располагалась бондарная мастерская «Жиркомбината». За комбинат долго боролись две бригады братков – перовские и лыткаринские. Дело кончилось тем, что верх взяли лыткаринские: они купили своему человеку портфель заместителя министра пищевой промышленности, и тот все сразу устроил. Перовские от огорчения спалили предприятие и застрелили заместителя министра. Лыткаринские в отместку перебили половину перовских, но скоро и сами полегли под пулями ховринских, воспользовавшихся этой междоусобицей.
Господи, сколько же по столичным, губернским и сельским погостам лежит под крутыми черными обелисками русских парней, которые могли бы ребятишек наплодить да державу поднять, а стали по своей и вражьей воле кровавыми душегубами! Уму непостижимо!
В итоге пепелище отдали верующим. Церковное начальство с легким сердцем отправило новорукоположенного отца Вениамина окормлять не существующий еще приход, и Труба с тем же жаром, с каким когда-то организовывал «анти-Пасху», принялся восстанавливать дом Божий. Для начала, чтобы добыть денег, он обошел всех своих старых партийных и комсомольских знакомых, многие из которых расселись по банкам, страховым компаниям и даже по нефтегазовым заведениям. Пораженные необычайным преображением Головачева, ходившего теперь в рясе, подпоясанной полевым офицерским ремнем, да еще узнав о богоугодной причине визита, все по первому разу деньги давали безотказно. Самым прижимистым – бывшим советским хозяйственникам – отец Вениамин рассказывал историю своего чудесного исцеления, и те, тяжко вспомнив о собственной печеночной недостаточности, раскошеливались.