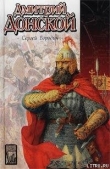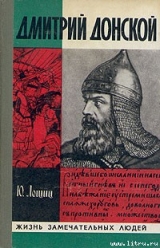
Текст книги "Дмитрий Донской"
Автор книги: Юрий Лощиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Глава одиннадцатая
ЗА ДРУГИ СВОЯ

I
Вроде бы тихо начиналось и следующее лето, от года нашествия 153-е. Но в первых числах июня потряслась земля кремлевского холма в Коломне: рухнула верхняя часть каменной соборной церкви, уже почти достроенной.
Нечасто падали каменные храмы – в летописях случаи наперечет. По силе впечатления такое подобно было трусу земному либо полной убыли солнца средь бела дня, если не страшнее того. Собор строился по личной воле Дмитрия Ивановича и был весьма велик, больше любого из храмов Московского Кремля; за образец зодчие взяли главную святыню Междуречья – владимирский Успенский собор.
Как только Дмитрию стали известны подлинные размеры обвала, он дополнительно отрядил людей для скорейшей его разборки и возобновления строительства.
Зазвучали снова молотки да тесала в Коломне — эхом отдался им в Серпухове звяк плотницких секир.
Там тоже стройка велась немалая и уже заканчивалась: Владимир Андреевич в кромнике своем над Нарой воздвиг дубовый Троицкий собор. В дружной и общей работе легко забывалась, будто выходила с потом наружу, всякая смута дурных предчувствий.
Хлеба выкинули зеленый колос, пересохли соловьиные вражки, и кукушка – лесная гадалка онемела. Лето почти уже прополовинилось, когда наконец исподволь стала приоткрываться причина затянувшегося ордынского молчания.
Мамай потому не прислал новых карателей ни прошлым летом, ни нынешним, что он собирался сам, и именно оттого собирался так долго и скрытно.
Русские летописцы, рассказавшие потом о приготовлении Мамая, кажется, неплохо поняли внутреннее состояние выдающегося временщика, испытываемые им треволнения. Вот уже более четверти века он властвовал в Улусе Джучи почти так, как хотел: сменял неугодных ханов, назначал и смещал военачальников, дружил с самыми богатыми торговцами Евразии и сам был готов помериться богатством с любым из них. Правда, при нем Улус Джучи раскололся надвое, но та часть, которой правил Мамай, была гораздо богаче, многолюдней, носила его имя и неизменно расширялась. Так, совсем недавно он подчинил себе весь Северный Кавказ и после этого овладел еще и Астороканьским улусом, где до того правил непослушный ему Хаджи-Черкес. А в тот самый год, когда Арапша разбил русских у Пьяны, другие полководцы Мамая отняли наконец у венецианцев город Тану, стоящий на устье Дона, и над его крышами вместо венецианских флагов со львом, скинутых наземь, гордо взметнулись ордынские знамена с полумесяцем.
И вот его, такого могущественного, Дмитрий Московский уже который год ставит ни по что. Мамая не радовало по-настоящему ни Пьянское побоище, ни сожжение кремля и посадов в Нижнем, ни легкость, с которой доставалась в последние годы добыча в Рязанском княжестве. Ока-река сделалась какой-то заколдованной чертой, которую не удалось переступить ни Арапше, ни опозорившему род свой Бегичу. Все это, наконец, не на шутку тревожило Мамая. Он тоже, между прочим, подумывал о бессмертной славе своего имени и вовсе не желал, чтобы о нем вспоминали как о властителе, при котором Русь, порвав ордынскую узду, вышла из повиновения. Он обязан вернуть Орде славу Батыева века!
Летопись подтверждает, что, когда Мамаю пришло на ум сравнение с внуком Чингиза и он «хотяаше вторый царь Батый быти и всю Русскую землю пленити», то дело вовсе не ограничилось пожеланием, высокопарным мечтательством. Нет, Мамай решил внимательно и подробно изучить ордынское предание, он «нача испытовати от старых историй, како царь Батый пленил Русскую землю и всеми князи владел, якоже хотел». Это испытывание «старых историй», исследование военного и политического опыта Батыя неминуемо должно было настроить прилежного ученика на следующую мысль: для нового пленения Руси нужен поход поистине великий, тут не обойтись какими-то тычками и щипками с помощью изгонов, стремительно-вороватых набегов. Тут даже с воинством наподобие рати Бегича делать нечего. Тут нужна поистине тьма тем людей: не только конников, но и пеших, не только тех, что имеются под рукой, но и наемников (у Батыя их были многие тысячи); воинов должно быть столько, чтобы, войдя в Междуречье, можно было одновременно кинуть их в разных направлениях – на одно, на другое, третье княжества.
Но где Мамаю было набрать столько воинов? У Батыя не водилось таких врагов, как у него. Батыя не подпирали с востока, карауля каждый его неверный шаг. А у Мамая за Волгой Синяя Орда, а в ней ныне Тохтамыш – выкормыш и правая рука Тимура, Железного Хромца. Про жестокость Тимура говорят вещи неслыханные, сам бессмертный Чингисхан не позволял себе подобных расправ над пленными и мирным населением покоренных земель. Пока Тохтамыш по указке Тимура безуспешно воевал с ханами Синей Орды, сидевшими в Сарае-Берке, Мамай поглядывал на него как на союзника. Но сегодня Тохтамыш наконец-то сам уселся в Сарае и стал хозяином Синей Орды и, значит, врагом Мамая. Судя по тому, как долго и вяло бился он за ханское место в Сарае, Тохтамыш – вояка некрепкий. По крайней мере, сразу он не сунется за Волгу, в Подонье, и у Мамая вполне есть время подумать сейчас о Дмитрии.
Да и деньги есть. Денег у него больше, чем воинов, и потому советники уговаривают его не скупиться на дорогие дары, лишь бы нанять побольше ратников в окрестных языках – у тех же фрягов, сидящих в Крыму, у тех же ясов, армен и черкесов.
Как ни могуч был Батый, но и он не в один год справился с князьями русскими. Нынче Мамаю тем более нет нужды загребать чересчур широко. Русь, самое ее ядро, сжалась в маленьком междуречье Волги и Оки. В Киеве сидят литовцы, и они вовсе не помощники Дмитрию. Более того, с Литвою он, Мамай, вполне против Дмитрия может договориться. Особенно с молодым и пылким Ягайлом, который еще ничем, кроме придворной резни, не отличился, а как бы пристало ему отличиться на поле боя против Москвы.
О том, что Мамай уже ведет переговоры с Ягайлом, в великокняжеском совете кое-какое представление имели и не очень-то этому удивлялись. Гораздо хуже было другое: ходили упорные слухи, что Ягайла науськивает против Москвы не только Мамай, но и... Олег Иванович, соседушка дорогой. И что якобы оба они – Мамай и Олег – также друг с другом сообщаются устно и письменно. Слух слуху, конечно, рознь. Слух не зрит, чье ухо дыряво, чья губа гугнява. Всякой молве верить – лучше не жить... А все же и копоть – не дураками подмочено – без огня не заводится.
Меньше всего хотелось сейчас Дмитрию Ивановичу плохо думать о своем заокском соседе. Тем более что они не находились в розмирье. Но все же опыт их отношений в прежние годы – опыт, к сожалению, самый разнообразный – подсказывал: на всякий случай где-то на краешке сознания придется и этот слух держать до поры, когда толком он проверится. Как знать, может, кто-то нарочно запустил грязную молву в надежде, что мигом воспламенится московский князь, порвет во гневе договоры с Олегом и тут же ввяжется с ним в драку.
То-то славный выйдет подарок Мамаю и, как никогда, вовремя!
Нет, московскому князю сейчас надо было поглядывать дальше – туда, где кончались южные рязанские окраины. Следить денно и нощно: что там на ветру шевелится – трава ковыль? метелки камышей? или бунчуки ордынских стягов, цветные перья-еловцы на вражьих шлемах?
Во второй половине июля Дмитрий Иванович знал уже совершенно точно: из степей Мамаевой Орды снялась и медленно продвигается к верховьям Дона несметная ратная сила, сопровождаемая скрипом тысяч телег, ржанием табунов, блеянием овечьих отар. Продвигается, стравливая и вытаптывая дикие приречные луга. Самым верхним местом, где обнаружили чужое войско, было устье реки Воронеж.
Впервые ордынцев вел на Русь Мамай.
II
Воссоздав внутреннюю настроенность, в которой пребывал накануне этих событий Мамай, летописцы еще более подробно и тщательно описывают то длительное и устойчивое настроение великого князя московского, каким оно отразилось в его действиях и поступках лета и осени 1380 года.
Может быть, раскраска его поведения, изложенного, допустим, в позднем рассказе Никоновского летописца, даже несколько избыточна в подробностях. Но как бы далеко во времени ни отстоял рассказчик от своего героя, оба они были людьми Древней Руси, и летописец в сопереживании князю оставался в рамках все того же средневекового миросозерцания. Нам сегодня может показаться, что он иногда изображает Дмитрия чересчур сомневающимся, неуверенным в себе, слабым. Но эта слабость Дмитрия сознательно противопоставлена гордости Мамая. А кроме того, в слабости, в духовной немощи и нищете, самосознаваемой, конечно, видели – но законам того же миросозерцания – залог силы. Ибо только слабые обращаются за помощью, гордые же полагаются во всем на себя.
Великий князь догадывается, что земле его угрожает повторение страшного погрома 1237—1240 годов. И это знание («прадеды» в отличие от него ничего не предвидели) еще более давит ему на сердце, заставляет вновь и вновь взывать к милосердию той силы, которую Дмитрий исповедует как сын своего века и своей земли.
Дмитрия невозможно понять, не учитывая этого его постоянного настроения. Как невозможно понять и всего, что произошло на Куликовом поле с ним и его соотечественниками, потому что с таким же, как у великого князя, настроением шли туда все или почти все его соратники.
Но в те же самые дни и недели великого кануна Дмитрий столь же естественно жили другим настроением, совсем не противоречившим первому. Он рассылал гонцов, разведчиков, вел переговоры с князьями-соседями, подбадривал растерявшихся, пристыжал тех, кто пытался отсидеться в стороне... Он действовал. Он был как бы сосудом энергии – той самой, что незримо заполняла его существо в минуты скорби и слабости, – а сейчас он нес ее легко и выплескивал избыток на ходу, и она преображала всех, кто находился вокруг него.
Поскольку он не знал пока, с какой скоростью Мамай будет продвигаться дальше, то, выслав глубокую разведку к притоку Дона – реке Тихой Сосне, одновременно, отправил гонцов с грамотами по городам великого Владимирского княжения: ратникам назначается общий сбор в Коломне к 31 июля. Великое дело преодолеть себя и назвать день и событие, от которого можно будет вести отсчет всему остальному. Он решился назвать день еще и потому, что накануне в Москву внезапно явились послы от Мамая и завели с ним разговор о ежегодных выплатах в Орду, о «выходе татарском». Понятно, они не хотели унизить себя требованием простого возобновления выплат в размерах, оговоренных докончанием 1371 года, когда Дмитрий в Орду ездил. Они затребовали «выхода» старинного, какой платила Русь Улусу Джучи при Узбек-хане и при Джанибеке. Князь великий решил немного уступить: он согласен снова платить Мамаю, как урядились девять лет назад; но нет у него таких денег, чтобы платить, как при Узбеке... Послы отбыли ни с чем. Может, вопрос о данях был лишь поводом для их появления, а на самом деле хотели прознать: насколько струсил князь московский? расчуял ли уже, что ему готовится? принимает ли какие меры? Но князь был непонятен: то ли беспечен, то ли непроницаем?
А меры он принимал. Послал в Тверь к князю Михаилу Александровичу просьбу о воинской помощи – но докончанию 1375 года имела Москва основание на такую помощь рассчитывать. Вызвал из Боровска двоюродного брата: Владимир Андреевич в последние годы нередко туда наезжал, заботясь об укреплении своих западных вотчин.
Вестей от разведки, снаряженной на Тихую Сосну, все не поступало, и, забеспокоившись, Дмитрий Иванович отправил ей вдогон вторую сторожу. По пути воины встретили Василия Тупика, одного из воевод ранее посланного дозора. Василий вез великому князю «языка», которого знатоки бесерменского наречия уже допросили и выведали у него: да, Мамай, без всякого сомнения, идет на Русь; да, он сговорился с рязанским князем и литовским, однако «еще не спешит царь, но ждет осени, да совокупится с Литвою».
Это сообщение совпадало с тем, которое Дмитрий получил несколько раньше еще от одного разведчика, прибывшего прямо из ставки Мамая. То был известный на Москве Захарий Тютчев44
От Захария Тютчева вел свой род выдающийся русский поэт Ф. И. Тютчев.
[Закрыть]. Он ездил в ставку совершенно открыто, ибо был послан с дарами Мамаю от великого князя московского. Это был хитро задуманный способ вызнать побольше да поточнее. Подарки, понятно, сердце Мамая не растопят. Но смышленый Захарий в ставке все же побывает, и за это не жаль заплатить как следует. Ставка не двор великокняжеский, откуда несолоно хлебавши подались намедни Мамаевы послы. Ставка – воинский лагерь, а считать Захарий умеет не только деньги.
В Москве еще раз расспросили «языка», доставленного Василием Тупиком, и Дмитрий Иванович распорядился отодвинуть число сборов в Коломне на полмесяца. То, что Ягайло задерживается с приходом до осени, а Мамай до тех пор ничего наступательного предпринимать не будет, свидетельствовало как будто о нерешительности великого темника. Впрочем, обольщаться таким предположением ни к чему. Просто надо использовать время для более тщательных приготовлений.
По Владимирской дороге уже прибывали в Москву полки из городов и удельных княжеств Междуречья. В числе первых успел друг и всегдашний сочувственник Дмитрия, в два почти раза старший его годами князь ростовский Андрей Федорович. Последний раз они воинствовали плечом к плечу у стен Твери пять лет назад. Но и нынче Андрей Федорович сидел в седле прочно, выглядел молодцом. Порадовал старый слуга молодого господина, до слез порадовал!
И другой Андрей Федорович, стародубский князь, как раз подоспел. С этим тоже на Тверь хожено, дыма тверского нюхано, из чаши победной пито. Спасибо и ему за верность и за службу. Как в 75-м году не подвели, так и сейчас отозвались на родственный зов ярославские братаны Дмитрия, князья Василий и Роман Васильевичи. И еще одного участника похода на Михаила Тверского обнял и расцеловал Дмитрий – Федора Михайловича, князя моложского. Видно, глубоко им всем запал в сердце тот поход, так глубоко, что теперь у каждого оно встрепенулось при первом же клике Москвы.
А князь Оболенский Семен Константинович разве не стоял у Тверцы и Тьмаки? Стоял! И на приступ ходил, и победу со всеми праздновал, вот и нынче не желает отставать от соратников.
Не отстали и самые далеко живущие – белозерцы, князь Федор Романович с сыном Иваном; и Федора Романовича Дхмитрий хорошо помнил по походу 75-го года. Поклон белозерцам, притомили коней, притомились сами, зато поспели в срок...
Но что же до сих пор от Новгорода ни слуху ни духу? И что на уме Михаила Александровича? Неужели опять своей выгоды ищет и на Литву поглядывает? Так и будет уклоняться до конца от участия в походе?.. А где тесть, где Борис Константинович, где шурья нижегородские?
Окрестности Москвы превратились в пестрое воинское становище. Но сборы сборами, а надо было и самому Дмитрию Ивановичу с духом как следует собраться. Уже и Успенье отпраздновали в Москве, а хотели ведь к 15 августа у Коломны стоять. Подходили и подходили ратники, но возбуждение от встреч, чисто телесная, пьянящая радость от ощущения громадности людского соприсутствия вдруг исчезали в душе, вытесняемые новым приступом тревоги и слабости. Многие ли из этих людей возвратятся к своим семьям? Может быть, каким-то чудом еще удастся предотвратить неминуемое? Может, Мамай, проведав о величине собираемой на него рати, все же не рискнет идти на Русь?.. Но он-то, Дмитрий, знал, что решительный разговор с Ордой неизбежен и все сроки вышли. Он и сам, кажется, делал и делает все, чтобы открыто повести такой разговор. И вот теперь, когда час приблизился, ему ли искать каких-то отсрочек? Уже после Вожи стало ясно, что началось. И что одним лишь сторожевым стоянием на Оке не обойтись. Но все-таки имеет ли он право кинуть в пропасть войны стольких людей сразу?.. С кем посоветоваться? К чьей руке прижать разгоряченный лоб?.. Он стоял на коленях у гробницы митрополита Алексея, и все чувствилища его души были напряжены в ожидании облегчающего слова...
На второй день по Успенью с малым числом воинов он выехал из Кремля. Владимирская дорога, по которой скакали, была, как никогда, разбита, исхлестана колеями, изкавожена. Навстречу им то и дело попадались кучки ратников, пеших, конных, и те, кто знал его в лицо, удивлялись: по его ведь приказу торопятся к Москве, а сам-то господин куда?..
Миновали Яузское Мыгище, Клязьму и лежащее близ Учи волостное село боярина Григория Пушки55
Один из предков А. С. Пушкина, Григорий Пушка, принадлежал к боярскому роду Аинфовичей; род восходил к легендарному Ратше. См. об этом: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969.
[Закрыть]. Сколько раз ездил Дмитрий старой этой дорогой, знал всяк ее поворот, каждую старуху ветлу за обочиной; новым было лишь сильнейшее волнение, испытываемое им во все последние дни.
Из-за этого его волнения едва не скомкалась и встреча, ради которой он скакал. На следующее утро он со своими спутниками отстоял обедню в деревянной церкви Троицкого монастыря, и тут как раз подоспел на Маковец скоровестник и доложил о новом продвижении Мамая вверх по Дону.
Далее летопись повествует: великий князь стал было прощаться с Сергием, но тот умолил его не торопиться, а потрапезовать вместе с братией.
В простоте, обыденности и одновременно странности этой просьбы был весь Сергий: как будто не желая вникать в обстоятельства великого князя, он просил его помедлить в самое неподходящее для этого время.
Но за трапезой как бы невзначай он сказал Дмитрию слова, смысл которых превосходил все, что надеялся и предполагал услышать здесь сегодня московский князь.
– При сей победе тебе еще не носить венца мученического, – тихо сказал игумен, – но многим без числа готовятся венцы с вечной памятью.
Сергий говорил о победе как о чем-то, видном ему с такою же отчетливостью, с какою он видел сейчас перед собой великого князя. О победе говорил монах, не умеющий ударить кого-либо рукой, не то что мечом; не знающий или почти не знающий всей исключительности воинских обстоятельств нынешнего лета; о бесчисленности жертв предупреждал лесной скрытник, который не мог себе даже представить, сколько народу уже собрано и ждет приказа выступать. Но тем большая убедительность заключалась для Дмитрия в том, что он только что услышал.
Потом, как бы раздумывая вслух, Сергий произнес:
– Попробуй еще почтить Мамая дарами и честью и, может быть, господь, видя твое смирение, низложит его неукротимую ярость и гордость?
– Отче, все это я делал уже, – ответил Дмитрий, – но он с еще большей гордостью возносится.
Игумен помолчал и, нахмурясь, проговорил твердо:
– Если так, то ждет его конечное погубление.
И еще раз в душе усовестился Дмитрий: как мог он уехать отсюда, не услышав этих вот слов? Сергий разрешает ему брать меч в руку и тем самым разрешает его от тяжких уз ответственности за предстоящие жертвы.
Но только ли это сейчас для Дмитрия важно? Разрешается, казалось бы, неразрешимое: должно дерзать, должно смело вершить предначертанное. Тяжкие путы неуверенности, десятилетиями оплетавшие русский дух, ныне на глазах спадают. И кого слышит сейчас Дмитрий – Сергия ли, голос ли самой земли Русской, или слитный глас тысяч и тысяч своих единоплеменников – живущих и погибших, бывших и будущих?..
Славный, страшный, волнующий час!..
Еще за трапезой Дмитрий обратил внимание на двух иноков могучего телосложения; он вспомнил этих великанов: несколько лет назад они были известны в миру как бесстрашные витязи и, кажется, происходили из брянских бояр.
Растроганный всем, что он услышал сейчас, и заранее чувствуя, что ему не будет отказано, Дмитрий вдруг попросил старца:
– Отче, дай мне с собою двух иноков от твоего чернеческого полка, двух братьев – Пересвета и Ослябю.
Когда монахов призвали и они услышали о просьбе великого князя, оба с достоинством поклонились своему игумену и Дмитрию. Были внесены две схимы, сшитые из темно-синей крашенины. Налагая на братьев островерхие одеяния с вышитыми на них грубой белой нитью голгофами, игумен сказал им:
– Время купли вашей настало.
И всем присутствующим был ясен величественный смысл этих простых слов. Ведь не о том, что продается и покупается среди людей на торжищах, вел речь игумен. Он говорил о «выкупе» из мертвых, потому что гибель воина за землю свою делает его бессмертным в памяти народа. Ценою этой гибели выкуплена будет свобода Руси. Старец видел это наперед и имел в виду не только двух стоящих перед ним иноков-ратоборцев.
Так, при самом малом числе участников и свидетелей, произошло событие, о котором из века в век будут потомки передавать устные и письменные предания, которому будут посвящены песнопения и полотна художников, благодарная память старых и восторженное вдохновение молодых.
...На следующий день, 19 августа, Дмитрий и его спутники возвратились в Москву, и великий князь велел объявить по войскам: завтра утром всем быть готовыми к выступлению в Коломну.