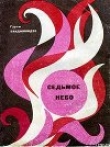Текст книги "Преодоление"
Автор книги: Юрий Герт
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Вслед за Османовым движется Володя Таланцев.
Он всегда любил спорт. Особенно ринг,– с азартными, ежесекундно срывающимися со своих мест зрителями, с восторженным криком и пронзительным свистом, которые удесятеряют силы и прибавляют боевого духа. О, незабываемая минута, когда на соревнованиях боксёров легчайшего веса судья торжественно поднял его руку и объявил победителем! А стадион, дружно ухающий, когда один конькобежец обгоняет другого! Ветер воет в ушах. Остро наточенные коньки сами летят по зеркальному льду. Сотни глаз прикованы к каждому его движению. О, заветная ленточка финиша, разорванная его грудью!..
А здесь нет ни ленточки, ни судьи. Надо идти и идти, сквозь снег, сквозь ветер, неровной лесной дорогой, а противогаз сбился на бок, фляга съехала к пряжке, лопатка бьётся ручкой о ноги. Тяжёлая плита лишает привычной устойчивости, и нужно всем телом напрягаться, чтобы, съезжая с крутых холмов, не потерять равновесия и не упасть. Но всё это кажется пустяком. А вот если на марше у вас разболелась нога,– это действительно катастрофа!
Когда в пять утра дневальный прокричал: «Подъём! Тревога!» – будто сквозной ветер ворвался в казарму и заворотил все одеяла на спинки кроватей. Таланцев, бросившись к табуретке, на которой было сложено обмундирование, начал торопливо одеваться, думая лишь о том, как бы не опоздать в строй. Он быстро натянул ватные брюки, обмотал ноги портянками, сунул их в валенки и, на ходу застёгивая гимнастёрку, бросился к пирамиде. Раньше ему не приходилось иметь дела ни с сапогами, ни с валенками, ни с портянками. Став солдатом, он всегда навертывал их как-нибудь, но до сих пор всё сходило гладко.
Уже подбегая к пирамиде, он понял, что навернул портянку плохо, она сбилась на пятке в твёрдый комок и, пожалуй, натрёт ногу в пути. Но дорога была каждая секунда, переобуваться он не стал, решив сделать это при первой возможности.
Когда Таланцев выскочил во двор, воздух был наполнен глухим рокотом, урчанием моторов. Медленно проезжали автомашины, едва не налезая друг на друга. Пошли, вдавливая в дорогу снег, тяжеловесные самоходки, глуша всё вокруг своим рёвом; какой-то связист, склонившись около своей рации с длинным прутиком антенны, кричал в трубку:
– Я – «Сирень», я – «Сирень», вы меня слышите?
«Кто тебя услышит?» – подумал Таланцев, направляясь туда, где строилась батарея.
Пока Розенблюм бегал за буссолью – он по рассеянности забыл её взять – Таланцев, отойдя в сторону, нагнулся снять сапог и сейчас же отскочил. Мимо, едва не задев его, прогромыхала самоходка. Из люка высунулась голова.
– Ты что, ослеп?
Он узнал голос знакомого самоходчика.
– Ничего, Ваня,– до самой смерти не помру!
В ответ ему погрозили кулаком.
Так ему и не удалось переобуться. Батарея построилась, вышла из города и двинулась по дороге. Он с завистью посматривал на проезжавшие машины. «Едут, черти, а тут – ковыляй на своих двоих».
На первом же привале он переобулся, но было поздно... Он шёл, стиснув зубы. Нога болела немилосердно. Иногда, чтобы хоть на несколько мгновений избавиться от острой боли, он останавливался, нагибался вперёд, налегая всем телом на палки, и отды
хал. Но после каждой такой передышки боль вспыхивала ещё сильнее, и он шёл, ругаясь громко, и ветер относил его ругательства далеко назад. Чтобы не задерживать других, он решил идти последним. Скоро ли, наконец, привал, и можно будет сесть, не двигаться две, три, десять, двадцать минут... А пока лучше не думать. Кто это говорил – «Боль – это моё представление о боли»? Грек какой-то? Да, пусть бы на этого грека нацепили полную боевую, навалили на плечи лотки да с натёртой ногой пустили по этой проклятой дороге,– посмотреть бы, как он избавится от этого «представления»... Но, пожалуй, есть во всём этом и что-то смешное. Хотел сделать лучше,– получилось хуже. А не хотел бы делать лучше,– всё было бы хорошо. Ну, опоздал бы в строй! Не хотелось, чтобы было стыдно перед Спорышевым... И вот результат!
Да, Спорышев – это человек!.. Недели две назад они долго разговаривали. Когда его вызвал Спорышев, он думал – будет очередная взбучка: дисциплина, долг воина... Было и это, но как-то совсем не так, как ожидал Таланцев. В сущности, это был первый разговор—настоящий, откровенный, не похожий на те, к которым он успел уже привыкнуть. Хорошие у сержанта глаза – голубые, с лёгким прищуром, они с удивительным пониманием смотрят на тебя, и, кажется, всё, что ты скажешь, ему уже известно, но ты не знаешь, что он сам думает обо всём этом... Да, с чего же начал Спорышев? Он спросил, читал ли Таланцев «Клима Самгина»,– там хорошо показано, к чему приводит человека индивидуализм. Как это он сказал? «Вы считаете, что вы лучше всех, умнее всех, а вы исходите из мысли, что вы – не лучше всех, и все – не хуже вас». Неплохо сказано...
Потом говорил о коллективизме, о том, что Таланцев не знает, что такое – жить в коллективе... Это, пожалуй, верно, хотя тогда он и возражал. Он был общителен, вечно в массе сверстников, но когда его личные желания приходили в столкновение с интересами коллектива, он, не задумываясь, следовал этим желаниям...
То, что говорил Спорышев, жалило больше, чем то, что мог бы сказать и говорил ему Дуб, но Таланцев слушал. Почему? Вот и он в ответ наговорил такое, что в другое время не сказал бы никому. Он выложил всё – и то, что мечтал о романтике, о подвиге, о трудностях, а его заставляют аккуратно заправлять койку, драить сапоги; и если что не так – он плохой солдат. И что Дуб говорит и делает часто такое, за что ему, как комсомольцу, надо было бы дать по крайней мере выговор, а ему всё сходит с рук. Кто-то говорил в старину, что в армии «подчинённый должен уметь казаться глупее своего начальника». А он не умеет,– отсюда нелады с Дубом... Тут Таланцев убедился, что голубые глаза Спорышева могут вспыхивать жгучим синим пламенем.
– Кто-то? Это говорил Фридрих II,– хрипло сказал сержант.– Как вы можете мораль прусской армии сравнивать с нашей моралью? Это – гадость!
Таланцев думал уже, что утрачена та атмосфера дружеской почти беседы-спора, какая было установилась, но Спорышев быстро остыл, хотя взгляд остался до конца настороженным, несмотря на то, что Таланцев старался объяснить, что он думал сказать не совсем так, даже совсем не так, как его поняли. А кончилось всё совсем удивительно. Спорышев объявил, что он, Таланцев, назначается агитатором взвода и... что он просил бы помочь ему в изучении английского языка.
Таланцев ушёл в приподнято-радостном настроении, причину которого сам понимал неясно. «Да, это вам не сержант Дуб!» – посмеивался он. Столкновения с Дубом, о которых прежде он столько думал, стали казаться чем-то мелким и незначительным, он был весь погружён в мысли о том, как пойдёт его агитационная работа, и ему вдруг захотелось сделать так много хорошего для солдат своего взвода – оттого, что он почувствовал теперь за них ответственность и, может быть, чтобы доказать Спорышеву, на что он, Таланцев, способен. Спорышеву и – Дубу...
К нему вернулось душевное равновесие, он старался вести себя солидней и свой авторитет отличного гимнаста, начитанного парня и меткого остряка направить на что-то хорошее. Ему искренне хотелось помочь Спорышеву – не как командиру, а как человеку, с которым его связывают добрые личные отношения. Несколько раз он помогал Спорышеву в переводах, при этом Таланцев удивлялся дотошности, с которой сержант, не выносивший ничего неясного, недоговорённого, стремится проникнуть во все тонкости английского языка.
Они обменивались мыслями о ранее читанных книгах, международных событиях, осторожно и любопытно прощупывая друг друга со всех сторон. А Дуб... Таланцеву казалось, что он угрюмо стоит в стороне и наблюдает за ним. То ли он, Таланцев, перестал пререкаться, то ли причин для придирок меньше стало,– но впечатление такое: стоит в стороне и – наблюдает...
Ветер ослабевал. Он налетал изредка, сильными порывами, от которых лес гудел, как морской прибой.
Боль в ноге немного стихла. Может быть, оттого, что отвлёкся, «заговорил» её, и прав был кое в чём грек?.. Странное дело, и плита как будто стала легче. Не то, чтобы в самом деле легче, а втянулся в ритм походного шага, как-то механически переставляешь ноги – привыкаешь к усталости и перестаёшь чувствовать её так остро, как в начале.
Дорога круто спускалась в низину и сворачивала в сторону. Поворот крутой, надо вовремя уловить его, иначе можно заехать с разгона в глубокий снег или уткнуться в высокую ель, выбежавшую к самой дороге.
Цепочка лыжников стремительно мчалась, редея на спуске, сжимаясь и густея внизу. Таланцев чуть наклонился вперёд и стал съезжать, тормозя палками, но на самом повороте упал на спину, нелепо раскинув ноги с разъехавшимися в стороны лыжами. Несколько секунд он лежал, не меняя положения. Что за удовольствие – не чувствовать на себе привычного груза! Шедшие впереди не видели, что он упал, и продолжали движение.
Чуть не наскочив на него, промчался Филиппенко, который тоже отстал и шел за Таланцевым – последним в длинной цепочке миномётчиков. Поглядев ему вслед, Таланцев выругался:
– Нет, чтобы остановиться и помочь – сделал вид, что не заметил...
Положение было глупейшим: лёжа спиной на тяжелой, плотно привязанной плите, скованный в движениях плохо пригнанным снаряжением, с неловко раскоряченными ногами, он походил на черепаху, перевёрнутую панцырем вниз: она тщетно перебирает в воздухе лапами и никак не может принять нормальное положение. Подумав об этом, Таланцев внутренне улыбнулся. Внутренне, потому что, вконец измотанный, он как бы боялся сделать лишнее усилие, чтобы улыбнуться замёрзшим, обветренным лицом. Лежать бы так, не вставая, не двигаясь... но надо идти.
Вставать и идти.
С большим трудом Таланцев подтянул одну руку к боку, поднял ногу, развернув в воздухе лыжу, напрягся – и рывком повернулся на бок. Попробовал, опершись рукой о снег, сесть,– рука по плечо ушла в снег. Он подтянул ногу, смахнул снег с креплений, расстегнул их и снял лыжу. Теперь, пожалуй, можно было сесть. Но и приподнявшись на корточки, он чувствовал, что встать ему будет не так-то просто. Отдохнув немного, он уперся в снег палками, напрягся до предела и медленно поднялся. Пот выступил у него на лбу. Впереди дорога терялась за поворотом. Вероятно, между Таланцевым и взводом теперь расстояние не меньше километра. Догонять – значит выбиться из последних сил. Будет же где-нибудь привал, там он и присоединится к своим. Он пошёл вперёд не торопясь. Снова разболелась нога. Он был отчасти даже доволен, что теперь его падение в какой-то мере оправдает его отставание.
Минут через десять он неожиданно нагнал Филиппенко. Тот стоял на краю дороги, привалясь спиной к сосне, и смотрел тоскливым, безразличным ко всему взглядом вдоль дороги, туда, где уже давно скрылись солдаты.
– Ты что? – спросил Таланцев, приблизившись.
– Тебя жду,– ответил Филиппенко, медленно повернув к нему голову, и посмотрел на него тем же безразличным взглядом.
Таланцев сплюнул в сторону – слюна была густая, тягучая.
– Ты бы уж лучше двигал вперёд и дожидался меня где-нибудь на привале, возле костра.
Филиппенко молчал.
– Ну пошли,– сказал Таландев.
– Подожди.
– Чего ждать?
– Слышишь, Таланцев, я дальше не могу.
– Не валяй дурака, пошли.
Филиппенко стоял не двигаясь.
– Я пошёл один,– сказал Таланцев, готовясь тронуться.
– Ну, будь человеком, подожди хоть минуту.– У него был совсем слабый, упавший голос. Таланцев, сделавший шаг вперёд, остановился.
– Тяжело?
– Да. Ты понимаешь, просто...
– Понимаю,– перебил Таланцев.– Пить хочешь? – Он отстегнул от ремня флягу со сладким чаем.
Филиппенко жадно прижался к ней губами и пил до тех пор, пока Таланцев не выдернул её.
– На после надо оставить,– сказал он и, отпив сам два-три глотка, закрепил её крышкой и прицепил к ремню.
– Давай карабин,– сказал Таланцев.
– Что? – Филиппенко непонимающе посмотрел на него, хотя на самом деле хотел и ждал, чтобы Таланцев предложил это.
– Давай карабин, к чертям собачьим! – зло заорал Таланцев.
Филиппенко молча снял с плеча карабин и протянул Таланцеву. Тот перебросил его через левое плечо, обернулся к Филиппенко и крикнул:
– Шагай за мной, тюфяк несчастный!
На ходу он изредка оглядывался. Филиппенко следовал за ним.
– Ничего,– кричал он ободряюще.– Ничего, дойдём!– А про себя думал: «Чёрт его знает, может быть, и в самом деле обессилел...» От сознания, что на него легла ответственность за более слабого, он почувствовал себя сильнее. Кроме того, он внутренне любовался собой. Как же! Помог этому «тюфяку», как теперь он про себя называл Филиппенко, и ведёт его за собой.
Они шли уже полчаса, когда Филиппенко окликнул Таланцева.
– Слышишь, отдай карабин...
– Нет! – Таланцев прибавил шагу.
– Отдай! – снова послышалось сзади.
Таланцев не ответил.
– Слышишь, отдай, говорю, карабин! – Филиппенко нагнал Таланцева и ухватился за ствол своего карабина.
– Пошёл к чёрту,– огрызнулся Таланцев и, вырвавшись, пошёл дальше. «Совесть, всё-таки, взыграла»,– подумал он.
Пройдя немного, он обернулся: у Филиппенко был такой злой, такой ненавидящий и вместе с тем обиженный взгляд, как будто его публично уличили в чём-то постыдном.
«Отдать, что ли? – подумал Таланцев.– Всё-таки пять килограммов...» И не отдал. А Филиппенко покорно шёл за ним и... молчал.
Неожиданно они увидели лыжника. Им навстречу шёл Ильин.
– Эй, вы! – кричал он.– Где пропали? Я– за вами! Тут – недалеко – привал!
ВОЙНА НЕ НУЖНА
Солдаты разбрелись по лесу в поисках сухих дров. В центре небольшой поляны, выбранной для привала, Османов, громко гукая, рубил смоляной сосновый пень, разбрызгивая по снегу жёлтые щепки. Младший сержант Дуб, сидя в стороне, дымил толстой козьей ножкой.
– Селям алейкум, Османов! – крикнул Таланцев и обернулся к Филиппенко: – Снимите шляпу, оденьте шпагу, вот вам софа,– он кивнул на поляну,– раскиньтесь на покой!
– Почему отстали? – спросил Дуб, не поворачивая головы.– За вами посылать пришлось.
– В другой раз присылайте сани с прицепом, если Филиппенко снова не будет в спортивной форме,– сказал Таланцев.
До чего же хорошо было стоять вот так, всей тяжестью тела навалясь на палки,– стоять, сознавая, что впереди – отдых, не на три, не на пять минут, а на полчаса, может быть, на целый час! Не хотелось шевелиться.
– Разложите пока костёр,– сказал Ильин. Он снял лыжи и, утопая в снегу по пояс, пошёл в лес.
– Сейчас,– сказал Таланцев, не трогаясь.– Мы сейчас.
Он присел и снял валенок. На пятке вздулся большой пузырь, наполненный светлой жидкостью.
«Вот не было печали – черти накачали»,– думал Таланцев.
Перемотав портянку и осторожно натянув валенок, он, прихрамывая, стал собирать щепки и складывать их в кучу.
Филиппенко сидел на тоненьком берёзовом пеньке, прикрыв глаза.
Таланцев долго мучился с костром. Щепки упорно не разгорались, дымили. Османов, одолевая сучковатый пень, ругался:
– Не можешь – не берись!
Младший сержант Дуб подошел к Таланцеву, когда тот, стоя на коленях, усердно дул на проклятые щепки. Дуб молча сложил дрова «колодцем», нащипал тонких лучинок, разжёг их и подложил снизу. Через несколько минут костёр запылал. Таланцев с невольным восхищением наблюдал, как ловко действовал Дуб. Младший сержант, поймав его взгляд, сказал:
– Так в Сибири костры раскладывают.
Когда солдаты, таща ветки, сучья и лохматые еловые лапы, собрались на поляне, костёр пылал вовсю, весело поплёвывая снопиками искр.
– Ташкент!—сказал Лумпиев, протягивая к огню замёрзшие руки.– Ты кое-чему научился, Таланцев...
– Где уж нам, дуракам, чай пить,—вздохнул тот...
От промёрзших бушлатов шёл пар. Тесно окружив костёр, солдаты сушили Бад огнём мокрые рукавицы. В котелках закипела вода с пшённым концентратом. Ежеминутно кто-нибудь пробовал жёсткое неразварившееся пшено. Всем хотелось есть. Все молчали, стараясь доотказа насладиться теплом костра и отдыхом. Таланцеву досталось самое неудобное место, ветер гнал на него дым, но отодвинуться он не хотел.
К нему вернулась обычная жизнерадостность, он, не умолкая, балагурил, с юмором описывая, как барахтался в снегу, скованный тяжестью плиты, как встретился с Филиппенко, и он заставил-таки заулыбаться усталые солдатские лица. Только Филиппенко сидел хмурый и делал вид, что совершенно не слушает Таланцева. А тот уже поспорил с Османовым, что знает не меньше ста анекдотов, и в доказательство тут же рассказал пять, где героями были попугаи, в том числе и тот знаменитый попугай, который постоянно кричал «попка – дурак» и был награждён за самокритичность.
Смеялись все—и Спорышев, и солдаты. И даже младший сержант Дуб,—когда понял в чём суть,– усмехнулся.
Таланцеву нравилось смешить людей. Где бы он ни появлялся,– всюду вспыхивал смех, шутки, разгоралась весёлая перебранка. Эта неистощимая весёлость не покидала его и в такие минуты, когда у других почему-нибудь падало настроение, или люди бывали слишком утомлены, и было не до смеха. Ему было приятно сознавать, что он умеет подбодрить, развеселить. Кроме того, сейчас ему хотелось доказать и Спорышеву, и Дубу, что он не Филиппенко, что ему трын-трава и мороз, и долгий марш, и плита за плечами.
К костру подошёл капитан. Солдаты подвинулись, освободили удобнее место на сваленной ели.
У него было странное лицо: на нём как будто раз навсегда застыло одно выражение. Это было лицо о чём-то глубоко задумавшегося человека с чуть тронувшей губы насмешливой улыбкой. Он был скуп в движениях и говорил с расстановкой, тщательно выговаривая слова так, что они звучали как бы отдельно друг от Друга, отчего казались особенно значительными.
– Ну, как? – спросил он, глядя в костёр. Все поняли, о чём он спрашивал.
– Трудновато спервоначалу,– сказал один солдат с простодушным курносым лицом.
– Спервоначалу? – подчеркнуто чётко выговорил капитан.—Нет, Трофимов, и потом будет трудно.
– Ноги болят от ходьбы,—пожаловался Османов.
– А как же? – задумчиво взглянув на него, сказал капитан.– Семь часов с миномётом за плечами – и чтоб ноги не заболели? Тот не солдат, у кого ноги не болят.
Все молчали, огорошенные такими словами. Они ждали другого.
– Вот так,– улыбнулся капитан.– Солдату всегда трудно. Да.– Подняв веточку, он пошевелил ею в костре – Сегодня все держали на марше себя хорошо. За исключением Филиппенко и Таланцева. Вы, товарищи, что же это? Запомните: на марше отстать, значит – пропасть. На марше отстал – задание сам не выполнил и товарищей подвёл. Вот так...
– Что же делать, – сказал Филиппенко. – Сил не хватило. Иду – чувствую,– задыхаюсь, сердце колет... Ну, остановился.
– У врача были?
– Был.
– Признан здоровым?
– Здоровым.
– Так вот: вы себя жалеете. А жалеть себя не нужно. Нужно себя беречь, а не жалеть. Ясно, товарищ Филиппенко? Вот так.
– А всё-таки странно,– не без задней мысли поддеть капитана в ответ на его насмешку над Филиппенко и – он чувствовал – над собой, обратился к нему Таланцев.– А ведь всё-таки странно: в полку пропасть всякой техники, а мы—пешим...Ни пехота, ни артиллерия. Хороши солдаты атомного века!
– Верно, почему? – поддержали его другие.– Ведь есть и у нас в батарее свои машины...
– Почему, спрашиваете? – капитан повернулся в сторону Таланцева.– Во-первых, потому, что тот, кто надеется только на технику, даже самую совершенную,– обречён на поражение. Нужны люди – выносливые, закалённые, чтобы использовать эту технику на всю мощь и суметь обороняться от неё. Во-вторых... А во-вторых,– глаза у него оживлённо блеснули,– я прошёл с миномётом всю войну. Представьте себе – лес, болото. Артиллерия в грязи завязнет, в чаще застрянет. Кто выручит пехоту? Наш миномёт. Мы со своим миномётом везде пройдём: лес – лесом, болото – болотом, горы – через горы, река – через реку. Миномёт нигде не выдаст. Мы его называли – «карельская артиллерия»...
Слушая капитана, который говорил о миномёте, как о старом, надёжном друге, солдаты и сами начинали ощущать к своему оружию особое уважение и даже нежность.
– Понятно, Таланцев, почему вас учат тому, как воевать, а не тому, как на машинах ездить? – серьёзно, без тени лукавства, спросил капитан.
Посидев ещё немного, он перешёл к другому костру – суровый, правдивый, много испытавший человек.
Таланцев сидел, не поднимая головы... Бывает же так – решительно ни в чём не везёт! Что капитан теперь думает о нём? Может быть, нужно было объяснить, что всему причина – растёртая. нога? Но командир батареи решил бы, что он ищет себе оправдания,.. Нет, правильно, что промолчал. А впрочем—что Филиппенко, что он —одно и то же... Эх, как стыдно, как скверно всё получилось!..
Каша была съедена – вкуснейшая в мире каша, пригоревшая, с запахом дыма, густо заправленная солью,– котелки ополоснуты и, наполненные водой, вновь поставлены на огонь. Тело сладко ломило от тепла, у всех развязались языки. В ожидании чая Розенблюм достал заветную пачку «Беломора», просушил её над огнём и пустил по кругу.
Спорышев напомнил Таланцеву о его новых обязанностях:
– Что нового в газете?
Из вещевого мешка Таланцев достал смятую вчерашнюю газету.
...На Ангаре строится громадная электростанция, новый отряд московских комсомольцев выехал на целину, в Крыму начался сверхранний сев яровых...
– У нас в Киеве скоро яблони зацветут,– мечтательно произнёс Розенблюм.
– А у нас в Хибинах и в июне снег выпадает,– сказал Ильин.
– В нашем Подмосковье климат самый законный,– с удовлетворением сообщил рослый солдат, подбрасывавший в костёр еловые ветки.– Зимой – холодно, летом – жарко...
И всем им, сидевшим у костра в заметённой снегами Карелии, вспомнились родные места, и каждый знал наверняка, что то место, где он жил,– самое лучшее.
...Западная Германия создаёт двухмиллионную армию... Эйзенхауэр бросил седьмой американский флот в Тайваньский пролив... Английский учёный высказался против применения водородной бомбы...Таланцев прервал чтение.
– Ну, дальше,– попросил кто-то.
– Знаете...– Таландев обвёл всех широко раскрытыми глазами.– Я сейчас подумал: что, если всё будет так же, как сейчас – и лес, и снег, и костёр – только не на учениях, а на самом деле? Понимаете, мне вдруг показалось...
Все молчали. Османов, уставясь на огонь, проговорил:
– Неужели будет война?
– У меня во время войны дом сожгли и отца повесили,– неожиданно обронил Дуб – Маленьким тогда я был пацанёнком, лет шести...
Все чувствуют: слова утешения тут не уместны. Но всем жаль Дуба. И солдатам кажется: перед ними – не младший сержант Дуб, которого не любят •и боятся,– перед ними мальчик. Он пронзительно кричит, уткнувшись в колени матери, а на.площади ветер раскачивает тело в петле...
Что-то хочется сказать, но обычные слова кажутся мелкими. И всё же кто-то задает ненужный вопрос:
– Это – где?
– На Смоленщине...
...Неужели будет война?
– Эх, братцы! – говорит солдат с весёлыми зелёными глазами.– Будь моя воля, собрал бы я всех, у кого руки чешутся, отвёз на необитаемый остров, дал бы автоматы, патронов: чёрт с вами, воюйте, сволочи, между собой сколько влезет – только перебейте друг друга поскорее...
– Таких, у кого руки чешутся, немного.
– Мал комар, да ведь полез в драку с медведем...
– А по-моему, войны не будет,– говорит Розенблюм.
– Ещё бы,– иронизирует Таланцев,– иначе создание гениальных произведений кисти Розенблюма придётся отложить на неопределённое время.
– Что же в этом смешного? – обижается Розенблюм.– Я, может, после армии в академию поступлю.
– Тогда не забудьте о солдатах,– замечает сержант Спорышев,
– Что вы! – восклицает Розенблюм, сверкая загоревшимися чёрными глазами.
– Даю тебе ценный совет, товарищ Верещагин,– усмехается Таланцев,– в следующий поход прихватить альбом для эскизов: богатейший материал! А то и полотно – будешь работать на привалах и отсылать картины в Третьяковку.
Все улыбаются, и сам Розенблюм тоже.
– А я, ребята, как вернусь на гражданку – махну на целину: корешок у меня там работает,– говорит солдат, которому так по нраву климат Подмосковья.
– А я – к себе, на Кольский,– вздыхает Ильин.– Снова рюкзак, молоток – и в горы. Эх, если бы вы знали, какая это чудесная штука – геология!
– А ты куда? – обращается один из солдат к Таланцеву.
Вопрос застаёт его явно врасплох.
– Не знаю,– отвечает он.
– Как же так – неужели не знаешь? – удивляется Османов.
– Ничего, ещё есть время подумать,– усмехается Ильин, а про себя думает: «Странный парень этот Таланцев. Что у него на душе? Какое у него прошлое?.. Знаю – из Москвы, учился в институте, и всё, пожалуй...»
– Я вот думаю,—говорит Таланцев:– Матросов, Гастелло... Ну, были люди, как люди, как все мы, имели хорошие и дурные качества характера,– ведь идеальных людей нет... И вот – совершили подвиг.
А я – смог бы? – Он вынул из костра уголёк, быстро сжал его в кулаке и сейчас же далеко отбросил, замахав рукой в воздухе.– Вот,– сказал он,– не сумел уголёк в руке удержать, а там – жгли раскалённым железом. И – выдерживали...
– Волю надо не так испытывать, – возразил Спорышев.– Скажем, приказал себе идти на марше, не отставая, и идёшь. А уголёк – чепуха...
Привал кончился. Костёр забросали снегом. Построились. Раздалась команда, и батарея снова двинулась в путь.