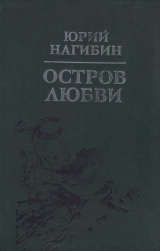
Текст книги "Беглец"
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
7
…А мог он вовсе не тревожиться и не бежать из Москвы – Феодосия попала в руки атамана Кирьяка, промышлявшего разбоем на нижней Волге.
Случилось это так. Из Астрахани купеческий караван отплыл погожим утром, под сулящий удачу и радость благовест колоколов. Шли ровно и ходко, держа в парусах тугой юго-западный ветер. Феодосия сроду не плавала по реке, даже в лодке, она, наслаждалась путешествием, открывающимися окрест видами бескрайних, плоских земель, песчаных, поросших колючим кустарником и нежными блеклыми цветами островов, всеми малыми подробностями речной жизни. Ей нравились ее хозяева: степенные, пожилые купцы, относившиеся к спутнице сочувственно, но без обидной жалости, приглашавшие к обеду со стерляжьей ухой, свежей икрой, рыбными пирогами и солониной. Нравилась корабельная команда: веселые, по-кошачьи ловкие, дочерна загорелые парни. Все было любо Феодосии до умиления, и верилось, что отыщет она мужа и навсегда воссоединится с ним.
Но уже в Саратове путников подстерегала беда. Здесь они должны были пересесть на подводы и в сопровождении небольшого конвоя наезженным трактом двинуться в Москву, но им не дали сойти на берег. В Астрахани началась чума, известие о которой успело их опередить. Тщетно пытались купцы сговориться с пристанским начальством, сулили щедрую мзду, те и слышать ни о чем не хотели. Добиться встречи с городскими властями, авось окажутся посговорчивей, тоже не удалось, видать, отменно строги были распоряжения насчет приезжих из пораженного страшной заразой города, если не сработал самый верный ключ, отмыкающий на Руси все двери: взятка.
Делать было нечего: отвалили от Саратова и пошли дальше вверх по реке. В Вольске, от которого шла проезжая дорога к Московскому тракту, пристали. Никто не препятствовал высадке. До Саратова страшная новость стрелой домчалась, а до этого заштатного городишки еще не доползла. Единственно, что удивило местных людей, на кой ляд понадобилось купцам так удлинять и затруднять себе путь – из Саратова ближе, да и дорога лучше. Но самый почтенный из купцов, седобородый и черноглазый Емельян Исаев, похожий повадкой на боярина, а не на торгового гостя, важно пояснил, что на саратовском тракте «балуют», что звучало вполне правдоподобно по тем тревожным временам, наступившим после смерти царя Петра. Правда, случившийся при разговоре Вольский перевозчик заметил, что балуют, и весьма шибко, как раз в их местах, на него накинулись с бранью и угрозами и прогнали прочь. Местным деловым людям появление богатых астраханских купцов было что богов гостинец. Купцам требовались подводы, лошади и мужики для охраны, на оплату не скупились, ибо проволочка была им куда накладнее.
А что бы им послушать пьяненького перевозчика! Небось многим вспомнились его слова в глухом Труновском лесу, когда первые звезды проклюнули по-дневному голубое легкое небо над кронами старых рослых деревьев и острый свист распорол тишину, грянул выстрел, пыхнув оранжевым пламенем, и дымная селитряная вонь заглушила горьковатый запах леса. Мгновенно, будто того и ждала, рассеялась, сгинула охрана. Темноликие бородатые мужики выскочили из-за деревьев и стали валить наземь не помышлявших о сопротивлении возчиков и сбрасывать с возов товары.
Феодосия сидела в задней телеге и наблюдала происходящее, словно представление в ярмарочном балагане. Страшное представление. Она видела, как взвел курок пистоли отважный Емельян Исаев, но выстрелить не успел, порубленный поперек головы саблей огромного лохматого детины в кумачовой рубахе; как порубил тот же детина павшего на колени дряхлого, с голым скопческим лицом купца Чурикова, как был застрелен из мушкета богобоязненный рыбник Муханов, первый в Астрахани жертвователь на святые храмы. А потом лохматый разбойник приметил ее, сдернул с воза, обдав острым, лисьим запахом. Совсем близко она увидела его взболтанные, тухлые глаза и потеряла сознание. Много позже, очнувшись в темной горенке, на деревянной лавке, приткнутой в угол, под слабо мерцающей лампадкой, узнала Феодосия от хозяйки избы, сухонькой быстроглазой старушки, что вызволил ее из лап лохматого разбойника атаман Кирьяк. «Счастье твое, девонька, что успел Кирьяк в лицо тебе глянуть, – говорила старуха певучим голосом сказительницы, – и пленился тобой. Нельзя к Семушке подступать, когда он распалимшись. Не то что старшого, родную мать прикончит. Ужасной лютости человек. Другие мужики убивают по крайней надобности, Кирьяк, хоть дюжее всех, только в схватке, а Семушка наслаждается, кровя спуская. Кирьяк, как тур, здоровый и, как ласка, верткий, а крепко ему от Семушки досталось, покамест его скрутил. Сейчас весь перевязанный в соседней избе лежит». – «А Семушка?» – зачем-то спросила Феодосия. «Успокоился, водку глушит на радостях, что богатую добычу взяли». – «И ему ничего не будет?» – «А что ему может быть? Он в своем праве. Мог тебя себе взять, мог срубить – вольному воля. Это Кирьяк, девушка, против обычая пошел». – «Я не девушка, а мужняя жена», – поправила Феодосия. «Была, – холодно сказала старуха, – Муженек твой в лесу остался». – «Да что ты, бабушка, там старцы полегли, а у меня муж молодой, в Москве живет». – «Вон что! – удивилась старуха. – Значит, ты не купецкая жена? Наши купцов не больно жалуют». – «Я сторожева дочь, а муж – семинарист, – сообщила о себе Феодосия. – Бабушка, а куда меня привезли?» – «В избу, нешто не видишь? А изба посередь деревеньки стоит. А деревенька – посередь России. Махонькая такая деревенька, пять домов. Мором весь народ извело, сюда ни баре, ни власти носа не кажут, вот наши и отдыхают от трудов своих». Феодосию удивило, что старуха говорит о разбойниках-душегубах, как о самых обычных мужиках, молено подумать, что они с косовицы вернулись, а не с лютого дела. «Бабушка, скажи, милая, коли я не купеческая, а самого простого роду, отпустят меня отсюда?» – «Это, милка, не мне знать», – поджала губы старуха…
8
…Василий Кириллович поздно вечером шел по «веселому» кварталу, как любовно называли моряки, а вслед за ними, но презрительно, и городские обыватели припортовую часть города. Здесь чуть не в каждом доме располагалась австерия, здесь обитали доступные – только не для пустого кошелька Василия Кирилловича – нестерпимой красоты девицы, сдавались комнаты и углы на ночь, на час, гремела допоздна музыка, и гирляндами висели разноцветные фонарики, отражаясь в темной мусорной воде каналов, обсаженных толстоствольными кургузыми ивами. Василий Кириллович редко захаживал сюда, как по отсутствии вкуса к подобного рода увеселениям, так и по отсутствию денег, зато не вылезал его питомец, совсем отбившийся от рук. Василий Кириллович уже не пытался вытаскивать будущего кораблестроителя из питейных заведений и от девок, да это и не входило в его обязанности. А дядька, сам приверженный к вину сверх меры, считал, что барчук ведет себя как и подобает русской дворянской юности. «Успеет еще головку перетрудить, пусть дитя тешится, покуда кровь играет и волос кольцами вьется. Наши шляхтичи от роду к тому приучены, а вон какую державу собрали. У нас в любой губернии десять Голландии поместится, хушь эти буи голландские примерного поведения и всю арихметику наскрозь знают». Против этого нечего было возразить, да и что ему до молодого жеребчика? Но была в характере Василия Кирилловича назойливая любовь к порядку, отдающая педантизмом, да и жаль ему было времени, без толка и смысла утекающего меж пальцев молодого человека. В Голландии можно было купить любую книгу – хоть французскую, хоть английскую, хоть немецкую, все, что сочинители не могли или опасались издать в собственной стране, беспрепятственно издавалось в Голландии, иногда под вымышленным именем. Нигде в Европе не было такой свободы, как в этой стране, свергшей испанское владычество и ненавидящей всякое насилие над человеческой личностью, угнетение мысли и духа.
И все же Василий Кириллович не испытывал полного удовлетворения от здешней жизни, и отнюдь не по причине юного Бурнашева. Здесь по-настоящему хорошо было практикам: кораблестроителям, механикам, плотникам, мореходам, негоциантам, всякого рода предпринимателям и ученым точного знания. Духовным средоточием Европы оставался Париж. Оттуда шло все, чем вознесен человеческий дух: философские мысли, торжественные, строгие, игривые и пленительные поэтические образы, новые стройные литературные системы.
Василий Кириллович тихо брел вдоль канала, глядя, как ложатся на расцвеченную фонариками воду узкие листья ив и, подгоняемые ветром, лодочками плывут к морю; из дверей австерий ударяла музыка, слышался женский смех, хриплая ругань, хмельные песни, и грустно делалось от безнадежной чуждости этой жизни. Он и сам не знал, что его сюда привело, во всяком случае, не беспокойство за юного Бурнашева. Василий Кириллович плохо знал город, не доверял ему, а в поздние часы так и побаивался: слишком много грубой матросни, возбужденной разноязычной речи, пьяных бородатых рож, татуированной кожи, бесстыдных, назойливых нищих и страшноватых в своем бесцеремонном напоре слепцов, казалось, лишь они одни точно знают свою цель.
Но сейчас тут было непривычно пустынно: порок и веселие не любят осени и с первым дуновением холодного ветра прячутся под крыши, к огню очага, над которым подогревается ячменное пиво.
Рассеянный взгляд Василия Кирилловича обнаружил, что у него две тени. Одна, постоянная, сильно вытянутая, бежала справа, простираясь через каменную мостовую, заворачивалась на стены домов; слабая и нечеткая, она была рождена полной луной. Другая, более плотная, темная и короткая, скользила слева, она возникала за его спиной, равнялась с ним, выбегала вперед, и тут ее как слизывало, затем она вновь оказывалась сзади. Эту тень создавали фонари. Вдруг он увидел еще одну тень – тоже слева, в стороне канала, но эта тень не обгоняла его, а держалась чуть позади, узенькая, маленькая, будто и не его вовсе. Но вот он ее потерял, верно, то была тень другого человека, который отстал или свернул к решетке канала, но деликатная тень возникла снова, и он с ужасом понял, что это тень женщины. Феодосия выследила его, да это и нетрудно, ведь он раззвонил по всей академии, что отправляется с Бурнашевым в Голландию. Почему-то он был уверен, дурак несчастный, что Феодосия не отважится ехать за ним в чужие края. Как будто существуют препятствия для ее цепкой любви. И вот она его настигла. Боже, какой прекрасной показалась ему здешняя жизнь, и он еще смел жаловаться! Теперь этой жизни конец, им тут не прокормиться вдвоем. Значит, назад, в Москву, или того хуже – в Астрахань… И, уже желая приблизить мгновение, страшное, как смерть, Тредиаковский резко обернулся, и взгляд его рухнул в пустоту. Маленькая тень, будто свернувшись в клубочек, лежала у его ног, то была его собственная – третья тень, наверное, от освещенных окон верхних этажей. Спасибо, господи, ты опять помиловал меня! И все ж это следует считать предостережением, Феодосия может нагрянуть в любой день, спасение, только в бегстве. И на другой день он бежал с краюхой хлеба и десятком книг в заплечном мешочке…
Если бы Василий Кириллович лучше представлял, какое ему предстоит путешествие, он, возможно, остался бы в Голландии несмотря на весь риск быть настигнутым женой. Пускаясь в свой многодневный путь без гроша медного в кармане, он утешал себя мыслью, что мир не без добрых людей, авось просуществует Христа ради. Но, едва покинув пределы Голландии, он оказался в опустошенной бесконечной войнами стране. Нищета горестной Фландрии едва ли не превосходила разор незаможних российских деревень в пору неурожаев, но русская нищета добра и милосердна, для путника даже в самой бедной крестьянской семье всегда найдется кусок хлеба, миска тюри, крапивных щей или мятой картошки с луком, ну, хоть кваском дадут нутро ополоснуть, от здешних людей этого не дождешься; угрюмые, ожесточившиеся, они или молча отворачивались, или злобно гнали прочь. Не то что в дом, в сарай на ночь не пускали. Возможно, они были снисходительнее к собственный нищим, но побирушка-иноземец приводил их в ярость. Они так натерпелись от испанских, французских солдат, немецких я швейцарских наемников, что каждый чужестранец представлялся им лютым врагом.
Василий Кириллович жрал траву, кислые ягоды, гниловатые лесные орехи, какие-то грибы, вытрушивал зерно из оставшихся на полях колосьев; он продал камзол, кафтан, потом шляпу, заменив ее пиратским платком, расстался с обручальным кольцом и нательным крестиком, сменил туфли с пряжками на деревянные сабо, но вырученные деньги лишь частично расходовал из еду, большей частью расплачивался за проезд на попутных телегах, бричках, фурах. Лучше перетерпеть голод, да скорее добраться. Он не заметил, как въехали во Францию. И внешне ничего не изменилось: тот же разор, погорелье, те же угрюмые лица и нищета. Ближе к Парижу картина изменилась: меньше стало военных, целее города и села, приветливей народ. Но Василий Кириллович, утративший доверие к братьям в человечестве, обходился своей немочью.
Однажды утром слуги русского посла князя Куракина обнаружили у порога посольского дома живые мощи: чудовищно исхудалый, черный от солнца и грязи, обросший бородой человек спал, положив голову на каменный порог. Когда его растолкали, он зашевелился, задергался, хотел встать, но не смог, из пересохшего рта вырывались жалобные звуки, в которых с трудом угадывалась русская речь. Его подняли, отнесли в дом, отмыли в чане, накормили, заставили выпить большую рюмку водки с солью и перцем. Сам князь Куракин пожелал его видеть.
Оборванца под руки отвели к послу. Он упал кучей тряпья к ногам вельможи, назвал себя и попросил не гнать прочь.
Князь Куракин был настолько знатен, богат и силен при дворе, что признавал себе равными лишь немногих избранных, ведущих род от варяжских князей, к тому же сохранивших состояние. Остальные, без различия титулов, званий, чинов, занимаемого положения, зачислялись во «всякую сволочь», в чем сказывался своеобразный демократизм князя: разорившийся представитель древнего рода Оболенских, петровская «знать», богач-купчина, мастеровой или цирульник были равны перед его презрением. Но среди «всякой сволочи» князь выделял людей одаренных, знающих и чудаковатых. Зашелец – проницательный дипломат понял сразу – совмещал в себе все эти качества: несмотря на молодость, то было зело образованный, думающий человек с божьей искрой, к тому же чудак из чудаков. Судьба Тредиаковского была решена. Ему не только оказали приют, дали одежду и установили содержание, князь снизошел до обсуждения с ним его ученых занятий, посоветовал, какие лекции стоит послушать в Сорбонне и у каких профессоров, кого из «мэтров» надо избегать – схоласты, педанты, ослиные уши, какие посмотреть спектакли в «Комеди франсез» и у итальянцев, с какими достопримечательностями познакомиться. Князь разрешил Тредиаковскому неограниченно пользоваться своей уникальной библиотекой, Василий Кириллович не выдержал, заплакал и хотел поцеловать князю руку, но тот не позволил…
9
…Остаток лета, всю осень и зиму Феодосия недужила. То металась в жару, не узнавая своей хозяйки, не помня, где она и что с ней, то, оплывая от слабости, сидела у окошка, глядевшего на скучную околицу с огромной лужей, задернувшейся после первых заморозков сахарным ледком, потом промерзшей до земли и тускло исчерна позеленевшей и наконец скрывшейся, как и все в просторе, под толстым снегом. Бабушка Акулина говорила, что такой снежной зимы сроду не бывало в здешних краях. Болезнь замечательно скрадывает время. Феодосия, переходившая от забытья к призрачной полуяви, не замечала, как летят дни, недели, месяцы. Придя окончательно в память, она стала привыкать к своей новой слабости, училась ходить, держать ложку, глотать какую-то жидкую пищу, пить горькие травяные отвары и удерживать их в себе. Когда же повеяло весной, она стала крепнуть ото дня ко дню, даже Акулина удивлялась, до чего быстро наливалось силой совсем было отошедшее в иные пределы существо.
Теперь Феодосии казалось, что болезнь она сама себе надумала, чтобы не умереть от горя и разочарования. В душу запали слова Акулины «Кирьяк в лицо тебе заглянул». Она хорошо понимала, что это значит: прельстившись ею, Кирьяк пошел против устава шайки, отнял добычу у товарища и поплатился за это кровью. Тем он как бы обрел права на нее. Кирьяк тоже долго отлеживался, гноилась, не заживала рана. С перевязанной рукой заходил к ним в избу, молча смотрел на нее. Его угрюмое заросшее лицо с небольшими светло-серыми пытливыми глазами почему-то не пугало. Он что-то говорил Акулине вполголоса и уходил. Больше никто в избе не появлялся, видать, Кирьяк запретил. Только дюжая баба, не переступавшая порога горницы, приносила время от времени дрова, муку в мешках, свиное сало да свежую убоинку.
А разбойников Феодосия наблюдала в окошко. И странно ей было, что она, под стать бабке Акулине, уже не могла относиться к ним как к душегубам-кровохлебам, несмотря на все виденное в лесу. Она знала, кровь лакома одному Семушке, другие никакой себе радости в убийстве не находят. Это были обычные деревенские мужики, придавленные вечной заботой, непосильным трудом, страхом перед завтрашним днем. Разбойничья жизнь мало походила на ту, что изображалась в песнях. Там – отважные схватки, золото, жемчуг, драгоценные каменья да соболя, прекрасные девы, влюбляющиеся без памяти в забубённых молодцов. А здесь – тащись что ни день, в дождь, ветер, пронизывающий холод, когда зуб на зуб не попадает и не удержать ружья в окоченевших, с распухшими суставами руках, в засаду, заранее зная, что ничего там не высидишь, кроме боли в груди и пояснице. Удача с купеческим обозом была единственной за все лето. Осенью маленько поправили дела за счет бегущих от чумы богатых астраханцев, но большинство шло водным путем на Самару и выше. Кирьяк похвалялся, что весной он захватит суда и пойдет озоровать по Волге, как приснопамятный Степан Тимофеевич. Конечно, то было пустое бахвальство, сил у Кирьяка не хватало, потому и действовали в захолустье, а не на добычливом московско-саратовском тракте, где преуспевали другие шайки. В начале зимы на свежей санной дороге захватили крестьянский обоз, везший оброк барину в Борисоглебск, да невелика разжива: битая птица, мороженая телячья туша, с десяток поросят, бочки с соленьями и моченьями, тощий кошелек денег.
В то смятенное время разбой на Руси достиг степеней чрезвычайных. Насылаемые изредка слабые правительственные отряды особого рвения не проявляли. Тем более что и разбойники не лезли на рожон, сразу скрывались в лесах, позволяя командиру карателей послать начальству победную реляцию: шайка рассеяна, порядок восстановлен. Отряд с барабанным боем тащился обратно, пыля пересохшей землей, а разбойники, покинув укрытия, опять подвигались к проезжим дорогам.
Хотя злата и соболей в отряде Кирьяка не видывали, но концы с концами сводили, и семейные разбойники – почти вся шайка была из местных – отсылали либо сами отвозили домой кое-какое вспомоществование. Разбой был чем-то вроде отхожего промысла: как в иных деревнях мужики, взамен хлебопашества, занимаются извозом, плотничают или катают валенки, прислуживают в трактирах или банях, торгуют на городских рынках сбитнем или пирогами с собачиной, так здешние крестьяне уходили со своих неродящих, сухих, обдутых горячим ветром полей на разбойный промысел. Было тут немало и людей обиженных. У Кирьяка барин молодую жену снасильничал, она руки на себя наложила. Кирьяк того барина задушил, а сам в лес подался. У Богуна, правой руки атамана, с барыней счет вышел. По ее приказу его подвешивали голого на конюшне и секли вожжами, а барыня смотрела, кивая головой, будто отсчитывала удары, после начинала стонать и корчиться, только не от жалости, а от какой-то внутренней сласти. Богун в свой черед подвесил нагую барыню к той же стрехе и отодрал вожжами так, что кожа с нее, как со змеи, лоскутьями сползала. Другие мужики ударились в бегство от меньших обид, от разора, голода, были и погорельцы и, конечно, сбившиеся с пути, Макары, не помнящие родства, вроде Семушки. Иные мужики на пахоту, сенокос уходили в свои деревни подсобить родителям или женам, но большая часть держалась прочно стаей.
Отболев, Феодосия почти вернула себе тот бодрый покой, какой ею владел некогда в Астрахани. Да, ей не удалось достигнуть мужа с первой попытки, человек предполагает, а господь бог располагает. Положен ей новый искус, но она выдержит, сдюжит и отыщет своего ненаглядного. Она потеряла много времени, лишилась скромных гостинцев, которые везла мужу, денег, – видать, Акулина нащупала в юбке и выпорола оттуда, но стала немного ближе к цели. Теперь у нее одна задача: вырваться от разбойников. Кто знает, какие ей еще предстоят испытания, какие выпадут беды, страхи, искушения, тягости, она должна все одолеть, где терпением взять, где отвагой, где хитростью – птицей пролететь, зверем порскнуть, рыбой скользнуть, змеей проползти, а до Москвы добраться.
Значит, надо держать себя в руках, приглядываться, прислушиваться и побольше пытать словоохотливую Акулину, чтобы вызнать все нужное для побега.
Вскоре Феодосия с досадой обнаружила, что речистая бабушка ровным счетом ни в чем не проговаривается. Она прямо-таки засыпала Феодосию всякими сведениями о разбойниках, об их характерах, повадках, жизненных обстоятельствах, об удачных и неудачных набегах на барские усадьбы, о стычках с солдатами, о разных лихих и лютых делах, но все это происходило в какой-то смутной дали и смутном времени, будто за краем земли при царе Горохе. Как ни подъезжала к старухе Феодосия, она так и не смогла из нее вытянуть, где находится их деревенька, какие сюда и отсюда дороги ведут, в какой стороне осталась Волга, есть ли поблизости городишко или крупный поселок. Старуха, не отводя незабудковых, чистых, как у младенца, глаз, начинала плести несусветную чушь, и Феодосия запирала в себе слух. Добрая бабушка Акулина была настоящая разбойничья ведьма: умная, хитрющая и неумолимая: ее жги – не проговорится.
Феодосии казалось, что бабушка Акулина исподтишка присматривает за каждым ее шагом. Она решила ее испытать. Разбойники были на деле, немногие обитавшие в деревне женщины возились в огородах, бабушка Акулина перебирала картошку в подполе, когда Феодосия, откинув щеколду, впервые вышла на улицу. Никого, только куры бродят. Феодосия миновала околицу и двинулась по большаку, обходя огромные, кишмя кишевшие головастиками весенние лужи. Ее отвыкшие от ходьбы ноги крепли с каждым шагом, чистый полевой воздух распахивал грудь. Феодосия оглянулась, никто за ней не следил. Даже настырная Акулина не всполошилась. Едва ли она доверяла пленнице, скорее рассчитывала на ее слабость. Феодосия не стала злоупотреблять терпением своей стражницы и вернулась домой.
– Как хорошо в поле-то! – сказала она Акулине.
– Одевайся потепше, – заботливо посоветовала та. – Не ровен час опять свалишься, Кирьяк мне голову скусит.
Бабушка частенько подчеркивала и свою особую ответственность за Феодосию, и попечение атамана Кирьяка. Феодосия холодела, догадываясь о смысле этих намеков, но сейчас в ней проснулась злость. «И хорошо бы скусил!» – «Так-то ты меня благодаришь? – слезливо завела старуха. – Я ли тебя не выхаживала, ночей не спала!..» – «Тоже мне благодетельница!.. И не лезь ты со своим Кирьяком». – «Это почему же? Он мужик правильный, справедливый…» – «Лыцарь с большой дороги», – перебила Феодосия. «Не шути так, деушка, Кирьяк добрый, добрый, а осерчает – беда». – «Вот то-то и оно! И хватит меня девушкой звать, сколько раз говорила. Я мужняя Жена». Акулина отвернулась, проворчав что-то скверное, Феодосии послышалось: «Кирьяк тебя живо от брачных уз ослобонит».
Теперь она каждый день совершала все более дальние прогулки, приучая себя к долгой, быстрой ходьбе. И когда бабушка Акулина как-то отлучилась со двора, Феодосия сунула под ту шматок сала, ржаную лепешку и припустила по знакомой дороге.
Версты через две или чуть поболее дорога свернула в лес, что было на руку Феодосии, теперь ее не углядеть из деревни. Дорога не была ни наезженной, ни нахоженной, и все же сквозь гривку весенней травы отчетливо проступали тележные колеи, значит, дорога куда-то вела, ею пользовались. Феодосия вспомнила про разбойников: что, если она столкнется с возвращающейся шайкой? Но как ни бесшумно передвигаются лесные люди, у них подводы, лошади, всякое снаряжение, она услышит их загодя и юркнет в чащу. Лес был тих и спокоен, и бдительные его стражи-сойки нежили под солнцем свое яркое оперение. Перепархивали с сухим стрекозьим шорохом мелкие птички, дятел ожесточенно долбил березу, взбалтывая свой бедный мозг в маленькой красной голове, грустно и редко, будто не доверяя самой себе, куковала кукушка. Феодосия не отважилась спросить кукушку, сколько лет ей осталось жить, голос птицы был затухающе слаб, а ей надо было жить долго-долго, чтобы наверстать все потерянные для любви годы со своим единственным.
Чем дальше углублялась она в густеющий лес, тем становилось жарче и душнее. Но из-под старых деревьев, приютивших густую тень, наддавало сыроватой прохладой. Кисленько пахли ландыши. Обок с дорогой желтели одуванчики и синели стройные живучки. Феодосии захотелось сплести венок, даже кончики пальцев защекотало, так не терпелось им коснуться тонких тел цветов. Она едва одолела искушение: надо засветло добраться до какой-нибудь деревни, ночевать в лесу страшно и холодно, опять лихоманка скрутит. Дорога уверенно тянула через лес, порой огибая какую-то мокрую балку или овражек, курящийся белым черемуховым дымом, и вышла к неглубокому, довольно широкому ручью в низких, поросших лезвистой травой берегах. Феодосия поглядела за ручей на толстые бурые мхи, сквозь которые пробивались хвощи, и не увидела дороги. Поразмыслив и погадав, она пошла влево вдоль воды и вскоре обнаружила дорогу, петляющую по берегу и постепенно отклоняющуюся от ручья. Феодосия озадачилась – дорога вроде бы поворачивалась вспять. Да нет, тут нарочно понапутано, чтобы сбить с толка чужака, по злому умыслу, а хоть бы и ненароком забредшего в заповедный край лесной вольницы.
Она пошла по четко обозначившимся колеям и уже в сумерках, натерпевшись страха, оказалась на краю поляны, прямо против деревни, странно тихой и безлюдной, вроде бы брошенной. А хоть бы и так! Она переночует в первом попавшемся доме, а утром пойдет дальше. Тут она увидела у крыльца крайней избы старушечью фигуру. Феодосия поспешила туда, и противная слабость в коленях чуть не повергла ее наземь.
– Набегалась? – ворчливо сказала бабушка Акулина. – Иди вечерять-то, второй раз самовар грею.
Теперь Феодосия поняла, почему ее не стерегут и позволяют ходить где заблагорассудится. И все-таки дорога, настоящая дорога, которая выводит из этой западни, где-то должна быть. Ведь не по воздуху уходила и возвращалась шайка, да и прежние насельники деревни как-то сообщались с миром. Может, надо было пойти по ручью в другую сторону или перейти его вброд и там, на толстом мшанике, отыскать вмятины от тележных колес. Все дороги куда-то ведут, значит, и эта дорога, как бы ни запутывали ее ленту боящиеся преследования люди, имеет настоящее направление, надо только суметь распутать узлы. Сразу ничего не дается, но сегодня она стала чуть ближе к избавлению. А главное, ей нечего таиться, Акулина настолько уверена, что отсюда не уйти, что предоставляет ей полную свободу.
И на другой день Феодосия на глазах Акулины снова пустилась в путь. Все было по-вчерашнему: сойки, дятел, мелкие пичужки, кукушки, только одуванчики успели превратиться в пушистые шары. Достигнув ручья, она пошла в другом направлении, продираясь сквозь таволгу и цветущую крапиву. Шла она долго, острекалась, устала и хотела уже повернуть назад и тут увидела на другом берегу ручья, на песчаном зализе полнящиеся водой колесные следы. Разувшись, она перебралась на тот берег по обжигающе студеной воде, растерла замлевшие ноги, натянула сапожки, но сажен через пятьдесят пришлось опять разуваться – перед ней снова оказалась вода. Был ли это тот же ручей, петляющий заячьей цепочкой, или другой – понять нельзя. Дальше дорога пошла сухой, прямой, как стрела просекой, по которой во всю длину простерся солнечный луч. В его перехвате тусклое оперение сновавших над просекой дроздов загоралось фазаньими красками, и как будто лопались серебристые шарики, это вспыхивала в луче светлая роговица летучих жучков. И Феодосию объял этот луч, она поплыла по его клубящемуся лесной пыльцой сиянию и приплыла прямо на зады деревни. У плетня поджидала бабушка Акулина.
– Набегалась? – добродушно спросила старушка. – А я тебе кулеш молочный сварила.
Не кричать, не плакать, не валиться наземь, внушала себе Феодосия. Я стала еще ближе к Василию, ближе на эту проклятую обманную дорогу, которой мне все равно было не миновать, И может, их тут много, таких дорог, но одна все-таки окажется настоящей и выведет меня на волю. Завтра я опять пойду… Но завтра у нее не оказалось, ночью явился человек от Кирьяка и велел всем уходить в лес. Приближался карательный отряд.
Как ни ослабила смерть Петра государственный аппарат, пущенные им колеса все-таки вертелись, и власть себя охраняла. Бессильная во всем другом, она не вовсе разучилась преследовать и карать. Уходящие лесом разбойничьи женки, а равно и Феодосия с Акулиной видели в разрывах чащи черный недвижимый дым, шапкой накрывший спаленную карателями деревеньку.








