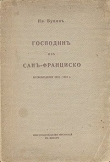Текст книги "Перед твоим престолом"
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
На другой день один из постоянных клиентов Швальбе, войдя в незапертый и словно брошенный дом, обнаружил в спальне сияющий всеми цветами радуги труп. Он с воем выскочил на улицу. Ни один пасюк не был расцвечен так щедро и ярко, как почтенный синдик, – Марихен расстаралась для бывшего любовника. Не будь Швальбе таким богатым человеком, ему наверняка отказали бы в церковном погребении, тут крепко припахивало нечистой силой. Но он оставил после себя много всякого добра: земель, недвижимого и движимого имущества, товаров (наличных денег, ко всеобщему удивлению, не оказалось), и само богатство свидетельствовало о праведности господина Швальбе. Позвали цирюльника, под его мазями, помадой, пудрой исчезли разноцветные полосы, вот только легкого свечения не удалось погасить, его щедро приравняли к таким явлениям святости, как нимб. Отпевали Швальбе в Томаскирхе, но не Бах управлял хором, он в это время находился в Потсдаме, у короля Пруссии…
* * *
Давно уже Эммануил, второй по старшинству, но первый по разумности, солидности и положительности сын Баха, связал свои жизненные надежды с Фридрихом Прусским. Он поступил к нему на службу аккомпаниатором («Флейтист-поэт» – называли Фридриха при дворах европейских монархов), когда тот был еще крон-принцем, нелюбимым, жестоко притесняемым, даже не раз публично битым по щекам своим отцом Фридрихом-Вильгельмом I. Скромный аккомпаниатор терпеливо делил все невзгоды, выпадавшие на долю его господина. Безупречная преданность, была вознаграждена. Когда Фридрих вступил на престол, Эммануил стал, по существу, директором всей дворцовой музыки и доверенным лицом государя. В эту счастливую пору отец гостил у него в Берлине, и Эммануил загорелся желанием свести его с королем. Бах, посмеиваясь, отказывался. Зачем ему это надо: он носит звание придворного композитора курфюрста саксонского Августа и не собирается менять покровителя.
– Об этом и речи нет, – настаивал Эммануил. – Но почему бы не иметь в запасе прусского короля?
– Я боюсь Гогенцоллернов. Они властолюбивы, воинственны, грубы и бесцеремонны.
– Только не Фридрих! Да и какой он Гогенцоллерн? – Эммануил понизил голос до шепота, хотя разговор происходил в его доме при закрытых дверях. – Ты же знаешь, отец не признавал его… Но независимо от этого – он весь в мать. Настоящий гвельф, чистый ганноверский тип. А все гвельфы любят искусства и науки. Генрих Лев покровительствовал поэтам, Антон-Ульрих сочинял церковные песни, весьма изрядные, и романы, довольно скучные. Сам Фридрих обожает флейту.
– Но еще больше, я слышал, он обожает лошадей, и еще больше – военные походы. Не успел вступить на престол, а уже напал на Силезию.
– Сами виноваты!..
– Вот-вот. Ты настоящий придворный, сын мой, оправдываешь любой поступок своего государя. Интересно, что ты скажешь, когда он нападет на Саксонию?
– Этому не бывать! – пылко вскричал Эммануил. – Ты просто дразнишь меня, отец.
– Ничуть. Помяни мое слово. И как я тогда буду выглядеть в глазах курфюрста Августа?
Поистине в воду глядел Иоганн Себастьян. Через четыре года после этого разговора прусские полки вторглись в Саксонию, зажгли Лейпциг. А еще через два года Бах отправился в Потсдам. Фридрих II стал уже тем государем, чьим приглашением не пренебрегают. Бах мог сколько угодно твердить Анне Магдалене и домашним, что едет познакомиться с женой сына и покачать колыбельку внука, он ехал потому, что прусский король обмолвился о своем желании видеть «старого Баха». А если б он посмел заглянуть в себя еще глубже, то обнаружил бы, что связывает с этой поездкой некоторые тайны-надежды. Заброшенное в него синдиком Швальбе не изжило себя в первом жестоком разочаровании. Пусть Швальбе оказался жадным ничтожеством, разбуженные им мысли и чувства этим не обесценивались, и тревога за будущее своих детищ проросла в кровь Баха. Было бы преувеличением сказать, что он безраздельно отдался этой тревоге. Во вселенной разлито столько прекрасной незаписанной музыки, и к ней, прежде всего к ней, были устремлены помыслы Баха. Но когда музыка отступала, темное облако наплывало на душу. Приглашение короля прусского, переданное Эммануилом, зажгло огонек робкой надежды…
Верный своей привычке, Бах вышел из Лейпцига пешком, а в пяти верстах от города его нагнал заранее нанятый возок, где лежали чемодан с праздничным платьем, скрипка в футляре. Бах заехал в Галле, где забрал своего любимца, старшего сына Фридемана. Он опасался, что сына не отпустят, но Фридеман лишь высокомерно усмехнулся: «Я сам себе голова». Отцу не могло не польстить столь независимое положение сына. Иоганн Себастьян считал, что во Фридемане, единственном из даровитых клана Бахов, есть искра гениальности, и боялся, как бы от слишком усердных возлияний эта искра не погасла. И хотя во внешности Фридемана появилось что-то от забулдыги-офицера: красноватая кожа, пористый, какой-то нахальный нос, задиристый блеск глаз из-под лихо нахлобученной широкополой шляпы, от него веяло бодростью и жизненной силой. В радужном настроении отправились отец с сыном в путь. Фридеман все время добродушно посмеивался над младшим братом – придворным втирушей – и более зло – над его державным покровителем.
– Он не успокоится, пока не перевоюет со всей Европой. Единственно, что по-настоящему влечет «просвещенного» монарха, – это слава первого полководца века.
– Он хорошо начал свое царствование.
– Ты имеешь в виду нападение на Силезию?
– Нет, его внутренние преобразования.
– А-а!.. Он действительно распустил полк великанов.
– Не только. Отменил пытки. Продажу должностей. Ускорил судопроизводство.
– Небось Эммануил напел? О втируша, лукавый царедворец! Все указы Фридриха – для господина Вольтера и будущих историков. Ему смертельно хочется стать «великим». Этого не удостоились ни его отец, ни дед, и пора бы уже на прусском троне воссесть «великому». Он отменил пытки, а избиение подследственных продолжается. Он якобы реформировал суд, на деле же подменяет собой и судей, и всех прочих чиновников.
– А хлебные магазины для крестьян?
– Да, он понял, этот светлый ум, что если крестьяне перемрут от голода, то некому будет кормить армию.
– Ты слишком строг к великому государю.
– Вот, вот, ты уже говоришь «великому». А почему? Тебе льстит его приглашение. Ты, наверное, и музыку ему посвятишь… Что ж, он, надо полагать, тоже не поскупится. Еще одна чистая душа уловлена венценосным пауком.
«Пусть будет так! – подумал Бах. – Улови мою душу, король. Для этого так мало надо: сколько-то белой бумаги да типографской краски. Улови мою душу, король. Сними проклятье немоты с моих созданий, дай им жизнь и будущее…»
Катился возок мимо истощенных военными поборами городков, нищих деревень – грустный пейзаж столь блестящего царствования, – приближаясь к резиденции короля Пруссии.
О приезде Баха Фридриху сообщили почти в ту самую минуту, когда запыленные, усталые путники переступили порог дома придворного аккомпаниатора. Что-что, а служба наблюдения была поставлена образцово, как и положено в каждом истинно просвещенном государстве.
– Немедленно звать во дворец! – приказал Фридрих.
Он вертел в руках флейту. В зальце для камерных концертов музыканты настраивали инструменты, за клавесином сутулилась широкая спина Эммануила. Приглашенные почтительно ждали выхода венценосного солиста.
– Господа! – громко сказал, появляясь, Фридрих и сам удивился волнению, перебившему его твердо поставленный на плацу и в битвах голос. – Концерт отменяется. Старый Бах приехал.
Он обернулся к обрадованному Эммануилу.
– Сейчас ваш отец будет здесь. Встретьте его.
Бах даже не успел помыться и переодеться с дороги. Приглашение короля, переданное гайдуком, звучало с грозной вежливостью, исключающей медлительность. Он с грустью поглядел на извлеченный из чемодана слегка помятый сюртук английского сукна – невестка уже раздувала утюг, – обмахнулся веничком из перьев, натянул парик и со вздохом сказал посланному, что готов следовать за ним. Фридеман отнесся к случившемуся с философским спокойствием и даже не потрудился выбить пыль из складок дорожного платья, да ведь не его ждали во дворце с таким нетерпением.
Старый Бах интересовал Фридриха. Это объяснялось и музыкальными наклонностями короля, и высочайшей репутацией Баха как исполнителя клавирной музыки, и рвением Эммануила, широко познакомившего своего повелителя с произведениями отца, в том числе с пленительной сонатой для флейты, но, пожалуй, более всего – его исключительным нюхом на людей выдающихся. Насколько глубоко постигал он музыку Баха, сказать трудно, у него было слишком мало свободного времени: и физического, и душевного, но безошибочным чутьем он угадывал, что эта музыка останется, в то время как музыка куда более популярных композиторов замолкнет в самом непродолжительном времени. Остаться же, разорвать тенета века было для Фридриха высшей целью, какую мог поставить себе смертный человек. Сам он хотел остаться как лучший полководец своей эпохи. Разумеется, смешно объяснять многочисленные, да что там – бесконечные войны Фридриха желанием доказать свой полководческий гений. Всякая власть, даже неограниченная, деспотическая, дается на неких условиях, что нигде не фиксируются, никем не подписываются, но настолько непреложны, что любая попытка нарушить их ведет к краху власти. Условия, на которых получил свою власть Фридрих: сильная, неуклонно расширяющаяся за счет соседей Пруссия. Но выполнять условия можно разными путями: переговоры, интриги, подкупы, союзы, главный смысл которых – вовремя изменить; Фридрих же признавал лишь один путь – войну. И вовсе не по солдатскому прямодушию, чуждому кривым обходам. Написав в молодости программный труд «Анти-Макиавелли», привлекший к нему лучшие и наивнейшие сердца Европы, Фридрих, взойдя на престол, действовал в государственной практике только по рецептам циничного итальянца, с той разницей, что в своих наставлениях государю Макиавелли исходил из условий слабых, дробных итальянских княжеств, а у Фридриха были иные масштабы…
Иоганн Себастьян понравился королю. Статью это был тот же Эммануил: кряжистый, тучный немецкий бюргер, но лицом куда благообразней и значительней. Эммануила портил растянутый лягушачий рот. Другой сын, на которого Фридрих едва взглянул – зачем ему копии, если имеется подлинник? – ближе к отцу сильной лепкой простых и правильных черт, но во взгляде его не было отцовой спокойной сосредоточенности, скорее дерзость, чего Фридрих терпеть не мог. И он сморгнул Фридемана, как соринку с века. К сожалению, старый Бах затеял длинные, витиеватые и нудные извинения по поводу своего дорожного вида. И так известно, что он не виноват, ему велено было явиться как есть, вот он и явился. Может, так принято у них в Саксонии?
– Хорошо, хорошо, дорогой Бах! – нетерпеливо воскликнул король. – Клянусь богом, мы рады видеть вас и без вашего превосходного, в том нет сомнений, черного канторского сюртука.
Кто-то из придворных хихикнул, Бах и бровью не повел. Он продолжал свои извинения, напирая на то, что оказанная ему великим монархом честь требовала от него явиться в полном параде. «Это характер! – отметил про себя Фридрих. – Его нелегко сбить». Наконец Бах закончил свой монолог, низко, с достоинством поклонился и сказал, что весь к услугам Его величества.
Сохранился рассказ Вильгельма Фридемана о пребывании Баха при Потсдамском дворе в передаче музыковеда Иоганна Николауса Форкеля. Мне нравится точность и простота этого непритязательного рассказа. «Король пожелал услышать из уст старого Баха, как его называли уже тогда, оценку фортепиано работы Зильбермана, которые стояли во многих комнатах дворца. Музыканты ходили вместе с Бахом и королем из комнаты в комнату, и Бах пробовал каждый инструмент и импровизировал при этом. Опробовав таким образом инструменты, Бах попросил у короля дать ему тему, чтобы сразу же сымпровизировать на нее фугу. Король пришел в восхищение от того, с каким знанием дела была разработана без подготовки его тема, и высказал желание, якобы лишь с целью полюбопытствовать, на что может быть способно такое искусство, послушать еще и фугу с шестью облигатными голосами. Но так как не всякая тема может быть проведена с таким количеством голосов, то Бах сам выбрал тему и исполнил ее сразу же, к громадному восторгу присутствующих показав такое же искусство и умение, как и в проведении темы короля…»
Но то ли Вильгельм Фридеман не все рассказал Форкелю, то ли сдержанный профессор сам пожертвовал некоторыми подробностями, поскольку не был любителем острых блюд. Так, Фридриха приметно смутила его промашка с шестью облигатными (обязательными) голосами, он покраснел и зафыркал, что было у него признаком крайнего раздражения. И придворные совсем оробели, когда старый Бах не только не сгладил ошибки короля, а усугубил ее своими слишком подробными разъяснениями в учительско-назидательном тоне. Но, как было вскоре замечено, раздражение короля не коснулось Баха, и он продолжал держаться с музыкантом милостиво, даже почтительно.
Бах произвел на короля куда более сильное впечатление, чем представлялось окружающим. Фридрих высоко ценил профессионализм в людях. А этот грузный старик с летучими руками знал все в своем деле, для него не было никаких тайн и секретов. И еще Фридрих никогда не думал о смерти, боялся этих мыслей, не думал и о загробной жизни и, кажется, не очень верил в нее, но часто, много и охотно думал о том втором и высшем бытии, которое выпадает иным избранникам и, без сомнения, выпадет ему. Разве Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ганнибал, Сенека или Данте менее реальны в сегодняшнем дне, чем какой-нибудь герр Штрумпф с раздутым от пива брюхом, или крестьянин, надрывающийся на пашне, или те безликие, которыми он унавоживает поля сражений? Во всяком случае, Фридрих соизмерял свои поступки с деяниями Александра или Цезаря, а не герра Штрумпфа, хотя телесно те давно обратились в прах, а герр Штрумпф ест, пьет, горланит песни, смердит, трясет постель, вообще многими вульгарными способами заявляет о своем пребывании в мире. Но он-то как раз дух, призрак, ничто, а Александр и Юлий Цезарь, Сенека и Данте живут в других великих, и даже чернь благоговейно повторяет их имена. И Фридрих смотрел на Баха как на своего возможного партнера по бессмертию. Их имена, верно, будут сталкиваться там, за чертой физического существования, в недоступном для простых смертных далеке, которое одно лишь – навсегда. В вечности не будет людей, окружающих Фридриха на поле битвы. О тех же, кто составляет его совет, и говорить не приходится, их уже все равно что нет, но будет этот мощный старик с голубым взором, замутненном надвигающейся слепотой.
И, желая видеть Баха в наилучшем виде в той вечной жизни, где им предстоит встретиться, Фридрих заботливо осведомился, когда намерен тот подарить миру собрание своих сочинений. «Все мы смертны, дорогой Бах, и, хотя вы держитесь молодцом, есть дела, которые нельзя затягивать. Вы сами должны проследить за изданием». Ощущение чего-то уже раз бывшего коснулось Баха, но он не стал в нем копаться. Слишком неожиданным и радостным было сказанное государем. Ужели его тайная мольба проникла в душу Фридриха? Не заговори король об этом сам, он так бы и уехал из Потсдама. Разве хватило бы у него духу обратиться с денежной просьбой к чужому повелителю? Конечно, оставалась надежда на Эммануила. Да согласился бы этот осторожный, осмотрительный и крайне расчетливый во всех поступках царедворец ходатайствовать за своего отца? Наверное, согласился бы скрепя сердце, но тяжело и недостойно просить через другого, даже если другой – твоя родная плоть и кровь. И как же все сейчас божественно упростилось!..
– Увы, ваше величество, о каком издании может идти речь? Мне оно не по карману.
– Не прибедняйтесь, дорогой Бах! – чересчур поспешно вскричал король. – Никогда не поверю, что мой кузен Бранденбург не прислал вам славного подарка за концерты, названные его именем.
– Осмелюсь ли я говорить неправду вашему королевскому величеству? Я не корысти ради делал скромное подношение герцогу Бранденбургскому, но вправе был рассчитывать хоть на маленькую благодарность, на знак того, что мой дар принят милостиво. Мои ожидания оказались напрасны.
«Браво, Бранденбург! – хохотнул про себя Фридрих. – Это надо иметь в виду, поскольку и меня ожидает подношение. Даже табакерочки пожалел великому музыканту. Вот жмот так жмот! И гром не грянул, и земля не разверзлась. Неблагодарность не значится среди смертных грехов. Очевидно, всевышний полагает ее естественной принадлежностью своего любимого творения».
– Когда я победил знаменитого Маршана… – На больших, чуть обвисших щеках проступила лиловая сетка – Бах никогда не хвастался своими музыкальными триумфами, и ему было стыдно, – французский органист просто не явился на турнир, послушав накануне мою игру, удрал с утренней почтой, я опять не дождался ни вознаграждения, ни обещанного подарка. И все же я встретил однажды щедрого господина: русский посол при Дрезденском дворе граф Кейзерлинг пожаловал мне сто луидоров в золотом кубке за «Гольдберговские вариации».
– Ого! – вскричал Фридрих. – Сто луидоров и золотой кубок за одно сочинение! Недурно, недурно! Хотел бы я так зарабатывать. Он чертовски богат, граф Кейзерлинг. К тому же русская царица щедро оплачивает его сомнительные услуги. Мне бы царскую казну! Какая несправедливость: варвары имеют все – золото и серебро, руды и драгоценные каменья, а в бедной маленькой Пруссии нет ничего, кроме желудей.
Фридрих уже понял, что к нему обратились с замаскированной просьбой, которую он сам неосмотрительно спровоцировал. Никогда не надо лезть в чужие дела, там всегда неблагополучно. Мог ли он думать, что этот величавый старик, этот плодовитейший музыкант бедней церковной крысы?
Фридрих был скуп, как мелкий лавочник или как настоящий Гогенцоллерн. Тут уж в нем не было ничего от гвельфов. Он знал за собой эту черту и ценил ее, ибо деньги были нужны для войны, их постоянно не хватало, и всякая щедрость, далее в малом, преступна. И все же на мгновение в нем шевельнулось: кому-кому, а старому Баху стоило бы дать… Нет! – одернул он себя чуть опечаленно, но твердо: – Что я – меценат, Лоренцо Великолепный, папа Юлий, покровитель искусств, чтобы опустошать скудную казну для публикации музыкальных шедевров, до которых никому нет дела? Я не Генрих Лев и не Антон-Ульрих и вообще не настолько гвельф, чтобы служить музам, я служу Марсу. Будь хотя бы он в моем штате, приноси славу моему царствованию, идее Великой Пруссии, пробуждай в сердцах юнкеров и бюргеров патриотический восторг, тогда бы… Тогда бы мы еще подумали, стоит ли тратиться. Но его музыка недоступна моим добрым подданным, и хорошо, что недоступна. Когда они подымутся до такой музыки, то перестанут быть добрыми подданными. Конечно, нежелательно было бы лишиться приношения. Этот старец, поди, в заговоре с вечностью и может мне крепко навредить там. Музыкальное приношение должно состояться, я предложу ему новую тему. Это повяжет нас прочнее прочного. Зачем его отталкивать? Пусть сам откажется от просьбы, так и не выговоренной вслух.
И Фридрих сказал тепло, доверительно, с оттенком легкой грусти:
– Дорогой Бах, вы что-нибудь слышали обо мне как о военачальнике?
– Государь, молва называет вас величайшим полководцем века. Я ничего не смыслю в военном деле и могу лишь тихо сожалеть, что звук боевой трубы заставляет вас прятать в футляр флейту, в игре на которой вы, ваше величество, достигли выдающегося мастерства.
«Он льстит, дело плохо!» – отметил про себя Фридрих.
– Да, вы не много знаете, во всяком случае, не больше других, приписывающих мне стратегический гений и черт знает какие еще полководческие достоинства. Так вот: наемная армия исключает гениальность полководца. Тут все предопределено: построение, нехитрый маневр – сплошной шаблон и рутина. Знаете, чем я беру? – Фридрих понизил голос – Шесть выстрелов и еще заряжение в минуту. У меня этим владеет каждый пехотинец. Вот и все.
– И ничего больше? – спросил опешивший Бах.
– Ровным счетом ничего. Но надо было додуматься до такой простой мысли. И научить этих олухов с негнущимися пальцами скорострельности. Добро бы раз научить. Но ведь их убивают, все равно рано или поздно убивают вражеские солдаты, стреляющие куда медленней, а тут еще дезертирство – бич наемных армий. И надо учить новобранцев. И одевать. И снабжать оружием. И пулями. А для того чтобы так быстро стрелять, нужно очень много пуль. На все требуются деньги, дорогой Бах, очень, очень много денег Знаете, кто выигрывает войну? Тот, у кого остается один лишний талер. Пора Фермопил миновала, нынешние войны идут на измор, поэтому они так продолжительны. Воюют не до победы, а до полного изнеможения, до окончательного истощения сил. И вот, когда уже все выдохлись, у кого-то оказывается в кармане лишний талер, и эта блестящая монетка решает дело.
– Кажется, я понял, ваше величество, – задумчиво, будто издалека, проговорил Бах. Он в самом деле отдалился от собеседника, ушел в самого себя, пытаясь постигнуть то страшное ощущение уже раз пережитого, которое овладело им с обморочной силой.
О господи, спаси и помилуй, ведь сейчас снова звучала тема синдика Швальбе в том последнем ее повороте, когда поддельный демонизм обернулся обывательской дребеденью. Но что общего у великого короля, прославленного полководца с лейпцигским обывателем? Многое! Скупость. Неспособность вышагнуть из своих пределов. Убогий прагматизм. А разница лишь в масштабах. Бах взглянул на Фридриха. Какой он щуплый, узенький в своем мундирчике, какое у него обобранное, нищее лицо. И тут их прервали. Стремительно вошел длинновязый человек, весь в черном, и протянул королю свернутый в трубку лист бумаги.
– Я сказал, чтоб меня не тревожили! – обрушился на него Фридрих, но Баху показалось, что он рад помехе.
– Ваше величество приказали все дела по кавалерии…
– А-а! – смягчился Фридрих. – Что там у вас?
– Суд вынес смертный приговор улану за мужеложство.
– Еще чего? – холодно сказал Фридрих. – Так я и вовсе без армии останусь. Если этот улан такая свинья, перевести его в пехоту.
Он взял приговор и разорвал на четыре части. Человек в черном низко поклонился и, пятясь, вышел.
– Идиоты безмозглые! – взорвался Фридрих. – Убивать солдата – дело врага. Пусть истратит на него хоть пулю. Хоть мускульное усилие на удар штыком. Всем на все наплевать. Можно подумать, что Пруссия нужна мне одному. Приходится вникать в каждую малость. Иначе все пойдет прахом. Я считаю себя первым слугой государства, но я уже не слуга, а лакей!.. Боже, юношей я мечтал о лаврах поэта. Создать «Атала» мне казалось куда почетней, чем выиграть Тридцатилетнюю войну. В сущности, я и сейчас так считаю. Какой же вы счастливый человек, Бах, что можете думать о гармонии, а не о свинье улане, насилующем новобранцев. Мне бы чистоту ваших забот. Как я вам завидую!..
Король явно переигрывал, и Баху стало неприятно, что из-за жалких денег, которые Фридриху, как ему – мелочь, бренчащая в кармане, он так ломается и фальшивит. Отказывать надо с большим достоинством. Зачем все это шутовство, когда уже и так все ясно.
– Не смею злоупотреблять драгоценным временем вашего величества! – сказал Бах, наклонив в поклоне крупную голову под крепко завитым париком.
Фридрих удивился странной грусти, охватившей его, когда за Бахом закрылась дверь. Казалось, ушло что-то важное, чистое, нужное, чего постоянно недоставало его жизни, но без чего он вроде бы приучил себя обходиться. Конечно, это чувство пройдет, все станет на свои места. А уж если допечет ничтожество и зависимость окружающих, можно отвести душу в письмах, есть же в мире настоящие люди. Но сейчас ему было грустно, и общество себе подобных казалось невыносимым. Он закутался в плащ и вышел из дворца. Назвав пароль часовому, пересек парадный двор и, толкнув деревянную калитку, оказался возле служб.
Плотный, теплый запах лошади и овса, замоченного вином, приятно заложил ноздри. Конюхи, конечно, узнали короля, но как ни в чем не бывало продолжали заниматься своим делом. Так им было приказано. Лишь старший конюх и объездчик Фриц, заслышав быстрый, цокотливый от высоких каблуков шаг своего венценосного тезки, вышел с ведром и скребницей из денника шестилетней кобылы Тилли, королевской любимицы.
Тилли, переступив копытами, чуть слышно, нутряно заржала и потянулась к Фридриху мордой, вздергивая сафьяновую губу над желтыми резцами. Фридрих знал, что лошади глупы, беспамятливы, неблагодарны и в этом смысле мало чем отличаются от людей. Но он заставлял себя думать, что Тилли радуется ему, а не куску сахара, который он всегда носил в кармане и, прежде чем дать ей, очищал от крошек табака. Ему хотелось бескорыстной любви. А вообще-то маленькая жадность к сахару простительна. Зато лошадь никогда не лжет, не ищет выгоды, не заискивает, покорно и достойно принимает любые тяготы, бесстрашно идет в бой, погибает без жалобы, никогда не предает и не бежит с поля битвы, если ее не заставляет всадник. Во всем этом лошадь так безмерно возносилась над человеком, что Фридрих понимал Гая Калигулу, который ввел своего коня в сенат. Уж наверняка этот добрый конь, не тягаясь с сенаторами в лукавом красноречии, превосходил их честностью и благородством. И потом – лошадь так красива, так гармонична и совершенна в каждом движении: упругой работе ног, вскиде и повороте гордой головы, лебяжьем выгибе шеи. И какая чудная музыка в ее аллюре, шаге, нарыси, курц-галопе, галопе, марш-марше слани, когда лошадь стелется по земле и сердце готово разорваться от счастья. И как дико, что лошадь, богово совершенство, должна служить человеку, а не наоборот. Справедливость восстанавливается лишь в конюшне, у тех, кто умеет по-настоящему ценить лошадь. Он заставляет своих конюхов языком вылизывать денники. А как издеваются над лошадью простые люди, особенно крестьяне, целиком зависящие от ее труда. Хлещут кнутом даже по глазам, мерзавцы, не кормят, не чистят, то весь день не поят, то опаивают до порчи. Слеза посолила уголок губ. Фридрих обнял Тилли за шею, прижался щекой к шелковистой морде. Мягкое хрумканье щекотно отозвалось в ухе.
– Милая!.. Красавица!.. Какая ты чистая, шелковая!.. Как вкусно от тебя пахнет!.. До чего же ты вся хорошая, славная моя лошадка! А твой папа Фриц не был сегодня хорошим, ох не был. Дрянь твой папа Фриц, скупердяй, мелочная душонка. Раз в жизни мог совершить доброе, святое дело и не поднялся над собой. Думаешь, побоялся украсть несколько грошей из приданого бедной девочки Пруссии? Да нет же, просто гнусный скряга. Настоящий Гогенцоллерн, этим все сказано. Какая шваль смешивала свою кровь из столетия в столетие, чтобы создать столь мерзкий родовой тип? И отец еще не считал меня своим сыном! Ну уж сегодня-то он понял, что мы одна плоть. Ох и гордился же мною папаша, облизывая сковородки в аду…
…С обычной щедростью бедных людей к богатым Бах выполнил свое обещание Фридриху: его «Музыкальное приношение» содержало трехголосный и шестиголосный ричеркар, шесть канонов и каноническую фугу. Не постояв перед расходами, он отдал гравировать ноты.
Через некоторое время Эммануил в сдержанных до сухости выражениях уведомил отца, что приношение его принято милостиво…
* * *
Анна Магдалена, умная и любящая жена, давно уже заметила тщательно таимую мужем душевную невзгоду. Она стала уговаривать его издать сочинения за свой собственный счет, не надеясь на благородный жест равнодушных и жадных богачей. Бах угрюмо возражал, что скудный его нажиток принадлежит семье и он скорее уничтожит все написанное, нежели пустит по миру своих близких. Анна Магдалена выражала твердую уверенность, что издание не только окупится, но даже принесет им богатство, пусть и не сразу. Она была уверена в обратном, но голос ее звучал так искренне, что Бах дрогнул. Как бы легка была ему кончина, которая уже не за горами, если б он оставил дорогой жене и милым детям чуть побольше денег. В тяжелые минуты, когда свет совсем погасал в его глазах, он видел внутренним вещим зрением Анну Магдалену в нищенском образе обитательницы дома призрения. И слезы катились по его осунувшемуся лицу.
Анна Магдалена нашла способ значительно удешевить издание. Они будут сами гравировать ноты. Таким образом, деньги уйдут лишь на медные доски и на бумагу. «Мне понадобится еще одна жизнь, чтобы справиться с такой работой», – мрачно шутил Бах, но в конце концов решил сделать опыт – издать «Искусство фуги». Превозмогая режущую боль в глазах, он принялся каллиграфическим почерком переписывать ноты для гравирования. Эта тонкая и напряженная работа окончательно доконала его больные глаза. В отчаянии Бах решился на тяжелую, мучительную операцию, в успех которой не верил. Знаменитый английский хирург (раздутое ничтожество) бесстрашно сделал свое черное дело. К полной слепоте прибавились непрестанные боли. Пришлось подготовленные к гравированию ноты отослать в типографию Шюблера, которому Бах некогда поручил издание «Музыкального приношения».
Отдав это распоряжение, Бах как будто потерял всякий интерес к судьбе своих сочинений. Он диктовал мужу старшей дочери, музыканту Артниколю, хоральную фантазию на мелодию «В тягчайшей скорби», но назвал ее первыми словами молитвы «Перед твоим престолом».
Из тьмы и нестерпимой, пронзающей мозг боли исторглась не жалоба, не мольба о милосердии, не скорбный упрек, а чистая, прозрачная хвала господу, исполненная смиренного благочестия.
И, давно разочаровавшийся в созданных им по образу и подобию своему, Вседержитель поверил, что еще не все пропало, и, умиленный, ниспослал чудо, чего за ним давненько не водилось: отверз Баху вежды.
Бах увидел прекрасное лицо жены, освобожденное любовью и терпением от всех земных тяжестей, увидел милые, бедные, испуганные лица детей и тихо, спокойно простился с ними, ибо понял, что за ниспосланной ему милостью последует не исцеление, а скорая кончина. О своих сочинениях он даже не упомянул, и это больше всего мучило Анну Магдалену.
А что бы Вседержителю расщедриться и сунуть Баху под подушку полный кошелек! Тогда бы знал умирающий, что не пропадет, не сгинет созданное им, и блаженно легок, светел стал бы его исход. Да ведь то был скаредный немецкий бог, так же не способный вышагнуть из самого себя, как не смогли этого ни Ганс Швальбе, ни Фриц Гогенцоллерн.
Старшие сыновья Баха не были в Лейпциге, когда он умер. Но они приехали на похороны, имевшие место 31 июля 1750 года во дворе церкви св. Иоанна. А на другой вечер после похорон Фридеман и Эммануил заперлись в кабинете отца, где хранились его музыкальные сочинения. Конечно, они многое знали, да почти все знали, кроме, разумеется, новых фуг и последнего хорала, но кое-что забылось, кое-что звучало сейчас по-иному, а главное, впервые стал обозрим весь геркулесов труд. Оба читали с листа так же бегло, как их отец. Всю ночь напролет просидели братья в запертом кабинете при тусклом свете оплывающих свечей, спиной друг к другу, уставясь в ноты, прижав кулаки к вискам, будто в опасении, что лопнет черепная коробка под напором звуков. Пот орошал высокие баховские лбы, истекала слезами родовая голубизна глаз, и, если бы какой-нибудь лейпцигский обыватель заглянул в прорезь ставен, он принял бы этих людей за сумасшедших.