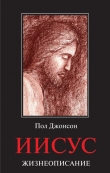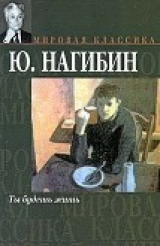
Текст книги "Любимый ученик"
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Юрий Нагибин
Любимый ученик
Рассказ
Как полагается, в преданиях все это обрело притчевый лад, стало наглядным уроком смирения. Иначе и быть не могло. Каждый его жест, каждое слово были перетолкованы в поучение, что не лишено основания. Он не мог растрачиваться на свободную игру чувств, слишком мало времени было ему отпущено, – пойди вырасти урожай новой веры на каменистой, сухой, неплодной почве дремучих душ. Но сейчас было другое, ему хотелось прикоснуться к человеческой плоти, в близости страшного исхода ему вспало, как мало телесного было в его жизни.
Сильно и нежно помнились ему ласковые крепкие руки и круглые колени Матери. Смутно, то ли истинным детским воспоминанием, то ли мнимой, навязанной ему окружающими памятью виделся единственный товарищ его ранних лет, брат в каком-то колене Иоанн, серьезный, красивый и печальный, немного старше его. Неужели он провидел свою судьбу, что голова его с закатившимися глазами будет подана на золотом блюде блудной Иродиаде? Наверное, так подробно он этого не знал, но знал, что будет страшное, и потому никогда не улыбался, тихий, сосредоточенный в себе, приветливый мальчик. Но ведь и ты никогда не улыбался, потому что тоже знал, что в конце будет страшное. Блаженны неведающие… Как скромны и тихи были их редкие игры. Они не возились, не боролись, не барахтались, как все мальчишки. Иоанн что-то искал в траве, потом приносил цветочек, и вы молча внимательно его рассматривали. И ты в свой черед находил камушек или мертвую бабочку и нес находку другу. И снова шло безмолвное, задумчивое лицезрение. Вы не знали названий этих цветов, травинок, насекомых, но почему-то не спрашивали своих матерей – Марию и Елизавету – об именах малых мира сего. Лишь раз попался цветок, напоминающий формой крест, ты видел такой в руках у Матери, когда еще не умел ни ходить, ни говорить и жил у нее на коленях. Слово «крест» входило в название, но ты не вспомнил.
Мать поздно спустила его с рук на землю, словно боялась, что он уйдет и потеряется. Он и ушел в свой час, без сожаления и печали, как уходил от всех ради ждущих впереди. Лишь тем двенадцати, которым он сегодня вымоет ноги, позволено было следовать за ним. Одних он сам позвал, другие напросились в спутники, третьи были ему вверены.
А с Иоанном они встретились через много лет, когда тот стал рослым, стройным мужчиной с прекрасной лохматой головой; его крупное тело было закутано в плащ из грубой верблюжьей шерсти, дыхание отдавало диким медом и травами, он проповедовал людям о скором приходе Мессии и крестил их в Иордане. Иисус пришел к нему из Галилеи принять святое крещение. Что-то отстраняюще щепетильное было в смирении, склоненности Иоанна перед ним, и это пресекло возможность доверительного тона старой дружбы. Пришлось удовольствоваться негреющим жаром встречи Мессии и его пророка.
Мысль соскользнула с Иоанна, Иисус вспомнил сестер Марфу и Марию, в чьем доме он находил приют. Они омывали его усталые ноги, мазали миром голову. Особенно приятны были прикосновения легких, внимательных, никуда не спешащих рук Марии. А Марфа, всегда не успевавшая по домашности, вечная хлопотунья, омывала ноги, будто миску споласкивала после еды.
Другая женщина, тоже именем Мария, омывала ему ноги слезами и вытирала своими пышными мягкими рыжими волосами. Она была блудницей среди людей, но что ему до этого? Раз на дороге она припала к его ногам, он наклонился и тронул ее за плечо и в этот миг забыл себя и свое предназначение. Хотелось зарыться в ее рыжие, с бронзовым отливом волосы и остаться там навсегда.
Сам он редко касался человечьей плоти, разве что исцеляя прокаженных, изъязвленных, параличных, бесноватых или оживляя трупы, но физической радости эти прикосновения не доставляли.
Телесность жизни – вот чем он был обойден. Одинокие странствия по каменистой пустыне и пыльным дорогам, удаление от мира, мучительные искусы, проповеди и поучения, бездомность – лисицы имуть норы, птицы небесные – гнезда, а Сыну человеческому негде преклонить голову, – все это уводило от густого человечьего тепла в стылую пустоту бестелесности. Он трогал жизнь не перстами, а словом. И как прекрасно было, когда вдруг, устав от бессилия взываний, он схватил плеть и отхлестал торгашей, раскинувшихся в храме со своими товарами, выгнав их вон. Хорошо погуляла треххвостка по жирным спинам и плечам.
И чудесно вспомнить, как на белой ослице он спускался с иерихонской кручи после сорокадневного искуса, легкий, словно бы хмельной от голода, ободравшего его плоть до тонины осеннего листа, и чувствовал худыми лядвиями крепкие шелковистые бока ослицы, а седалищем – твердый круп. Он сидел, сильно откинувшись назад, иначе ослица повалилась бы с отвесной пади, по которой извивалась узенькая тропка. Она так наклонилась, что он видел лишь холку и кончики ушей, но не видел головы; порой казалось, что он пребывает в свободном падении – парении, и это оборачивалось предчувствием будущей невесомости, а ему хотелось совсем иного – тяжести плоти. И он обрадовался, когда в изножий склон стал менее крут, а там и вовсе – пологим, тропка расширилась и в правую ногу ему заколотился лопаткой сынок ослицы, трусивший на круче сзади. Иногда он тыкался в него мягким носом, и радостно было слияние с плотью жизни.
Он уже знал, что в небесном чертоге Отца ему будет скучно без грубой, плотной, пахучей, пестрой земной круговерти с кучей ненужных забот и дел, порочной, низкой, отвращающей персть земную от милостиво простертых Божьих рук – да ведь после сладимой родниковой воды хочется иной раз ожечь гортань глотком пряного хмельного вина. И сейчас он жалел, что так мало пил из этой чаши.
До чего же, наверное, страшно, душно и захватывающе постоянно пребывать в обхвате этой жизни, сквозь которую он проходил, как солнечный луч сквозь воздух.
«Я ведь так мало знаю о той обычной жизни, которой живут простые люди, а не пророки, – думал Иисус. – Я не знаю названий многих деревьев, цветов, трав, камней, мелких животных, снующих в траве и песке, я даже не знаю, как называются иные предметы, служащие для домашней пользы, ремесла, забав. Я затрудняюсь порой на обычных словах, и обо мне пустили слух, что я косноязычен. Я слишком рано задумался над тем, что непричастно дневной заботе, и тут у меня достаточно слов, а если вдруг не хватало, я создавал нужные слова сам, и люди, слушавшие меня, понимали их, будто всегда знали, лишь не желавшие слышать делали вид, что не понимают. И я слишком рано прозрел участь, мне уготованную, и ужаснулся. Нет, я сам уготовил ее себе, пожалев людей и дав этой жалости превзойти любовь к себе единственному, на чем стоит мир людей. Господь, создав меня своим хотением, предоставил мне право выбора. Я мог остаться одним из пророков, еще одним предтечей, но я принял на себя ношу и стал сыном Предвечного. Я не был обречен на свой путь, Вифлеемская звезда сияла не мне, я даже не видел ее из вертепа своими мутными опрокинутыми глазами. Она была звездой надежды. Все делается произволением Божьим, но мне дана была свобода. Я выбрал крест, не обманув Небесного Отца. Но пока еще я Сын человеческий и чувства во мне человеческие, иначе я не смог бы исполнить того, к чему призван. И страдания мне предстоят человеческие, и они страшат меня, и опамятование в славе и бестелесности не довлеет моей душе».
…Иисус взял в руки стопу Иоанна, «которого Он любил», – с трогательной и наивной настойчивостью будет повторять Евангелист, вспоминая свои дни с Христом. А потомки перетолкуют в «любимейшего». Верно ли это? Он правда очень любил Иоанна и дал ему место возле себя, как и брату его Иакову Заведееву. О том просила Иисуса их мать, доверяя ему своих сыновей. Он отчитал тщеславную женщину мгновенно родившейся притчей, но по какой-то слабости выполнил ее просьбу. А ведь одесную от него надлежало бы сидеть Петру – камню, на котором он создаст свою церковь, Петру – будущему первосвященнику, хранителю райских врат.
Иоанн был одним из самых любимых, он старался всех любить одинаково, но даже ему это не удавалось. Иоанн был ласков, как женщина. Он все стремился склонить голову на плечо, на грудь Учителя, приятно щекотали шею его волнистые мягкие волосы той же бронзовой рыжины, что у Марии Магдалины. Остальные ученики не решались прикасаться к Учителю, даже горячий, порывистый, не умеющий сдерживать своих движений Петр. Ласковость, любовь, нежность были сущностью Иоанновой души, и невероятно, что этой женственной натуре суждено исторгнуть из себя самые ужасные, неистовые, опаляющие ум слова, какие только слетали когда-либо с человеческого языка, слова его Откровения. Величайшим словослагателем и бесстрашным провидцем окажется этот кроткий человек с легким пушком на округлых девических ланитах. Ему выпадет самая счастливая и долгая жизнь из всех апостолов, если может быть счастлив человек, увидевший внутренним взором коня бледного и семь ангелов с семью язвами, в коих изойдет ярость Божия. Он узнает бичевание, но его минует мученическая смерть. Его преклонные дни закатятся среди свято почитающих его единоверцев, которым он, совсем уже дряхлый, будет настойчиво повторять: «Дети, любите друг друга». Они спросят его, зачем он постоянно твердит одно и то же. И он ответит: «Это заповедь Господа, и если соблюдете ее, то и довольно».
Нога Иоанна была под стать всему его телесному составу: стройная, с узкой стопой и длинными пальцами, какая-то незахоженная, будто не прошел он вместе с Учителем столько каменистых дорог. Иисус с удовольствием обмыл ему ноги и вытер полотенцем из сурового полотна. «Спасибо, равви», – с красным от смущения лицом проговорил Иоанн и отошел, так бережно ставя ноги, будто опасался за свои отныне драгоценные конечности.
Он вымыл ноги Иакову. Тот слышал проповеди Иоанна Крестителя и без колебаний пошел за Иисусом, когда тот его позвал. Это было в характере Иакова: он пойдет как угодно далеко, если его подтолкнуть, и остановится, лишь когда, его удержат. Приверженность таких людей особенно ценна, она словно гарантия истинности своего дела. Иаков – глубоко чувствующий человек, но не чувствительный, как его брат. Его чувства поверяются разумом. Он был бы достойным наследником своего отца – зажиточного рыбака, владельца самых больших коптилен в поселке, но слова Предтечи разбудили в нем другое сердце. И все же он не стал искать того, о ком тот вещал, он ловил рыбу – на редкость удачливо. Он был из тех счастливых рыбаков, что имеют легкую руку на рыбу. А в должный час мать взяла его за руку и вместе с младшим сыном вручила Иисусу. Общее семейное сердце Заведеевых уже открылось той новой вере, которую предрекал Креститель.
Иисус омыл ему ноги, хорошие, надежные, ухоженные ноги человека, знающего себе цену и внимательного к своему телу. Не вяжется с основательным, прочным, осмотрительным Иаковом ожидающая его насильственная смерть от руки Ирода Агриппы.
С тазом воды подошел Андрей, славный, милый Андрей. Он принял крещение от Иоанна и раньше брата своего Петра пошел за Иисусом, потому и прозвище ему будет Первозванный. Он понесет слово Божье в самые темные и страшные пределы земли: к скифам и севернее, к угрюмым племенам, обитающим в дремучих лесах, на берегах широких холодных рек. Редко раскиданные по лесной и полевой бескрайней пустынности и оттого подозрительные, пугливые и жестокие, они не убьют Андрея, как предсказывали свирепые, но все же более человечные скифы. Терпеливо и недоверчиво будут слушать наставления апостола, иные с кривой усмешкой примут от него святое крещение и отпустят с миром. А мученическую смерть на косом кресте примет Андрей на греческом острове Патрахе по воле проконсула Энея. Хуже северных варваров окажутся просвещенные римляне для несущего слово Божье. Что стоит просвещение, если сердце глухо к Главному Слову?
Андрей станет покровителем той страны, что возникнет на месте обитания навещенных им диких племен. И флаг, и высшая награда страны станут андреевскими – ни один из тех, кто пошел за Сыном человеческим, не удостоился подобной мирской почести. Но не уберег косой андреевский крест этот народ, оставшийся в глубине своей таким же темным, диким, кровожадным, как во дни прихода Первозванного. И построят они на своих просторах царство тьмы, второй ад, не скрытый в земном провале, а раскинувшийся бесстыдно, как блудница на ложе, меж двух океанов. Появятся там поддельные пророки, чудотворцы волею сатаны. Христос накормил двумя рыбами и пятью хлебами пять тысяч человек, эти будут кормить тем же количеством пищи, не преумножающейся тайно, трехсотмиллионный народ, порождая глад и мор. А один лжечудотворец превратит все вино в воду, иссушит, изломает, изведет лозу, кою воспитывали бессчетные поколения виноградарей, дабы обратила она вложенный в нее заботливый нежный труд в благодатный сок. И подведет он смятенный народ, утративший свое исконное веселие, возносившее его дух горе, под власть Змея – Полоза, подручного сатаны, по чьему хотению соблазнил он прародительницу Еву и лишил человека рая…
Иисус долго поливал водой молодые ноги Варфоломея; под тонкой кожей расходились голубые жилки, и так страшно было представить себе, что эту кожу сдерет с живого человека разъяренная чернь у стен Иерусалима. Первой жертвой христианства будет этот оставшийся неизвестным миру юноша; благодарное, но несведущее потомство подарит ему великие духовные подвиги в Индии, а неблагодарное – откажет в существовании, заменив его Нафанаилом, о котором Иисус обмолвился раз добрым словом.
Иисус не знал прежде, что человеческие ноги столь же разнообразны и выразительны, как лицо и руки, что в них тоже отражается характер. Когда босые ноги купаются в дорожной пыли, кажется, что все они одинаковы, а они разные, совсем разные, – как щедр Господь в зиждительстве своем, никогда не повторяющем уже бывшее, в его мире нет копий, все сотворено наново.
Сейчас он вытирал ноги Иакову Алфееву, подобные врытым в землю столбам, – так же прочен, прям, неуклонен был суровый характер апостола, двоюродного его брата, ставшего первым епископом Иерусалимским. А у младшего Алфеева – Фаддея, скромного, стремящегося затениться, ноги были тонки и сухи, как у оленя. А вот «разношенные», неухоженные ноги Матфея, бывшего мытаря, немало измытарившегося по земле; небольшие беспокойные ступни Фомы – любопытного, недоверчивого – вот и сейчас посмотрел, чисто ли моет.
«Ты и в раны мои персты вложишь, Фома Неверующий», – укорил Иисус. Трудно поверить, что этот пронырливый человек, которому надо все своими руками потрогать, станет одним из самых твердых и бесстрашных проводников его Слова, которое он понесет в огнедышащие аравийские пустыни.
Дошла очередь и до култышек – иначе не скажешь – Петра: коротких, гнутых, без щиколоток. Можно подумать, что Петр ходил другими дорогами, нежели его товарищи. У тех ноги странников, у него – страстотерпца: сбитые, порезанные, в мозолях и синяках. Всегда в горении – нетерпелив, страстен, как собака, преданный и, как собака, поджимающий хвост в миг опасности, равно способный к мгновенному геройству и позорному испугу, настолько богатый чувствами, что хватило бы на всех апостолов и еще осталось, – вот уж воистину: ничто человеческое не чуждо. Потому и решил основать на нем свою церковь Иисус. Она будет, как он, самоотверженна, как он, нестойка, как он, цельна, как он, сумбурна, как он, способна на мученичество: распятый головой вниз, он явит то великое мужество, какого ему не хватало в менее грозных скрутах судьбы, – слезливая и неуклонная, как он, любящая и яростная и способная к радости. Если б камню и впрямь быть плотью церкви, то ставить ее надобно на Иакове Алфееве – это кремень. Но он ставил человеческую церковь, и этот горячий, кипящий, наивный делатель годился больше всех, чтобы церковь была для человека, слабого, грешного, исполненного стольких противоречивых задатков, но тянущегося ввысь – к раскаянию и правде.
И вот перед ним смуглые, опрятные, будто не пристает к ним дорожная пыль, ноги Иуды. Он чем-то взволнован, Иисус уже научился угадывать чувства учеников по ногам, не заглядывая в лица. Небось опять взял деньги из общей казны, хранителем которой поставили бывшего мытаря. Взял, чтобы отдать какому-нибудь попрошайке. Апостольский казначей знал счет денежке, но был жалостлив и доверчив: не мог отказать в подаянии, особенно тем ловкачам, что так хорошо прикидываются несчастнейшими из несчастных. Они выглядят куда убедительнее истинно неимущих, потому что лишены стыдливой гордости бедняков. С какой охотой обнажают они искусно наведенные язвы! А много ли надо такому доброму, мягче воска человеку, как Иуда, у которого не глаза, а сердце на мокром месте. Собственных денег у Иуды почти не водилось, и он запускал руку в общую скудную казну. Все это знали, но молчали, уважая его безоружную доброту.
Но сильнее стыда, тревоги, страха разоблачения была изливающаяся на Иисуса любовь. Иуда любил его сильнее, чем Петр, Андрей, Иаков, даже сильнее, чем Иоанн. Иисус ладонями чуял то замирающее наслаждение, какое доставляли Иуде прикосновения Учителя, его забота и ласка. Он даже перестал мучиться из-за похищенных грошей, не для своей же сласти он их взял. Как-нибудь заработает и вернет в кассу или у тамошних друзей попросит. Но Учитель моет ему ноги, и делает это так старательно и серьезно, что внутри его заходили волны умиления, душа стала влажной, Иуда боялся расплакаться. Иисус услышал взволнованное сердце Иуды через жилку на подъеме ступни, и, похоже, в этот миг уже созревшее решение стало окончательным. «Он сможет», – сказалось в нем. И еще он подумал: вот судьба тех, кто слишком сильно любит.
Как всегда, последним подошел к нему Симон Кананит, был он почтенных лет, но еще скромнее Фаддея, хотя никому не уступал спокойным умом, глубокой, преданной душой; его неподдельное смирение благотворно действовало на климат маленькой общины, умеряя любую заносчивость.
Опорожнив таз и вымыв руки, Иисус дал знак, чтобы готовили пасху, а сам отозвал Иуду в покойчик близ трапезной. Они собрались для вечери в поместительном доме юного прозелита Марка. Сам хозяин не принадлежал к избранным ученикам и потому отсутствовал. За высоким окошком дотлевала вечерняя апрельская заря. Они встали в ее печальный изнемогающий свет. Иисус сказал:
– Завтра свершится предсказанное пророком: один из вас предаст меня.
Иуда вскинул кудлатую голову, похожую на голову большого доброго пса. Иисус понял то, что перелилось в его зрачках: казначей ждал разговора о взятых в кассе деньгах, а Учитель позвал совсем для другого, чего он не мог сразу ухватить.
Христос повторил сказанное. Он не раз заговаривал с учениками о ждущем его конце, правда, темными для простого разума словами пророков.
– Начальники жизни убьют меня. Я умру на кресте, искупив грехи человеческие. Да сбудется воля Божья.
– Но… так скоро?.. – донеслось из-за края света.
Он понял.
– В назначенный срок я воскресну и вознесусь к престолу Всевышнего. Так будет. Готов ты стать орудием воли Божьей?
– Я люблю тебя, – снова дуновением.
– Поэтому ты избран.
– Но сам ты любишь Иоанна.
«Он ревнует», – подумал Иисус.
– Я люблю вас всех. Иоанн ласков и нежен, брат его Иаков скуп в чувстве, но я люблю его не меньше. Петр резок, порывист, порой груб, но дорог мне и за его слабости, и за его достоинства. А могу ли не любить я брата моего Иакова-меньшого, или Первозванного, или доброго ворчуна Матфея, или тишайшего Симона? И так я могу сказать о каждом. Но ты станешь наособь, ближе всех ко мне, ибо возлюбишь меня сильнее жизни, чести и души спасения.
– Значит, и душа моя погибнет?
Иисус наклонил голову. Он мог бы дать ему утешение: до Страшного суда. «Когда все грешники, равно ханжи и лицемеры, что пакостили лишь в помыслах, боясь живого греха, будут низринуты в огненную печь, Я возьму тебя за руки и отведу к Престолу Отца моего. Но сейчас Я не дам тебе даже такой надежды. Коли откроются смертным помыслы Божьи, вера станет сделкой. Должно всему свершиться по воле Отца моего, но свободным хотением, ибо свободным зрит он человека, движимого верой, а не расчетом на милость и страхом перед карой. Обреки себя на свой страшный подвиг, Иуда, обреки без надежды, и ты станешь выше меня, ибо я знаю, что, пройдя сквозь муки, позор и смерть, восстану в славе и силе, знаю – и трепещу. Меня ждет место одесную Отца моего, а я маюсь, дрожу, мокну холодным потом, мой рассудок мутится от страха, – каково же будет тебе, обреченному на муки вечные и вечный позор в памяти людей? Но ты решишься, и я пойму, почему Господь не отказывается от человека при всей его мерзости и для чего моя смерть на кресте».
– Я сделаю, как ты говоришь, Господи.
Он не сказал «Учитель», он сказал «Господи» – ему открылось, он сделает.
Иисус почувствовал, что ему стыдно смотреть в глаза Иуде. Но он пересилил себя и взглянул. Никогда, никогда не видел он такого бледного, такого бледного лица. Он едва не дрогнул: «Успокойся, брат, я хотел испытать тебя. Ты выдержал испытание. Спокойно ложись к пасхальному столу. Все будет, как предсказано пророками. Без тебя. И знай, Иуда, ты всегда в моем сердце».
Но он ничего не сказал. Его кроткий и беспощадный взгляд спокойно отторг последнюю – молчаливую – мольбу Иуды.
– Боже, – дрожащим голосом проговорил Иуда, – подари мне одно: дай целованием уст предать тебя врагам.
– Будь по сему, – сказал Иисус. – Но это последняя твоя просьба.
И совершил он пасху с учениками своими. Пили сладкое пасхальное вино, ели легкую пасхальную пищу. И он сказал ученикам, что один из них предаст его. Они опечалились и, не переставая жевать, стали наперебой спрашивать:
– Не я ли, равви?
Он сказал:
– Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается. Лучше было бы ему не родиться.
Он опустил руку в блюдо с вареным, крупно нарезанным карпом и стал нашаривать кусок. Иуда не протянул своей руки. Иисус уставил взор на его полуопущенные веки. Палец его укололся об острую кость. Иуда долго крепился, не подымая век, но не выдержал и полыхнул на Учителя смятенно-синим взглядом.
– Не я ли, равви? – запинаясь спросил Иуда.
– Ты сказал, – ответил Иисус и поднес ко рту кусок разваренной рыбы, розовый от крови из его пальца.
Он так и не понял, почему ученики никак не отозвались на сказанное. Когда он только произнес слово о предательстве, Петр схватился за нож. Иисус следил, чтобы перехватить его руку, если он обратит оружие против предателя. Но Петр спокойно переложил нож в руке и отрезал себе козьего сыра.
Они и раньше не всегда его понимали, поскольку он говорил притчами, обиняками – лишь такие речи осиливают время и остаются в памяти потомков, но для их простых умов даже прямое слово не всегда было доходчиво. Нередко они принимали за околичность напрямую выраженную суть. Возможно, и сейчас они полагали какой-то второй смысл за его словами, который был недоступен их усталому и затуманенному вином рассудку. Придет для них пора, когда все туманности и замутненности опрозрачнеют и сольются в единую завершенную картину. Иисус не стал им ничего пояснять. Так лучше, пусть Иуда на равных проведет со всеми эту последнюю вечерю.
Он взял опреснок, благословив, переломил и роздал ученикам. Никто не удивился, что Иуда получил свой кусок.
– Ядите, – сказал Иисус, – сие тело мое.
Они послушно принялись жевать хлеб.
Он взял чашу с вином и протянул ученикам:
– Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
Они отпивали поочередно, Иуда тоже сделал глоток, следующий в череду не побрезговал чашей после него.
– Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного До того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца моего.
И снова ему показалось, что лишь один Иуда понял истинный смысл его слов и почернел лицом, ибо знал, что не пить ему новое вино в Царстве Предвечного. Остальные, похоже, думали, что Иисус собирается выпить с ними в доме покойного плотника Иосифа, мужа его матери Марии. Никогда еще не видел так ясно Иисус, что пошли за ним люди прекрасные, но несмысленные и медлительные сердцем. Что с того, их час еще не пробил, но он уже близок. Потрясенные его исходом, они очнутся другими людьми, с обновленным разумом и душой: огненноустые проповедники, бесстрашные подвижники, провидцы, мученики за веру, а одного осенит дивный поэтический дар…
После вечери они поднялись на гору Елеонскую, и он напомнил сопутникам слова пророка Захарии: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада».
– Сие сказано о вашем Учителе. Ибо вы соблазнитесь обо мне в эту ночь.
И они, то ли снова не поняв, то ли догадываясь о своей слабости, промолчали. Лишь горячка-Петр вскричал порывисто:
– Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь!
И сказал ему Иисус:
– В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня.
Всполох поднялся, как в курятнике, куда забралась лисица. Вопили, бедные, что никогда не соблазнятся, скорее дадут себя на куски изрезать, и только Иуда молчал.
Потом пошли в Гефсиманский сад, а Иуда отстал.
Иисус взял с собой на ночлег только троих: Иоанна, Иакова и Петра – и с ними удалился под сень старых олив. Он просил спутников не спать, бодрствовать с ним в его последнюю ночь, но, отяжелевшие от пасхального стола и неспособные управлять собой, они сразу начали клевать носом, а там и задышали мерным, с присвистом дыханием сна. Он отошел от них и присел на камень.
Ночь была лунная и звездная, он видел кровли Иерусалима и задумался о людях, мирно спящих в своих домах, храпящих, чешущихся, вертящихся с боку на бок, ласкающих женское тело и не ведающих, какой грядет день. День, когда люди убьют Бога. А если б ведали? Все равно спали бы, и храпели, и чесались, и вертелись, и творили любовь, – ведь спят же его ученики, сведомые о расправе над Учителем. Неужели люди так толстокожи и лишены воображения? Или в них еще не проснулась настоящая душа – отзывчивая, жалостливая, влажная? Может, для того и будет завтрашний день: обратить полузверьевую душу, какой до сих пор обходились, в человеческую? Люди станут другими, когда он повиснет на кресте с разъехавшимися позвонками, не все, не сразу, но станут. Возраст нового человечества пойдет от Голгофы.
И вдруг что-то сломалось в нем, будто хрястнул хребет души, он увидел завтрашний день без осеняющего смысла, без света искупительной жертвы, а житейски: потная толпа, источающая чесночный смрад, сухая, горячая пыль, забивающаяся в волосы, в складки одежды, хрустящая на зубах, грубый шум любопытства, нетерпения, злая ругань из-за лучшего места – и себя, нагого, западающего от стыда в собственный живот перед этим тысячеглазьем. Какой срам! Ему, никогда не обнажавшемуся не только перед женщиной, но даже при мужчинах, висеть голым на виду огромной толпы! И там будет Мария Магдалина, и жены-мироносицы, и его Мать, и незнакомые девы и женщины Иерусалима. С содроганием думая о казни, он как-то забывал об этой казни стыдом. И, не совладав с собой, он закричал в высеребренное небо:
– Отче мой! Если можешь, да минует меня чаша сия!
Небо не отозвалось.
Он упал на лицо, раздираемый протестующим ужасом и бессилием перед Богом.
Он лежал долго, пока низкое бессилие не обернулось достоинством смирения.
– Будет, как Ты хочешь, а не так, как я хочу, – прошептал Иисус.
Он встал, подошел к ученикам и стал их расталкивать. Они мычали, вертели головами, протирали красные, слезящиеся глаза. Какие жалкие люди! И в них он думал найти поддержку.
– Я же просил вас не спать, – устало сказал Иисус. – Неужели вы не могли один час бодрствовать со мной?
– Прости, равви, – покаянно сказал Петр и зевнул так, что чуть не свихнул себе челюсть. – Мы старались не спать. Как будто кто песку в глаза насыпал.
Иисусу расхотелось укорять их, – видно, еще не властны они ни над духом, ни над плотью своей. Он оставил непроспавшихся, зевающих, кашляющих, постанывающих людей и вернулся к своему камню. Иуда не заснул бы, в нем уже пробудилась та грядущая душа, которая постигнет и этих сонь, и тех, кого он не взял с собой. А каково сейчас Иуде? Ему некому пожаловаться, как жаловался он Отцу своему, он даже имени Господа не смеет произнести. Иуде во сто крат страшнее, безысходнее. Его тело не вознесется со смертного одра в небесный чертог, а будет расклевано хищными птицами, душа уйдет в преисподнюю, а память навеки проклята. Вот чья последняя ночь воистину ужасна. Мысли об Иуде устыдили, он сказал:
– Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, да будет воля Твоя.
Он помолился светлой молитвой и оглянул ночь с тихими деревьями, тенями и бликами, с высоко поднявшимся небом. Исчезло серебряное струение, ограненные кристаллы звезд обособленно раскинулись по темной глухой глади. Удаляющееся небо дышало холодом. С телесным ознобом вернулась леденящая душу тоска.
Иисус пошел к ученикам и вновь застал их спящими. Они не проснулись на громкую, надтреснутую укоризну. Иисус оставил их в покое, хотя так нуждался сейчас в сочувственном слове. Но что поделать: люди спят, небо молчит и дышит холодом. «Иуда, лишь мы с тобой обречены бодрствовать в этот страшный канун, Иуда, брат мой и жертва, прости меня!..»
Уже под утро, вновь истомленный тоской, он в третий раз толкнулся к тем, от кого ждал помощи в свою последнюю ночь, но они беспросыпно спали, открыв глупые рты.
– Вы все еще спите-почиваете? А ведь приблизился час, и Сын человеческий предастся в руки грешников!
Он сказал это звучным, глубоким, проникновенным голосом, способным разбудить и мертвого, но рыбаки-проповедники не проснулись.
– Встаньте! – тщетно взывал к ним Иисус. – Приближается предающий меня!
Но они проснулись лишь от топота ног, стука, звяка, бряка вооруженных мечами, копьями, кольями людей, которых привел Иуда. Проснулись, хлопая глазами и словно не понимая, где они находятся и что происходит вокруг. Так, не поняв, а может, все поняв, пустились наутек и не слышали слов Иуды, обращенных к вожакам своры, которую он привел:
– Кого я поцелую, тот и есть Царь Иудейский. Берите его.
Он повернулся к Иисусу и сделал широкий шаг навстречу ему.
– Радуйся, равви! – И потянулся к устам Иисуса.
Тот взял в руки его кудлатую голову, их губы сомкнулись. Иисус почувствовал благостный запах скошенных трав, когда к ним попадает мята и душица. Воистину, уста праведников благоухают, а уста грешников источают смрад. Странные слова Иуды были понятны Иисусу: он тверд и сделает все до конца. Нежно и горестно смотрел Спаситель в лицо предавшего его. Как истаяла его плоть, а глаза провалились в череп – вот чем он оплатил эту ночь.