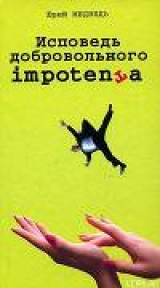
Текст книги "Исповедь добровольного импотента"
Автор книги: Юрий Медведько
Жанры:
Прочий юмор
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
15
Ну вот я и добрался до самой яркой главы моей великой повести, основанной на своей невеликой жизни. Ее строки выведут вас к вершине, что была открыта во время частного восхождения, предпринятого моей плотью и в сопровождении моего духа. Открыта, но так и не покорена. Долго я подбирался к этой главе: барахтался в светло-пуховых водах детских воспоминаний, блуждал в туманных смутах отроческих предчувствий, рвался, пришпоренный пылом юной страсти, метался по лабиринтам первых попыток осознания себя, бился в тупиках непонимания и проваливался в пропасти отчаяния. Но вот я здесь – у подножья эмоциональной кульминации. Ей посвящается эта глава: глава-Взрыв, глава-Взлет, глава-Озарение. Она не совершенна. Это всего лишь пересказ той мистерии, в которую ввергла нас пытливая, безоглядная и неприклонная юность и которую мы не решились пройти до конца.
Прелюдией к прочтению этой главы может послужить какое-нибудь видение, которое поможет взрыхлить почву ваших душевных сил, утрамбованных каждодневной толчеей. Например, представьте себе, что предгрозовой майской ночью вы покидаете лилейный уют родного дома без надежды на возвращение. Старые привязанности терзают ваше сердце жалкими призывами, но черная бездна за распахнутой дверью, озаряемая приближающимися зарницами, манит, насылая сладкое головокружение в предощущении неизведанных испытаний. Сквозь громовые раскаты пробиваются первые такты сюиты Альбиони, и я начинаю…
Она стояла на краю обрыва, устремляясь всем существом своим к мягкому летнему ветру и солнечному блеску, сыплющемуся с небес.
Оранжевый крепжоржет платица, как тончайший налет пыли, облегал ее тело.
Кожа оголенных до плечь рук золотилась. Тонкая, ровная, словно кожица созревшего томата «Эсмиральда».
Волосы, купаясь в волнах воздушного потока, казалось, источали запахи и шелест целого леса. Каштановые кущи! Они были спутаны так, что взгляд завязал в них навечно.
Груди… Груди-малышки… Груди с сосочками-зонтиками… Их трепет оглушительными фанфарами отдавался в моих висках.
Губы… Обветренные губы боятся улыбки… Губы в паутинке трещин и жеманный кончик языка, как нежное брюшко улитки, проползающий по обожженной кожице.
Курносый нос с россыпью веснушек егозил и морщился.
Чуть заметный животик подрагивал от скрываемого смешка.
Небрежно расставленые ноги, коленки со следами ссадин и крохотные ступни с налипшим песком.
Вот так она выглядела – вся как притаившаяся мина, тронь – и разнесет в клочья.
– Ну, чего уставился, стриженый? Из тюрьмы вышел, что ли? – спросила она, щурясь на солнце.
– Ага, – открыл я рот, – из армии.
– А здесь что делаешь?
– Так, покупаться, отдохнуть…
– Один, что ли?
– Один.
Она прошла мимо, по самому краю обрыва.
– А меня из пионерлагеря уволили, – сказала она и села на край, свесив ноги в бездну.
Я приблизился.
– За что? – спросил и опустился на сухую траву.
– Главную пионервожатую жабой назвала. Начальник лагеря говорит, извинись и работай дальше, а я отказалась. Меня и выперли, – она вытянула из-за уха папироску.
– А зачем назвала?
– Потому что она жаба.
Огонек спички лизнул носик папироски, обветренные губки отпустили мундштук, шумным вздохом она загнала дым глубоко в легкие, закрыла глаза и запрокинула голову. Я учуял терпкий запах ганьжи.
Выдохнула и протянула папироску мне:
– Потянешь?
Я сделал все, как и она. Вдруг нижнюю часть моих ног охватило беспокойство. Я лег на живот и стал болтать ступнями. Мы смотрели вниз, там копошились на берегу тела – тощие, жирные, красивые и уродливые, молодые, древние, бледные, красные и коричневые. Веселое зрелище. Мы хохотали до икоты. Она встала на четвереньки и поползла, я последовал за ней, почти уткнувший макушкой ей в задницу. Ветер раздувал подол ее платья, как паруса. К ягодицам прилипли сухие травинки. Из под трусиков выбивались черные волоски. Мы ползли и ползли.
– Какая радость, что я тебя встретил, – промямлил я, бодая ее сзади.
– Какая? – спросила она, раздвигая ноги и пропуская мою голову под себя.
– Неожиданная, – оветил я, проезжая ушами по внутренней части ее горячих ляжек.
Она расхохоталась, повалилась на спину, и я пополз дальше уже по ее содрогающемуся животу. Легкая и светящаяся немощность заполняла меня, и я струился весь и растекался.
– А ожиданная радость бывает? – почувствовал я ее шепот оплывающими перепонками.
– О, это уже счастье, – только и смог подумать я в ответ.
Нежность.
Из глубины моих грез пустила она стрелу-росток, на котором суждено было распуститься бутону коварному, дикой красоты с неуловимым запахом безумия.
– Ты пробовал это? – заговорила она вновь только ночью и положила мне на губы прохладный и мягкий маковый лепесток.
Мы лежали в маленьком фанерном домике в ворохе душистой травы. Сквозь пластиковую крышу просачивался размытый лунный свет. Она поднялась и заглянула в меня.
– Нет, – шевельнул я губами, и лепесток вздыбился. Она слизнула его и проготила.
– Я попробовала однажды и почувствовала, что превратилась… – она застонала и провалилась в глубину нашего душистого матраца.
Ее нагота изнывала, потягиваясь и выворачиваясь.
– …В огромное влагалище с клитером, как щупальцы у осьминога, щупальцы, которые извиваются, хватают добычу и затягивают в бездонную дыру, – выговаривала она свое видение, как заклинание.
И вдруг я понял, что сам лечу в бездну. Перед моим взором замелькали вереницы мыслей, пролетающих мимо моего мозга, я даже не успевал улавливать их смысл – я уже несся со скоростью света, затягиваемый вселенской массой Совершенного Восторга.
Дни и ночи, воздух и вода, леса и поля, их звуки и запахи – все сконцентрировалось в капельках густого молочка на бритвенных срезах маковых стебельков. Вся сила земли и вся ее грязь вскипала на дне эмалированной кружки. Металлический поршень вгонял в наши вены милликубометры таинственной вселенной, которая миллиардами крохотных озарений разгерметизировала наше унылое сознание. И наши переродившиеся тела с радостным изумлением тянулись друг к другу и переплетались изодранными венами, проникали друг в друга, выворачивались наружу, растекались и стекались в одно месиво, из которого вырывались восторженные крики обезумевших беглецов – путников к престолу Совершенного Восторга. Но успевали лишь промелькнуть по небосклону падшими звездами и, померкнув, оседали на пожухшую траву болезненными стонами. И все повторялось.
– Я больше не буду, – сказала она и, схватившись за живот, покатилась по полу в безобразных корчах.
Я старался поддерживать огонь под спасительной кружкой.
Сквозь швы на ветхих стенах нашей фанерной норы тянуло пронзительным холодом. Я вытряхнул из спичечного коробка себе на лодонь многослойный кусок марли, пропитанный маковым соком и прожаренный на солнце. Черный кирпичик источал резкий запах. Из меня горлом хлынула пена. Я выталкивал ее наружу языком, пытаясь удежать срывающуюся с шеи голову. Спасительный костерок разгорелся, и по хибаре заплясали лохматые тени.
– Последний бросок, – сказал я и выронил заряд в кружку.
– Я умираю, – давилась она блевотными спазмами.
Над кружкой появился парок, но тут голова моя все же сорвалась и закружилась на беспомощной шее, как лошадь по арене цирка, понукаемая хлопками дрессировщика. Я пытался унять взбесившуюся часть тела, но продвинуться дальше помыслов не хватало сил. Голова раскручивалась, и из всех щелей ее начала сочиться влага. Ногой я попытался дотянуться до скрючившегося рядом существа. Когда мне это удалось, я почувствовал холодную и мерзко-мокрую плоть.
– Я ухожу, – услышал я ее слова сквозь невыносимую боль, выдавливающую мои глаза из глазниц. – Я ухожу. Ты весь в крови. Мы горим!
Горел пол, горели фанерные стены, плавился потолок, гибли почти три месяца отчаянного всплеска свободы, безудержного порыва слиться с вечным оргазмом и раствориться в безвременных поллюциях Совершенного Восторга.
Она вытащила меня из полыхающей хибары, и Врата захлопнулись.
Под затихающие финальные такты моей мистерии вещаю вам из настоящего: все так оно и было. Все ушло в прошлое. Какой ужас, что все это кончилось. И благодарю судьбу, что больше такое не повторится.
16
Я нашел ее следующим летом на пятом этаже одной из питерских общаг. Она уже закончила подготовительное отделение творческого вуза им. Н. К. Крупской и готовилась стать полноценной студенткой. Она мнила себя то ли певицей, то ли дирижером академического хора, то ли актрисой. В общем, она строила планы на будущее.
За прошедшие месяцы изменился и я – уменьшился на правую почку. Тромб в кровеносной артерии привел к гибели одного из моих парных органов выделения. Операция прошла удачно. Около месяца после реанимации каждую ночь отмерял я метр за метром по пустынному больничному коридору, пытаясь отвлечься от злорадной боли в правом боку. Я был выпотрошен и опустошен. Мир потерял окраску, все мои эмоции были в коме, а жить разумом я еще был не способен. Я оставался глух к настоящему и инстинктивно тянулся к прошлому. В те кущи, в те дебри, где по всему пространству наших душевных сил свирепствовало обезумевшее вожделение. Выписавшись из клиники, я повлекся за этим призраком погибшей мечты.
– Познакомься, – сказала Маша, – это Оля, Лена и Вероника – мои сокурсницы.
Комната была странная – огромная, квадратная, под самым потолком одинокая лампочка. Вдоль стен штук пять кроватей, посередине стол, пара стульев. На столе грязная трехлитровая банка, наполовину засыпанная пеплом и окурками.
Сокурсницы стояли в глубине комнаты за завесой из сигаретного дыма.
Оля с Леной, похоже, появились на этот свет одновременно и из одной утробы. Миниатюрные, с большими, слегка перекошенными ртами и крупными носами. Лена чуть стройнее, Оля с грудью побольше.
Вероника заметно отличалась от двойняшек: высокая, с длинными мощными ногами, плечи узковаты и сутулые, от чего грудь казалась обвислой. Щербатое лицо походило на разбитую и затем неточно склеенную вазу. И огромные глаза.
Стоя в ряд, подружки смотрелись как фасад нижней челюсти оскалившейся собаки. Я стушевался. Я видел знакомый силуэт сквозь дымовую завесу и ощущал страх, мне казалось, что эта муть уже никогда не исчезнет, а наоборот будет сгущаться, до тех пор пока мы не потеряемся в ней навсегда.
Под окнами проверещал мелодичный автомобильный гудок.
– О, наш папа – шерше ля фам! – воскликнули одновременно Оля с Леной.
– Ну, наконец-то, – лениво произнесла Вероника и прошлась на своих заметных ногах. – А то я уже думала, не дождусь этого фа-фа.
– Бабоньки, а меня уже шерше, – сказала Маша, подошла, взяла меня под руку и прильнула к плечу.
Она была неважной актрисой, потому что все ощутили, как ей не хочется оставаться здесь со мной. Но, возможно, она была гениальной комедианткой, потому что, прочувствовав это острее, чем остальные, я замотал головой, замычал и выпалил:
– Нет, поезжай! Мне все равно надо идти оформляться в гостиницу. Комендант предупредил, что только до десяти часов.
– Богдан Степаныч уже предупредили, – сказала Оля Лене.
– Ну так ебтыть, – ответила Лена Оле.
И все захохотали.
– Ладно, бери своего батыра, не помешает, – сказала Оля и пошла к двери.
– Успеете потрахаться, – добавила, проходя мимо, Лена.
Вероника вышла молча, она знала, что я обернусь, чтобы еще раз глянуть на ее грандиозные ляжки.
– Слушай, я все придумала, – заговорила Маша, когда вероникины ноги исчезли из комнаты. – Мы сейчас поедем с девчонками. Ленкин муж вернулся из кругосветки и привез из Америки обалденную видеосистему, что-то навороченное. Посмотрим, а потом, когда Богдан с проверкой пройдет, вернемся. Через окно. У меня один знакомый на первом этаже живет.
– Ты все здорово придумала, – сказал я.
Она рассмеялась, но как-то нервно в пол, отстранилась, метнулась к тумбочке, схватила сумочку и вытолкала меня за дверь. Пока она возилась с замком, я вышел на лестничную площадку и стал спускаться вниз. Между пятым и четвертым этажами обосновались двое. Он и она. Оба в тренировочных костюмах. Он сидел на подоконнике, она – у него на коленях. Они целовались. Как в кино. С закрытыми глазами. В засос. Запустив языки друг другу в пасть. Рядом, в банке из-под кофе, догорали их окурки. Я прошел мимо. Он поглаживал ее юные ягодицы, бедра. На пальцах его рук поблескивали рокерские перстни черепа, черепа, черепа. Штук десять черепов паслось на ее теле. Я стал спускаться ниже. На каждом этаже на подоконнике имелась банка-пепельница. Место для курения и поцелуев. Мне стало как-то гнусно, скорее всего, меня посетила одна из разновидностей тоски. Я был чужой на этой лестнице, среди банок-пепельниц, черепов, ягодиц.
Когда я вышел в холл, Маша была уже там.
– У нас лифт есть, между прочим.
– Между прочим, все мы дрочим, – процеитировал я Нобелевского лауреата, и, похоже, не к месту.
– Что-что? – не поняла Маша.
– Слушай, я не поеду…
– Не ломайся, – оборвала она, подхватила меня под руку и повлекла к проходной. – Я покажу тебе сегодня город в белой ночи. Это здорово. Ты просто немного ошалел с непривычки.
– Молодой человек, паспорт! – послышалось позади.
Я обернулся. Из окошка будки вахтера торчал мой документ. Пришлось вернуться.
– Эта, что ли, твоя девочка? – шепотом спросила тетка-вахтер.
– Надеюсь, – ответил я и вышел в надвигающуюся белую ночь, первую в моей жизни.
Под шутки-прибаутки сестричек, писки и взвизги подружек мы разместились на заднем сиденье «иномарки». За рулем сидел коренастый мужчина с холеной бородкой и болезненными глазами.
– Папа, это машин друг. Он сегодня прилетел из Башкирии, – сказала с переднего сиденья Лена.
– Но он тоже не башкир, – уточнила Оля с заднего.
– И их дети никогда не будут башкирами, – вставила Вероника.
– В Башкирии, вообще, не бывает башкир, – внесла свою лепту Маша.
И сокурсницы рассмеялись.
– Владимир Иванович, – отозвался папуля и, не оглядываясь, предложил мне свою пять.
Я дотянулся и вложил в теплую и рыхлую ладонь свою руку.
– Игорь.
Когда рукопожатие распалось, Владимир Иванович запустил двигатель и резво тронулся с места.
Мы ехали по улицам большого незнакомого города, но я ничего не видел. Маша сидела у меня на коленях. Я ощущал ее тепло. Мне хотелось обнять ее, но стоило лишь прикоснуться, как в памяти всплывали стальные черепа, ползающие по женским бедрам. «Да что же это такое? – думал я. – Может, это отсутствие почки сказывается?»
Наконец мы проехали сквозь темную арку и остановились в замкнутом дворе. Все выгрузились из машины.
– В этом доме Пушкин жил, – сказала Маша.
– Ага, еще до восстания декабристов, а сейчас в его квартире директор рынка прописан, – продолжила Оля.
Гурьбой мы поднялись на второй этаж и вошли в высокие двухстворчатые двери. Квартира была огромной, всюду сновали какие-то люди. Буквально через пару минут я потерялся среди чужаков. Еще через минут пять я понял, что квартира двухэтажная. Наверх вела крутая деревянная лестница. По ней спускались и поднимались яркие девицы и крепкие ребята. Наверное, это были матросы, вернувшиеся из кругосветки. Повидав мир, миновав опасности и прикупив товар, они чувствовали себя уверенно и надменно. Чтобы не выглядеть потерянным, я примостился под лестницей и уставился на гигантскую маску из почти черного дерева. Сначала я просто таращился на нее, думая о том, как же мне вести себя среди новых людей, но постепенно эта странная физиономия перетянула на себя все мое внимание. Без сомнений, маску вырезал настоящий дикарь. Его не интересовали ни пропорции, ни симметрия, ни точность линий. Он был весь во власти чувств. Со стены мне в лицо смотрели мольба, проклятие и ужас.
– Ты чего здесь спрятался? – послышался позади голос Маши.
Я обернулся. На Маше были темные очки с широкими прозрачными дужками, на одной покачивался золотистый ярлычок.
– Ну как?
– На уши не давит?
– Чего-чего?
Подошла Оля:
– Это мужские, пусть лучше он померит, – сказала она Маше.
– Можно я лучше это примерю, – повернулся я к маске.
– Потом будешь чудить, сначала папа с тобой выпить хочет. Ты водку пьешь?
– Ну… – замялся я и посмотрел на Машу.
Она вертелась перед зеркалом, разглядывая себя то в очках, то без них.
– Пьет, пьет, он и водку, и спирт, и самогон пьет, – сказала Маша, срывая ярлык с душки. – Я хочу эти мужские очки. Деньги чуть позже верну, ладно?
– Ладно, пошлите к столу, – усмехнулась Ольга.
Стол был круглый, массивный. Стулья тяжелые, с причудливой резьбой и высокими спинками. Владимир Иванович наливал водку из графина в большие фужеры, чокался со мной, опрокидывал водку в рот и шумно закусывал. Кроме нас за столом больше никого не было, Маша и Оля, выпив по фужеру шампанского, ушли смотреть домашний кинотеатр фирмы SONY. Из зала, куда они удалились, доносились тревожная музыка, звериный рев, человеческие вопли и машин смех.
– У меня близкий друг был родом из Башкирии, мы работали вместе, заговорил Владимир Иванович, в очередной раз наполняя наши фужеры. – Он туда каждое лето в отпуск ездил, мать навестить. Всегда мне кумыс привозил. Любишь кумыс?
– Нет, мне больше медовуха нравится.
– Медовуха тоже полезная вещь, но кумыс просто уникальный напиток. Пашка мне настоящий, домашний кумыс привозил, малокровие лечить. Можно сказать, из могилы поднял. Да… Поднял, а сам недавно ушел. Выпьем, подытожил хозяин и опрокинул свой фужер.
Я опростал свой.
Закусили.
– Возможно, кумыс, действительно, полезней медовухи, – согласился я и добавил: – Я что-то не видел у кобылы вымени.
– Потому что у нее не вымя, а сосцы, почти как у женщины.
– Вон оно что…
– Лошадь самое чистое животное, в плане физиологии. И энергетика у нее положительная, – заверил Владимир Иванович и, оглянувшись, добавил: – в отличие от женщин.
– Наверное, потому что женщина не животное, – предположил я.
– Женщина – это зверь, парень. Поймать-то ее можно, а вот приручить нет.
Владимир Иванович оглядел стол, вытер салфеткой губы, лицо, шею, бросил промокшую бумажку в тарелку и встал:
– Все, я на покой, – повернулся и поплелся в глубь квартиры.
Вскоре он появился на втором этаже. Лицо у него было какое-то обомлевшее и глупое. Мне стало жаль бедолагу.
– Владимир Иванович, – позвал я его снизу. – Хотите, я попрошу, чтобы мои родственники кумыс вам прислали?
Владимир Иванович ничего не сказал, только махнул рукой и скрылся в глубине второго этажа.
Я встал и стал пробираться на Машин смех, который перемежался со звериным ревом. Меня покачивало. Я вошел в темный зал, где в одном углу светился огромный экран. Но перед тем как что-либо разглядеть на нем, я услышал вокруг себя всякие звуки – стрекот насекомых, вопли птиц, шорохи и чье-то учащенное дыхание. От неожиданности я стал озираться.
– Звук сераунд, – послышалось справа.
Я пригляделся. Оказалось, рядом стоял парень небольшого роста с бутылкой пива в руке. Я придвинулся поближе к нему и, стараясь всем видом подтвердить свою компетенцию в воспроизводстве звуков, произнес:
– Да – навороты.
– На Западе это уже давно ширпотреб, – задрал планку компетенции на недосягаемую высоту паренек.
– Понятное дело – это вам не кумыс из сосцов сцеживать, – ответил я.
Специалист по западному ширпотребу глянул на меня, глотнул пива и отошел. Я сконцентрировал свое внимание на диване, откуда доносились машины смешки.
Маша сидела в своих новых очках между двух парней, у которых на макушках поблескивали точно такие же. У всех троих были в руках баночки с джин&тоником. В голубоватом свете, исходящем от экрана, резко выделялись машины голые ноги. Мне показалось, что на ней вовсе ничего не было. Маша ухохатывалась над динозаврами, которые носились по джунглям на мощных, как у бройлерных кур, ногах и пожирали перепуганных людишек. Соседи, плотно подпирая ее бедра, откалывали шуточки по ходу людоедства. Маша гоготала, заваливаясь то на одного, то на другого. Шутки были глупые, но смеялась Маша очень сексуально. Водка и смех перемешались в моей кровеносной системе и забродили. Вскоре я почувствовал, что не я один испытываю потаенное вожделение. Окинув взглядом зал, я приметил, что все самцы, присутствующие на сеансе, пытались сформулировать какую-нибудь остроту. Самочкам это не нравилось, они фыркали на комментарии кавалеров и хаяли фильм. Наконец в сюжетной линии кинозрелища произошел коренной поворот – теперь люди стали истреблять допотопных рептилий. Шутки не смолкали. Хохот звенел и звенел. Ближе к финалу мне на ум пришла неплохая острота, но я воздержался озвучить ее. Я готовился сразить всех своих соперников сразу и наповал. Закончится фильм, зажгут свет, я тихонько подойду к дивану, положу руку Маше на плечо и скажу: «Нам пора домой». Но когда пал последний монстр, вместо титров на экране возникла чернокожая певица, и комната до краев наполнилася плотным музыкальным ритмом. Маша вскочила и заструилась в танце. Она превратилась в эрогенную зону, которая все расширялась и расширялась. Она всех завела. Даже Владимир Иванович на втором этаже попал под действие исходящих снизу волн и появился на горизонте. Я почувствовал, что во мне пробуждается нечто, отдаленно напоминающее предчувствие восторга. Мне показалось, что она танцует для меня одного, я видел в ее движениях тайные знаки. Она манила меня, зазывала, пыталась вывести из лабиринта сомнений. Я дико заорал, высоко подпрыгнул и пустился в пляс. Пробившись сквозь плотное кольцо танцующих, я оказался возле Маши. Мне хотелось пропитаться ее безумством, возродиться окончательно. Я обхватил ее тело и попытался проникнуть под платье, но она вдруг крепко схватила меня за руки, потом оттолкнула и заслонилась плотными телами очконосцев. Я опешил.
– Слышь, парень, может тебе проветриться? – послышалось сквозь музыку у меня в правом ухе.
Я обернулся, это был коротышка, ну, тот любитель звуковой блокады.
– Да, пойду до ветру, – сказал я и вышел из зала.
Побродив по коридору, я снова вошел в зал, пробрался под лестницу и оттуда стал наблюдать за танцующими. Маша изнывала от возбуждения. Это было восхитительно. Вокруг нее паслось все стадо. Почему же она оттолкнула меня? Стеснялась присутствующих? Но ведь раньше ей было на всех наплевать… Скоро сквозь выветривающийся хмель я понял, что это какая-то хитрая игра, цель которой мне еще неведома. Получалось, что Маша выделывала свои трюки перед скопищем самцов, соблазняя их, доводя до безумия, но рассчитывая при этом не на то, что они бросятся на нее и зальют потоками извергающейся спермы, а на нечто совсем другое. На что именно, оставалось загадкой, но я заранее испытал к этому отвращение. И еще – я отчетливо ощутил опасность. Эта опасность исходила от меня самого, будто где-то внутри моего организма появилось пустое место, которое никак не могло заполниться, как дырка в ванной, предохраняющая ее от затопления. Я все еще восхищался танцем ее тела, но уже не верил в него.
Вдруг экран погас, музыка оборвалась, и вспыхнул свет.
– Финита ля комедия, – сказала Лена, – у папы поднялось давление.
Все посмотрели на второй этаж. Владимир Иванович сконфужено почесал живот и скрылся.
К Маше подошел коротышка и стал что-то нашептывать. Она засмеялась и зашарила взглядом по залу. Я вышел из-под лестницы и направился к ним.
– По-моему, нам пора домой, – сказал я, разглядывая конкурента.
Черт! Он был старше меня на пару сотен лет! Даже сейчас не могу объективно описать его внешность, потому что тогда я ненавидел этого мужика и у меня навсегда отпечатался совершенно гадкий образ – тупое и нахальное рыло, квадратная голова, волосатая грудь и толстые кривые ноги.
– Стас, довезешь нас? – проворковала Маша, томно потягиваясь.
Она продолжала свою гнусную игру.
– Легко, – отозвалась обезьяна и, запустив волосатые ручищи в карманы брюк, забренчала ключами.
– Хотелось бы взглянуть на город в белой ночи, – вскользь бросил я.
– Тогда тебе придется меня нести, – сказала Маша и повалилась на меня. – Я отрубаюсь.
Она была горячая и потная. Я присел, обхватил ее обеими руками чуть выше колен и резко встал.
– Мама! – взвизгнула Маша и повисла у меня на плече.
Я понес ее в прихожую. Стас остался в зале.
В дверях нас провожала Ольга. Она принесла из холодильника две банки джин&тоника. Маша тут же откупорила свою и приложилась.
– Не загрузил тебя наш папашка? – осведомилась Ольга, пока Маша утоляла жажду.
– Нет, 350 для меня не проблема, – сказал я и вскрыл джин&тоник.
Маша оторвалась от банки, громко отрыгнула и захохотала.
– Фу, животное, – притворно-брезгливо сказала Ольга.
Мне показалось, что она завидует Маше, потому что она так здорово визжит, танцует, хохочет, рыгает, но больше всего из-за того, что вокруг нее увивается эта волосатая тварь по имени Стасик.
– О, точно, я же поссать забыла, – отреагировала на замечание подруги Маша и юркнула в туалет.
В конце коридора показался Стас.
– Кто это? – спросил я Ольгу, когда он прошел на кухню.
– Купец, шмотки у Ленкиного мужа на реализацию берет, – ответила она и зевнула.
Вышла Маша.
– Хороший мужик твой папашка, – заверил я маленькую хозяйку. – Я ему обязательно кумыс привезу.
– Передам, – сказала Оля, и мы пожали друг другу руки.
– Я готова, – сообщила Маша.
Подружки поцеловались, и мы удалились.
Маша выскочила на улицу первой и запустила пустую банку в мусорный контейнер.
– Видишь, – закричала она, запрокинув голову, – два часа ночи, а хоть газету читай.
Газеты под рукой не оказалось, и я просто уставился в жидко-бледное небо. Ночь отсутствовала.
– Пошли, – потянула меня Маша. – До Кировского придется пешком. Зато посмотришь, как мосты сводить будут. Там тачку возьмем и поедем.
Она изображала из себя гида – знатока достопримечательностей. Там, на озере, она так же вводила меня в курс дела, но там-то она была полноправной хозяйкой, властительницей черной ночи. А здесь, под этим чахлым небом, на узких пустынных улицах, она напоминала испуганную зверушку, которую принесли в незнакомую квартиру, и теперь ее разбирали чувства страха и любопытства.
Странное это было путешествие, мы шли молча, разглядывая беспросветную вереницу домов и прислушиваясь к собственным шагам. Наконец мы выбрались из лабиринта узких улиц на широкий проспект.
– Вот прямо перед нами Адмиралтейство, слева Исаакиевский собор, справа Дворцовая площадь, – размахивала руками, словно регулировщик, Маша. – Это Эрмитаж, в нем цари жили, Александрийский столб с ангелом на верхушке, а это начало Невского проспекта, я тебя в самый центр города привела…
– Слушай, давай поженимся, – неожиданно для себя самого предложил я.
Маша сначала не поняла, но когда до нее дошло, ей стало неприятно, потом неловко, в конце концов она рассмеялась.
– Ты за этим меня разыскал?
Нет, конечно, я об этом и не думал, но что-то же я должен был предпринять. Интуитивно я чувствовал, что стоит за этой восторженностью перед соборами, площадями, проспектами, столбами, гранитными ангелами, бронзовыми царями. На всей этой монументальности держалась ее новая жизнь. Жизнь богатая и бедная, веселая и скучная, разносторонняя и однообразная, полная радостей и тревог, болезней, здоровья, смеха, слез, секса, войн, мира, перемирий. Всего-всего, но только не Совершенного Восторга. Совершенному Восторгу не нужен ни кумыс, ни темные очки, ни Невский проспект. Его мосты не разводятся и сводятся по расписанию, они просто сжигаются.
Мы шли по площади, а у основания Александрийского столба в полном одиночестве стоял какой-то чудак и выдувал из саксофона протяжные звуки. Бесформенная мелодия то вскарабкивалась на верхние регистры, то вдруг срывалась и повисала на нижней ноте.
– Понимаешь, – вдруг заговорила Маша, – я хочу здесь остаться. Но для этого нужно сначала закрепиться, обустроиться. А если мы сейчас поженимся, что тогда? Где мы будем жить, например?
Маша старалась говорить мягко, нежно. Наверное, она поняла, что я потерян, что хочу удержать ее, а вместе с ней и свою несбыточную мечту. Ей так стало жаль глупого теленка, что она крепко обхватила меня за шею и стало тихо целовать. Я чувствовал слезы на ее ресницах и сознавал, что это слезы прощания.
– Ой, смотри, сходятся! – вдруг очнулась Маша и бросилась к Неве.
Вне себя от радости она вскочила на гранитный парапет набережной и замерла в предвосхищении механического аттракциона. Впереди, на фоне розовеющего горизонта стали сходиться крылья моста. Мимо нас шли люди, все больше парочки. У всех был одинаковый трогательно-жалкий вид. Мне казалось, что и они тоже оглушены странной мечтой стать частью это города. Города беззвездных ночей и располовиненых мостов. Они надеялись, что он полюбит их и примет в ряды своих обитателей. О, я чувствовал силу его обаяния! Моя девочка была вся в его власти. Прохладный, водянистый ветер с Невы игрался с ее волосами, бесцеремонно ворошил подол платьица, гладил голые коленки, а она с бесстыжей готовностью подставляла ему свое тело. И тут я понял суть ее предательства: она превратила свое тело, свое вожделение в орудие массового поражения, с помощью которого и надеялась покорить этот огромный город. Да, именно город, а не Совершенный Восторг. Пустота внутри меня увеличилась.
– Бежим! – неожиданно очнулась Маша и помчалась прямо по парапету. Такси! Такси!
Я рванулся за ней с одним желанием – догнать, схватить и утащить туда, где черные ночи, где сочные звезды, где она была моей сообщницей в битве за Совершенный Восторг.
Таксист содрал с нас червонец.
В ту белую ночь я стал импотентом-добровольцем. Маша позаботилась, чтобы мы остались одни в квадратной комнате. Она завесила окно шерстяным одеялом, очень похожим на армейское. Я сел на кровать и стал возиться со шнурками, наблюдая за ее хлопотами. Маша стянула с кроватей на пол два матраца, постелила простыни, бросила подушку и стала раздеваться. Я смотрел на ее тело. Я знал его досконально. Все было на месте – каждая линия, каждый изгиб, потайная складочка, сустав, волосок, ноготок…
– Я соскуцилась, – как-то странно проворковала Маша, подражая маленькой девочке, и я ощутил запах перегара из ее рта.
Она добилась, чтобы мой член отвердел, оседлала его и поскакала. Я кряхтел, стонал в такт ее прыжков, тискал груди, теребил соски, но перед глазами у меня мелькала маска дикаря, а в голове зудела аморфная мелодия саксофона. Вы можете смеяться, но я никак не мог понять, ради чего мы занимаемся таким трудоемким делом. Маша насаживала себя на мой член, пытаясь ухватиться за хвостик ускользающего оргазма. Ей просто было необходимо поймать эту юркую тварь и прикончить, как появившуюся на кухне мышь, чтобы спокойно и сладко уснуть. А я тужился, стараясь удержать ствол в вертикальном положении, дабы выглядеть дееспособным самцом. Сначала мне стало смешно, потом обидно, обиду сменила досада, за которой стояла злость. Влагалище на моем члене стало сжиматься, все тело Маши напряглось, ягодицы стали как каменные. «Сейчас она приостановит дыхание и кончит, – подумал я – Это конец». И вот что я сделал. Я расслабился и мой член рухнул. Маша попыталась воткнуть его обратно, но у нее ничего не получилось. Она повалилась рядом и распласталась, переводя дыхание.







