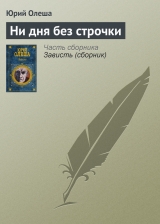
Текст книги "Ни дня без строчки"
Автор книги: Юрий Олеша
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Я моюсь ледяной зимней водой под краном. Здесь, в кухне, тоже ночь, но в окнах, может быть потому, что лампа здесь слабее, все же я вижу как будто признаки дня, пока еще темно-синего, как железо.
Какие-то гудки вдали, от которых делается печально, настолько печально, что печаль эта кажется непоправимой. А тут еще нужно идти в гимназию!
После стакана чая становится легче. Кусок хлеба с маслом, о которое пачкаешь пальцы. Как крепко спят за белой дверью папа и мама! Кажется, что их вообще нет – такая тишина за дверью. Только вытянутые губы замочной скважины – единственное, что живет в этой двери. Может быть, вообще нет ни папы, ни мамы – я один? Ни бабушки, ни сестры – один? Кто я? А? Кто я? Тот, на кого я смотрю в еще темное, как вода, зеркало, не отвечает. Там лицо, в зеркале нечто удивительное – лицо с двумя… С чем – с двумя? Что это, глаза? Почему их два – а смотрит на меня кто-то один, я? С чем сравнить глаза? Они молчат и смотрят. Молчат, а кажется, что говорят. Что это?
Есть папа и мама, есть и бабушка, есть и сестра… Есть день, который уже стоит на всех улицах, в переулках, даже в парадных, когда я выхожу из дому – белый, грязноватый день в ноябре, исчерченный ветками, но чем-то приятный. Не тем ли, что на афише нарисован клоун и что он – суббота, оканчивающаяся цирком?
Маршрут был неизменно один и тот же. Выйдя из ворот нашего дома на Карантинной, я шел налево до пересекающей Греческой, затем направо по Греческой, по Строгановскому мосту, и все по Греческой вверх до Ришельевской. Здесь направо один квартал по Ришельевской – и налево Дерибасовская.
Это был главный отрезок пути. По величине и по значению. Дерибасовская была главной улицей Одессы, лучше других отделанная и с лучшими магазинами.
Я почти всегда спешил, боясь опоздать, и, насколько помню, опоздал только один раз за восемь лет учения.
Путь был обставлен ритуалами, пронизан суеверием, заклятиями. Так, например, следовало не пропустить некоторых плиток на тротуаре, во что бы то ни стало ступить на них. Или стоявший на Дерибасовской огромный старый дуб следовало обойти вокруг… Иначе в гимназии могли бы произойти несчастья – получение двойки или что-нибудь в этом роде.
В магазине кожаных изделий Чернявского стояла модель лошади. Может быть, и не модель, а просто чучело. Да, пожалуй, именно чучело, уж очень, как у живой, торчали на ней отдельные шерстинки.
Это была поджарая с тонкой шеей лошадь, каких у нас я не видел, по всей вероятности, так называемый гунтер, охотничья лошадь. Она была оседлана. По обе стороны висели стремена – по обе стороны картонных, как казалось, боков. Ужасно хотелось сесть в седло, вдеть ноги в эти стремена. Мне кажется, что я до сих пор вижу глаз этого гунтера, огромную, блестящую черным, пуговицу…
Я не имел ни малейшего представления о том, как создаются стихи. Я был гимназист – стихи мы учили наизусть: Пушкина, Лермонтова, Плещеева, басни Крылова, Дмитриева, силлабические стихи Кантемира, стихи Майкова.
Майкова «Кто он?» – о Петре Великом, как он скачет по глухим местам в районе строительства Петербурга и, встретившись с крестьянином, разговаривает с ним.
Я помню:
Ехал всадник, пробираясь
к светлым невским берегам.
Выученное наизусть декламировали, стоя у кафедры лицом к классу.
– Прочтите стихи.
И мы, морщась и моргая от желания вспомнить и прочесть до конца, читали.
Басню декламировали с выражением, немного бабьим, поучительным, пожалуй, в стиле Малого театра (хоть мы, будучи одесскими мальчиками, мало что о нем знали).
Когда я был гимназистом, фамилия Маяковский была мне уже известна, но не как фамилия поэта, а как страшное слово – это была фамилия очень строгого преподавателя.
Он преподавал историю.
Обычно грозой гимназии бывали преподаватели латинского языка. Это понятно. Латынь – это предмет, требующий ежедневного, неукоснительного изучения, требующий ни на мгновение не исчезающего внимания… Стоит не сообразить, куда вдвинут хотя бы ничтожнейший шурупчик из этого языка-машины, как вся машина в скором времени рушится, погребая под собой несчастного школьника. Отсюда и страх перед латинистами. История – как раз предмет, если можно так выразиться, длительный, льющийся, обходящийся без того, чтобы внимание было постоянно напряженным. И тем не менее преподаватель, которого звали Илья Лукич Маяковский, вселял в нас тот ни с чем не сравнимый гимназический страх, который имеет свойство, уже будучи понятным, все еще жить в нас и проявляться, например, во сне, когда мы уже далеко ушли от гимназического возраста.
Страшный преподаватель как раз выглядел красиво: в ярко-синем мундире, желтолицый, как монгол, и с косыми, по-монгольски же, скулами, но не худой, а гладкий, с черной бородой – нечто вроде Бориса Годунова.
Вот он входит в класс. Когда сорок мальчиков одновременно встают, причем откидывая специально для этого приспособленную доску парты, звук получается довольно внушительный: похоже на короткий порыв ветра. Маяковский вносит в комнату, где сорок мальчиков, свои черные глаза, синее пятно своего мундира и ту тишину, которая наступает в испуганном классе…
Для меня было совершенно неожиданным услышать на первом уроке латинского языка, что на этом языке говорили римляне.
– Язык наших предков римлян, – сказал директор гимназии, обычно преподававший латынь именно в первый год ее изучения, во втором классе.
Теперь мне кажется странным, почему директор назвал римлян нашими (то есть русских мальчиков) предками… Это, впрочем, не важно, он выразился общо – предками, имел он в виду, нашей цивилизации. Но «римляне говорили по-латыни» – это было неожиданно, удивительно!
Как? Вот эти воины в шлемах, со щитами и с короткими мечами – эти фантастические фигуры, некоторые с бородами, некоторые с лицами, как бы высеченными из камня, – говорили на этом трудном языке?
По-латыни, знал я, говорит во время богослужения ксендз. Ксендз был фигурой из мира тайн, страхов, угроз, наказаний – и вдруг на его же языке говорят воины, идущие по пустыне, держа впереди себя круглые щиты и размахивая целыми кустами коротких, похожих на пальмовые листья, мечей? Это было для меня одной из ошеломляющих новинок жизни.
Я не знал еще о переходе латыни к церкви из Древнего Рима.
От него свежо пахло одеколоном, бородка была чистая, солнечная. Клянусь, он искренне казался мне красивым… Этот синий мундир, эта изящно поворачивающаяся небольшая голова! Я ловил себя на том, что мне хотелось бы, когда я вырасту, быть таким, как он, как «Штрипка»!
Он преподавал латынь.
У него была голова Петра I на небольшом, причем апоплексическом туловище. Он был, пожалуй, более щекаст, чем Петр. Он носил какой-то особенно синий, скорее голубой, чем синий, мундир с ярко выраженными полами, которые развевались, когда он шел по коридору сквозь мед солнечного света.
Знания его по литературе, конечно, были ничтожными. Он вызывал, спрашивал, ставил отметки. Как он преподавал – не помню.
Учение уже подходило к концу – седьмой класс. Мы уже царствовали в классе – преподаватели ко многим подлизывались.
Теперь мне кажется, что он был похож не только на Петра I, но еще на толстую, с серьезно недоумевающим взглядом девочку. Вот я закрываю глаза, и он сидит на кафедре с черными, блестящими, откинутыми назад волосами, с маленькими розовыми комками ручек и напластованиями недоумения на лбу.
Математику преподавал Николай Васильевич Акимович. Он был в чине статского советника – на синих петлицах его тужурки сидело, значит, по звезде. Об этих звездах только и скажешь, что они сидели. Пушистые, из тоненькой серебряной нити – верно, они сидели, как сидят снежинки.
Акимович был наш знакомый – папы и мамы.
– Статский! – вдруг слышалось в передней восклицание папы. Это пришел, значит, Акимович.
Чаще всего это было связано с тем, что вечером будут игры в карты. Обедали. Жутко было видеть преподавателя, так сказать, замиренным. Седая борода вдруг оказывалась в кулаке. Он начинал вдруг смотреть на меня. Нет, нет, не с тем, чтобы к чему-то притянуть меня! Наоборот, он шутил!
– Статский, – говорит папа, – а пива выпьем?
Меня посылали за пивом. Акимович уже был под хмельком. Он пытался сострить по поводу того, что я иду за пивом. В общем, это был человек добрый, не сухарь, не мучитель – наоборот, хороший, его любили…
Где продавалось пиво? Кажется, в тех же бакалейных лавках, где продавалось и все. Пиво Енни!
– Нет, нет, только не Енни! – кричал папа вдогонку. – Санценбахера!
Маленький отрезок цветущей улицы вел к бакалейной лавке. Угол, выступ большого дома, ступеньки вниз. Сбегаешь. Вот она, лавочка! Вот бакалейщик… нет, жена бакалейщика! Она по ту сторону бочек с крупой, с мукой, с рисом. В каждой бочке большой деревянный сухой-сухой совок.
Французский язык преподавал Витман, по имени-отчеству Пантелеймон Карлович. Не совсем обычное имя не только для русского, но и для француза. Считалось, что он эльзасец. Он был превосходный человек; не вступавший с гимназистами ни в какие конфликты, без тени формализма, чиновничества и прочего, что у других преподавателей рождало просто садизм.
Мы все очень боялись директора. Он действительно был какой-то страшный. По внешности это был сухопарый с козлиной бородой, высокий изможденный господин, ходивший по сияющим коридорам как-то летя.
Иногда он внезапно, что всегда было похоже на завершение некоего грозного порыва, входил в класс.
Фрр!
Это встают сорок мальчиков. Сорок лиц смотрят на дверь. Он стоит мгновение в дверях, как коршун, если бы коршун был высок и взвивался на дыбы.
Тук-тук-тук-тук…
Это мы садимся.
Он идет высокий и прямой, но с тенденцией сгорбиться как бы под ношей сознания того, как скверны, как подлы мы, ученики. О, он был очень театрален. Каждый шаг его был рассчитан, должен был пугать.
Зачем он, например, пришел?
Преподавал гимнастику в гимназии борец Пытлясинский. Это был экс-чемпион мира, старый конь, вернее – бык, хотя и не бык, скорее – кит, поставленный на хвост. И не кит! Просто старый борец, ходивший не в трико на полуголом теле, как это бывает на арене, а в дешевом штатском костюме, в тройке, и что он борец, было заметно по нечеловеческой ширине плеч, выпуклым икрам, маленькой голове.
Мы были знатоками цирка, появление Пытлясинского ожидалось нами сенсационно.
– Пытлясинский!
Он появился перед шеренгой, выйдя из маленькой ниши в стене, окружавшей двор: вышел, как ходил на арене, привычным атлетическим шагом, пружинисто. Он был необыкновенен, странен, заманчив, и вместе с тем лицо у него было простое, солдатское, лицо польского крестьянина – с борцовскими скулами и усиками, но такие же скулы и усики могли быть и у матроса.
Это были последние годы перед рождением спорта в его современном виде, этой международной новинки, которой суждено было впоследствии так ярко засверкать перед миром. Тем более не имела широкого распространения гимнастика в школах. Пожалуй, и соколиная гимнастика появилась позже того дня, когда экс-чемпион мира стоял перед нашей шеренгой. Я описываю эпоху 1910–1912 годов… Кажется, впрочем, уже вертят пражские соколы свои деревянные бутылки с крашеной нашлепкой на тонком горлышке…
Как бы там ни было, но в царское время еще не знали в точности, что такое гимнастика и зачем она. Вот решили привлечь к преподаванию ее бывшего борца, попробовать. И он не знал, как это делается, и он вышел к нам со смущенным выражением. И тут он открыл страницу моей жизни, настолько удивительную, что, перелистывая книгу, я то и дело останавливаюсь именно на ней: Пытлясинский стал учить нас прыгать.
Принесли две высокие, неподвижно вставленные в крестовины штанги, принесли длинный, с двумя тяжелыми мешочками по концам шнур. В штангах были идущие кверху фабрично просверленные отверстия – в одно из них борец воткнул прошедший насквозь деревянный катышек, такой же воткнул и в противоположно стоявшую штангу…
Мы поняли.
– Шнур! – пронеслось по шеренге. – Шнур!
И шнур повис на катышках, протянутый между штангами, как повисает лента финиша. Два мешочка, тяготея к земле с обеих сторон, натянули его до блеска.
Ракетки выдавались в так называемой грелке инструктором Иваном Степановичем, который вынимал их из шкафа, подхватывая вываливавшиеся одновременно баскетбольные мячи, какие-то большие тапочки, большие кожаные перчатки.
Он не любил выдавать ракетки – самый ценный товар из своего хозяйства. Ему представлялось, что обязательно ракетка будет повреждена, оказавшись в руках этого неосторожного грубого гимназиста… В самом деле, вдруг сверкнувшее золото струн сообщало ракетке вид какой-то особой ценности, принадлежности к какому-то особому миру красоты…
Выдавались также два мяча, очень шаровидные, очень тугие – два маленьких белых шара с затаенной в них страшной силой удара и полета, которые тотчас же оказывались на струнах, тотчас же начинали подпрыгивать, отчего струны пели.
Иван Степанович, хоть и был инструктором по спорту на этой гимназической площадке, был все же в преподавательском персонале и ходил в учительской тужурке и фуражке.
– Осторожно, – предупреждал он, провожая взглядом ракетку, – смотри, осторожно!
По ту сторону двери грелки стояло лето во весь рост трав, цветов, деревьев. Тень тополя летела на меня, как дирижабль…
Попечителем одесского учебного округа был Щербаков. Это был горбун, которого я видел один раз в жизни – он вошел в многоугольнике синего мундира, далеко, как все горбуны, выбрасывая руки, ниже всех, кто шел вместе с ним, но шире, именно так – многоугольная фигура с маленьким плугом груди под самым подбородком.
Он присутствовал на уроке. Ученики отвечали, он слушал. Все время я видел кисти его рук – то впереди его лица, когда они походили на две половины незатворенных и ходящих под ветром ворот, то разбросанными в разные стороны, когда…
Этот отрывок так и останется неоконченным. Сиди, горбун, за зеленым столом с двумя жирафами пуговиц мундира, с синим бархатом петлиц, покрытых пылью, и со звездами статского советника среди этой пыли, звездами-сороконожками.
Да здравствуют краски!
Протопоповых было два брата, один в более высоком классе. По всей вероятности, это были болгары. И Ляхницких было трое. Сперва в нашем классе был только один – как раз Володя… Два старших его брата были в старших классах. Но постепенно все братья соединились, так как два старших все отставали и отставали. И вот трое Ляхницких сидят у нас на задних партах, все похожие друг на друга, хохочущие обезьяньими ртами. Война. Один окончил гимназию досрочно, стал офицером, нес в Одессе караульную службу. Вдруг узнаем мы, что он застрелился во время дежурства – выстрелил себе в рот. Потом белогвардейщина. Протопопов погиб на Дону за власть помещиков и капиталистов. Где Володя Ляхницкий, это неизвестно мне, скрыто от меня, но я вижу его в виде быстро извивающейся по листу линии… Вот, вот, смотрите! Вот уже человечек появляется на бумаге, вот собака, вот шарж на Сережу Протопопова, который, конечно, рисует лучше меня!
Из всех красок самая красивая – кармин. И название ее прекрасное и цвет. Почему она называется – кармин? Это какие-то моллюски? Что может быть приятней, чем держать в руке кисточку, которая только что зачерпнула кармину! Вот сейчас он начнет ложиться на александрийскую бумагу, рождая лепесток мака – язычок, почти шатающийся на бумаге, как под ветром…
Меня сейчас интересует только одно – научиться писать много и свободно. Пусть это будет о краске кармин или о маке, пусть это будет…
Пусть это будет рассказ об уроке рисования в гимназии, когда мы, сидя в актовом зале, рисуем с натуры чучело ястреба. Учитель рисования, Иван Архипович Архипов, пшеничный блондин в почти голубом мундире, который развевается на нем, ходит среди нас и говорит каждому слова одобрения.
– Эва, наливает! Глядите-ка, эва! – восклицает он, останавливаясь возле Коли Данчева.
Он особенно любил Колю Данчева.
Коля Данчев – болгарин. В Одессе их много, болгар, целая колония. Кроме Данчевых – Рашеевы, Болгаровы, Гулевы, Увалиевы. Данчев небогатый, однако все же помещик, мы дразним его по поводу именно его принадлежности к богатым. У него крупный, часто подвергающийся насморку нос, он сильный мальчик, даже несколько развинченный, какими бывают как раз сильные мальчики…
Я всю ночь рисовал и писал акварелью эту картинку для украшения программки, которую завтра на концерте, предполагалось, преподнесут кому-то из высокопоставленных приглашенных. Мне кажется сейчас, что я рисовал богатыря, рубящего мечом медведя. Самокиш-Судковского? Васнецова? Очевидно, я рисовал и писал красками неплохо, если эту программку на другой день предполагалось преподнести знатному гостю… Не помню, как я рисовал и писал. Помню, что я устал, что слипались глаза… Помню богатыря с бородой, под шлемом. Помню, что сижу за обеденным столом, один, в спящей квартире – один; сзади, за спиной, окна, выходящие во двор, ночь. И лицо богатыря под шлемом, и страх нанести ошибочный штрих тонкой кисточкой, берущей блестящую зеленую или кармин. Сзади окна, а чуть дальше Строгановский мост над поросшими травой улицами порта, еще дальше пароходы, пришедшие из Италии, Англии, спят в каютах негры. И где-то спит в своей комнате, которую я никогда не видел, Поля Аушева, гимназистка с белым твердым лицом, с белым твердым носиком, небольшого роста, с глазами, которые сейчас смотрят на меня из-за обоев.
Поля Аушева! Она несколько лет спустя стала актрисой, плохой актрисой районного, как бы теперь сказали, театра. Тем не менее я ждал того часа, когда, поднимаясь по Греческой улице, я пройду мимо ее окна – по ту сторону улицы – и увижу ее в окне, всегда садившуюся к этому часу к окну и отвечавшую мне на поклон.
Милеев рисовал, подражая Врубелю. Собственно, не рисовал – писал акварелью. Небольшие листки александрийской бумаги, на них изображения чего-то вроде Берендеева царства, как его изображают в опере или выжигают на шкатулках. Сходство с Врубелем усматривалось, вероятно, в том, что на листках, густо покрытых красками, было смешано лиловое с белилами. Белила, как известно, чужды акварели, и наличие их казалось поэтому экстравагантным, левым. Вот и Врубель! Разумеется, мы, сидевшие в классе, мало разбирались в именах современных нам художников; о Врубеле говорил учитель рисования, выделявший среди нас Милеева именно как последователя Врубеля. В этом альянсе учителя с учеником было нечто раздражающее, в особенности это касалось меня: я чувствовал, что то жреческое высокомерие, которое проявлял Милеев по отношению к нам, ни на чем не основано. Наоборот, я чувствовал, что он бездарный и что нет ничего легче, как показаться гением, подражая левому.
Он серьезно верил, что он гений. До сих пор помню, как рассматриваются его картины, похожие, как я теперь понимаю, на оперные эскизы. Это был десятый, сотый отголосок того Врубеля, который и сам не кажется замечательным, – Врубеля принцессы Грезы.
Я этого Милеева видел уже во времена, когда гимназия осталась далеко позади. Он был отечный, надутый, больной, дающий классический тип непризнанного человека. Конечно, я спрашивал его, что он теперь делает, чем занят; он отвечал мне что-то, что по содержанию и по тону было направлено главным образом, чтобы парировать мою атаку на него, которой вовсе и не было.
В классе нашем между тем были поистине одареннейшие два художника, причем не проявлявшие себя в каких-либо акварелях, где можно в конце концов быть и неточным, производя все же впечатление, а работавшие пером. Это были иллюстраторы, карикатуристы, как теперь думаю я, блестяще владевшие этой манерой – трудной манерой, требующей настоящего мастерства. Ведь им было всего лишь по семнадцати лет! Одного звали Сережа Протопопов, другого – Володя Ляхницкий. В них было прелестно то, что каждый из них говорил именно о другом, что вот он как раз хорошо рисует, а я как раз – ерунда. Сережа Протопопов был некрасивый той чарующей некрасотой, которая и выдает гения: он шепелявил, хохотал малопоместительным ртом, что заставляло его по-старушечьи морщить свое молодое лицо… Володя Ляхницкий был обезьяновидный мальчик, тоже любивший хохотать, тут уж во весь весьма поместительный рот – от уха до уха, – любивший разыгрывать, но вместе с тем и показывавший то и дело доброе и большое сердце.
– Вот! Вот как Сережка рисует! – восклицал он, потрясая рисунком со стекающими чернилами.
Я дивился им обоим, и когда я теперь думаю о тех деятелях в области таланта, которых я знал, то я готов прийти к выводу, что те двое, два странных, юных, небрежных, хохочущих мальчика, – мастера, что именно они вьются где-то и летают где-то с трубами на углах хартии моей жизни – жизни художника.
Сережа Тодорович был одним из красивейших в классе. Пожалуй, он был несколько полноват для юноши… Правда, правда, мы иногда посмеивались над его толщиной, хлопали его по заду. Нет, все же красивый: этот профиль с филигранным носом, эти выпуклые голубые глаза…
Мы сидели на одной парте. Он учился плохо, списывал у меня письменные работы, получал за это единицы. Он хохотал, не терял веселого расположения духа. Его даже не слишком расстраивал вечный триппер. В почти голубой форме, с лакированным дорогим поясом, изящно полный, живущий в хорошей квартире, где папа был прокурор, он в общем процветал, был счастлив.
Он был нежно глуп, – вот что я о нем сказал бы, – нежно глуп.
Скшиван был болезненный мальчик, очень болезненный, что проявлялось иногда у всех на виду, когда вдруг во время урока с ним происходила дурнота, оканчивавшаяся рвотой. Он был поляк, звали его Фаддей, то есть, по-польски, Тадеуш, с характерным для поляков рисунком губ, как бы постоянно сложенных для причмокивания, бледный, с желтоватостью на скулах, волосы пегие.
Директор, вообще хам и еще щеголявший хамством, относился к Скшивану с какой-то даже подчеркнутой вежливостью, не знаю – почему: тот не принадлежал к богатому или бюрократическому семейству… Возможно, здесь играла роль какая-нибудь интимная причина, какая-нибудь далеко стоявшая от гимназии и гимназистов женщина, близкая директору…
Один из сидевших на первой парте в среднем ряду – по фарватеру, так сказать, впереди меня – был Сперанде. Это был маленький, миниатюрно сложенный мальчик, очень быстро и притом так заманчиво бегавший, что каждому хотелось его поймать. За ним постоянно бегали в коридорах и во дворе – бегали гимназисты разных возрастов, а иногда и некоторые из учительского персонала. Так и остался в моей памяти Сперанде убегавшим от кого-то… И все кричат со всех сторон:
– Спирка! Спирка! Скорей! Спирка!
И Спирка с визгом проносится в разных направлениях, влетая в голубое пространство между двумя акациями, перепрыгивая через деревянную ступеньку и даже, что запрещалось, выбегая на улицу, где сразу же и преследуемый, и погоня окаменевали. Уже шагом, отдуваясь, возвращались они во двор…
Он был, вероятно, маленький грек, этот Сперанде, Спирка. Впрочем, масть его была желтая, носик острый – может быть, и не грек! Так и бегает в моей памяти Спирка, наверно, давным-давно убитый на Дону среди белогвардейцев или, наоборот, среди солдат латышской дивизии. Возможно, он и живет где-нибудь в Афинах, служит, может быть, в греческой полиции или имеет лавочку, и тоже, может быть, как и мне, снится ему иногда гимназия, тот уголок, полный влетающих в него благоуханий, где гимназисты, расхватывая шинели, толпились, ругались, целовались, зная, что сейчас выбегут на улицу и полетят на крыльях акаций.
Куда шел Лукашевкер? Что ж, домой, завтракать. Это было как раз в полдень, чуть позже, когда солнце поворачивалось под куполом. Лукашевкер понес свое полное тело впереди меня, поскольку уже попрощался со мной. Понес свое толстое тело в форме гимназиста среди клумб и стеклянных шаров этого великолепного барского палисадника, понес его по направлению к парадному, прохладно и богато черневшему по ту сторону клумбы с ее скульптурой лилий и гладиолусов.
Несколько лучше, чем сейчас, чувствовал я себя в те минуты, когда входил в квартиру Гришки Зильберберга. Вместе с ним, с Гришкой Зильбербергом, шел к нему в гости…
Я чувствовал себя, вероятно, очень хорошо, поскольку я был совсем юн, мальчик, здоровый мальчик, хорошо учившийся и чувствовавший, что впереди много интересного. Зильберберг-отец был богатый человек: у Гришки, например, была собственная комната. Нас встретил беспорядок в этой комнате – я сказал бы, желтый, деревянный, не мучительный, а скорее привлекательный беспорядок. Мне кажется, что даже была в комнате оставшаяся от детства лошадка на двух желтых деревянных дугах – для того, чтобы на ней кататься.
Полное ничтожество даже в гимназическом плане. Правда, красивый парнишка, с золотистыми волосами и черноглазый. Фамилия его была Шиян.
– Павка Шиян!
Так фонетически и выскакивает он иногда из самых неинтересных складок сознания – только фонограмма, запись даже не его голоса, а чьих-то других голосов, зовущих его:
– Павка!
И вдруг появилось и изображение… Солнечный день, спуск по Греческой, от Пушкинской к Польской, мимо ворот и кондитерской Меллисарато – солнечный под деревьями кусочек улицы, и мы на этом или, вернее, в этом кусочке – нас несколько, мы молодые, но не могу назвать всех.
Это очень давно, очень! Другой строй, другой мир! Это война, это царь, это ризы, это иконы, которые везут в экипаже, большие темные лики по соседству с лампасами и кителем полицмейстера, это синие купола подвория, это матросы с усиками, с бочкообразными грудными клетками…
Это два матроса, которые идут по спуску мимо кондитерской Меллисарато навстречу нам.
– Подлец! – говорит Павка Шиян одному из них. – Подлец!
Павка Шиян два или три дня тому назад стал офицером.
Золотая голова, золотые погоны, золотая тужурка…
– Подлец!
– Виноват, – говорит тот с усиками, красавец, чистый, розовый, с ласковыми усиками. – Ваше благородие, виноват.
Оба стоят навытяжку, зрелые люди…
Мы поджидали его появления, и когда видели, что вот он уже близко, занимали позиции с таким расчетом, чтобы и продолжая свой путь, он встретил на нем каждого из нас – одного, потом другого, потом третьего, – и каждый из нас, трех мальчиков, стоял во фронт, отдавая ему честь.
Генерал с чрезвычайной серьезностью и вежливостью отвечал нам. Генеральская шинель вдруг под влиянием ли ветра или от какого-либо движения показывала свою красную подкладку, и это было как раз в то мгновение, которое нас радовало больше всего. У генерала были не слишком седые усы с подусниками, что делало его похожим на Александра II. Его фамилия была Игнатьев – может быть, это был какой-либо родственник автора «50 лет в строю». Впрочем, если бы это было так, то он был бы граф, а графом этот генерал не был.
Некоторых я помню настолько отчетливо, что кажется, мы только что расстались.
Вот по залитому солнцем Строгановскому мосту мы идем с Гришкой Берберовым. Куда – не знаю; может быть, уже откуда-то… На мосту никогда не бывает тени. Только от пешеходов, очень черная круглоголовая тень…
Внизу за прутьями ограды – порт! О порте потом. О порте потом. Сейчас о Берберове. Он сын парикмахера, бледный, худой, в веснушках, греховный, познавший многие тайны, с мужским выпуклым взглядом еврей. У него впалая грудь, над которой висит взрослый нос; у него африканская фамилия… Гришка Берберов гимназист с весом, второгодник. О, главное – познавший тайны, познавший тайны…
Мы останавливаемся над портом, смотрим вниз. Там в мерцающей глубине булыжники, среди них – трава.
– Идем, идем, – говорит непоэтический Берберов. – Идем.
– Куда?
Может быть, он ведет меня познавать тайны?
Когда я только поступил в гимназию и совсем маленьким мальчиком, хоть и в форме, ходил по коридорам, дивясь на взрослых гимназистов, вдруг стало известно, что как раз один из старшеклассников – Ольшевский – покончил с собой, застрелившись из револьвера. Каково было понять это? Во всяком случае акт воспринимался с внутренним уважением. Мы, приготовишки, между прочим, вдруг подкрались к дверям класса, к которому принадлежал самоубийца, и закричали «Ольшевский!», так сказать, пугая товарищей погибшего… Дурачки! И как это мы умудрились представить себе бедного юношу в виде привидения! Почему застрелился – не помню. Впрочем, мы и не поняли бы, если бы узнали, что причина, скажем, сифилис. Тогда это было частым явлением. Когда-нибудь я расскажу, как уже в более позднем возрасте один из моих товарищей, грек, сын булочника, поняв, что он заболел сифилисом, пал при всех нас, в общем циниках, на колени и молился, прося бога о чуде – исцелении… Я видел эту язву, этот страшный твердый шанкр, через воронку которого столько жизней свергло себя в неизвестный край. Я еще расскажу об этом и также о том, как великий Главче, корифей-венеролог в тогдашней России, не признал язвы за сифилитическую, дав понять при этом, что некоторые врачи наживаются даже и тут – на этом страхе, порой стоившем жизни.
Мне было одиннадцать лет, и я сидел в цирке на чемпионате французской борьбы. Так как было лето и цирки уже не работали, то этот цирк был некоей комбинацией цирка и кино, то есть был еще и огромный висящий передо мной экран. Кроме того, ряды стульев были расставлены и на арене, с расчетом, чтобы зрители могли смотреть на экран. Очевидно, борьба происходила на какой-то эстраде перед экраном, этого восстановить в памяти я не могу.
Дело и не в этом. Дело в том, что я, чтобы лучше видеть, то и дело поднимался, вернее приподнимался, кому-то, вероятно, мешая. И в одно из таких приподниманий я, маленький гимназист, способный, неглупый и в общем нетребовательный к миру индивидуум, был остановлен сзади тяжкими руками кого-то.
– Если вы еще раз позволите себе подняться, – услышал я, – я выведу вас из цирка.
Меня потрясло ощущение колоссального количества накопленного против меня гнева в этом человеке, которого я еще не видел. Я его увидел. Это был известный в Одессе пристав Радченко. Он был даже по-своему красив в своей серой шинели и с черными усами. Тут воспоминание кончается. Я только помню ощущение обиды, которая была, очевидно, и у студентов-террористов, только в другом масштабе.
Не успели мы освоиться с тем, что один из нас попал в эти страшные лапы, как тут же стало известно, что он и побежден. В зимнее утро, только-только вставши ото сна, только-только раскутавшись в швейцарской, довольно тягостно было услышать, что Володя Долгов умер.
Да, да, от скарлатины. Что могло быть страшней этого слова? Звук «скарла» заставлял меня содрогаться. На других языках это иначе. По-немецки, например, шарлях. Там нет этого «скарла», представлялось просто некоей одушевленной фигурой, некоим гением, приходившим в спальню за детской душой.








