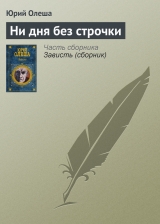
Текст книги "Ни дня без строчки"
Автор книги: Юрий Олеша
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
У Данте в одной из песен Чистилища рассказывается о высеченном в скале и движущемся барельефе. Он изображает милосердие Тита, этот барельеф. Он не то разговаривает, не то движется, во всяком случае, это изображение живет. Данте, чтобы убедиться, не обманывает ли его зрение, несколько отступает в сторону, смотрит на барельеф со стороны. Да, движется! Колоссальный барельеф, высеченный в скале. Вот какая фантазия была у Данте: он представил себе движущуюся сцену – величиной в скалу!
Я помню не радость, а недоумение в тот день, когда мне подарили басни Крылова. Это была небольшая в красном с золотом переплете книга известной «Золотой библиотеки» Вольфа. Там на переплете в золотом овале были изображены склонившиеся друг к другу лбами и читающие вдвоем книгу мальчик и девочка. Я до сих пор помню, как поистине металлически блестело в этом овале золото!
Басни Крылова были хорошо иллюстрированы – графически, реально, но очень прозрачно. Медведи, мужики, лисицы, гуси. Под каждой картинкой, или по обе ее стороны, или на листе, соседнем с картиной, были напечатаны стихотворения, которые в данном случае, удивляя меня, назывались баснями. Я прочел одно, другое, третье – и меня охватила скука, переживание которой я помню до сих пор. Во-первых, это было написано на языке, совсем не похожем на тот, на котором все разговаривали вокруг. Во-вторых, речь шла о животных, которые действовали то как животные, то как люди, а разговаривали все время как люди. Эта путаница сразу дала себя почувствовать. Присутствие на картинке льва, слона, змеи заставляло ожидать событий. Причем событий страшных, загадочных, кровавых. А когда я начинал читать, то вместо событий начиналась какая-то скучная история о том, как музыканты никак не могли рассесться, чтобы начать наконец играть. Потом так же лев разговаривал, например, с лисицей. Детская фантазия не понимала, почему надо привлекать такое существо, как лев, не для того, чтобы он кого-то растерзал или чтобы кого-нибудь вырвали у него из лап.
Эти ненастоящие львы, медведи и лисицы, которые символизировали человеческие качества, ничего общего не имели с животными, например, сказок Гауфа или братьев Гримм.
В этот магазин вела узкая дверь в довольно толстой стене, что делало момент входа в него особенно, если можно так выразиться, аппетитным. Кажется, даже звякал при открывании дверей колокольчик…
Это был книжный магазин, причем в соседней комнате помещалась маленькая библиотека польских книг, которые выдавались на дом.
Книги были польские, хозяин магазина и библиотеки – поляк, его жена – полька, продававшиеся в магазине картинки – польские, все было польское, даже запах, чем-то похожий на запах костела, возвышавшегося рядом с магазином, здесь, на Екатерининской улице.
За книгами в магазин меня посылала мама. Я проходил маленькую библиотеку и спрашивал у жены хозяина, старушки, есть ли книга, которую хочет получить мама.
– «Прокаженная», – произносил я название романа. Нет, никогда «Прокаженная» не оказывалась в библиотеке.
Она все была на руках. Когда маме содержание этого романа рассказывала знакомая, у мамы текли слезы…
– Нет, мальчик, «Прокаженной» нет.
Ряды книг громоздились один над другим до потолка – разные книги, новые, истрепанные, некоторые в ярких нерусских обложках. От книг пахло тем запахом, который остался в моих воспоминаниях как один из приятнейших запахов, какой удалось мне услышать, хотя, по правде говоря, это был запах несколько затхлый, мышиный.
– Есть «На серебряном шаре» Жулавского. Возьми, мама будет довольна.
И я беру «На серебряном шаре». Взгляд на обложку дает мне понять, что действие романа, очевидно, происходит на Луне: большой шар Луны, сделанный художником действительно в виде серебряного, восходит над горизонтом, и несколько человек, истомившись среди кустов и бросая длинные тени, смотрят на него с печалью.
Уходя из магазина, я задерживаюсь, чтобы посмотреть на открытки, которые здесь продаются и держатся лицом к покупателю благодаря какому-то проволочному сооружению. Тогда открытки коллекционировались и изготовлялись поэтому с особенным искусством – чистые цвета, хороший картон… Репродукция блестела, оставаясь четкой во всех подробностях. Вот, например, пожар… Большое здание, уже превращающееся в скелет, чернеющий на фоне пламени, снопы искр и маленькие золотые каски пожарных, величиной с булавочную головку, но видимые даже тогда, когда уже у дверей я оглядываюсь на них в последний раз.
– «На серебряном шаре»? – спрашивает мама. – Что это? Наверное, какая-нибудь глупость. Надо было «Прокаженную».
– Ну нет «Прокаженной», – говорю я.
– Какая-нибудь глупость.
Однако голубеющая обложка с серебряной луной и длинными тенями людей привлекает ее. Она спрашивает не столько меня, сколько самое себя:
– Что это?
Открывает, начинает читать.
– Нет, ничего, – говорит она через минуту. – Ничего, ничего. Изобретатель, который… Ничего.
Оказалось потом, что это грустная книга о группе людей, полетевших на Луну и утративших возможность вернуться и все тоскующих о Земле…
Однажды мои родители, побывав в театре, вернулись под очень сильным впечатлением спектакля. Они все принимались рассказывать мне, что же именно они видели.
– Бьют часы, – говорила мама, – и входит смерть. Ах, как страшно! Она с косой! Да, да, с косой и…
Дальше я не слушал, так как образ смерти с косой заполнял мое воображение. Пока я освобождался от него, мама уже заканчивала пересказ вспомнившегося ей пассажа. Боковым, так сказать, слухом успевал я услышать, правда, еще какие-то страшные вещи о папе римском, который не хочет следовать за смертью, упирается, и смерть злорадно хохочет и все же тащит его.
– Нет, пойдешь! Упирается! Ха-ха-ха! Пойдешь, пойдешь!
С каким-то особым значением, как нечто тоже страшное, родители произносили название пьесы.
– Данте Алигьери, – вдруг говорила мама, и по спине у меня пробегали мурашки страха. Тем не менее мне хотелось еще раз услышать, и я переспрашивал:
– Как?
И мама повторяла.
Когда я просил объяснить, что это значит, мама не умела этого сделать. Очевидно, ей и самой не все было ясно. Очевидно, спектакль был некоей инсценировкой по мотивам «Божественной комедии»; очевидно, двигавшаяся по сцене фигура Данте среди ужасов ада не называлась другими действующими лицами по имени… Вот поэтому и трудно было маме, как неподготовленному зрителю, соединить название спектакля с этой фигурой, она не могла сказать мне, что это имя поэта.
Папа, который был библиотекарем Коммерческого собрания, разрешал мне забираться с ногами в кресло – в это удивительное кожаное оливкового цвета кресло, о котором говорила вся Одесса, – и читать, что я захочу и сколько захочу.
А бывало, он еще заказывал для меня мороженое!
С ногами в кресле, глотая мороженое, я читал Куприна. Я читал «Морскую болезнь». Я не понимал тайн этого рассказа, так как был невинен, но роскошь жизни постигалась мною особенно полно только потому, что я с несомненностью ощущал неизбежность постижения мною в конце концов еще некоей тайны, о которой говорили книги, мороженое, кресло, собственные ноги и горы заката за окном – о, целые горы заката!
Я давно не перечитывал рассказов Конан-Дойля. Где они? Только в истрепанных за годы книгах, которые можно обнаружить лишь случайно, у знакомых.
Я помню, как замирала от восхищения моя сестра даже тогда, когда только пересказывала их содержание.
– Баскервильская собака, – говорила она, глядя мне в глаза своими расширенными, – понимаешь, эта собака…
Я не помню сейчас, что она делала, эта собака. Кажется, одним из ужасов, одной из тайн было то, что у нее из пасти вырывалось светящееся дыхание.
Еще мальчиком, при переходе из одного класса в следующий, я получил в качестве награды книгу, которая называлась «Чудо-богатырь Суворов». Это была толстая дорогая книга в хорошем, красивом переплете, почти шелковом, с изображением, в котором преобладал кармин, какого-то мчащегося воина с пикой, казака. Она мне очень понравилась, эта книга. По всей вероятности, она была составлена в патриотическом духе, снижающем французов Массену и Макдональда и других молодых героев и поднимающем старика Суворова.
Как мне помнится, я мог провести прямую черту, как вертикальную, так и горизонтальную, по бумаге карандашом или пером без линейки. Она была всякий раз абсолютно прямой и абсолютно параллельной как нижней стороне листа, так и боковой.
Отец, давший мне переделить какую-то ведомость, сказал:
– Вот тебе линейка.
И я, помню, ответил:
– Мне не надо линейки.
Отец рассердился. Тогда я провел линию, подчеркивавшую какую-то колонку цифр, и отец, помню, ничего не сказал от удивления, только раскрыл брови.
Это была юность, сила и будущее.
Теперь я даже не могу провести прямой мысли, как явствует из этого отрывка.
Холода, бывало, уйдут еще не слишком далеко, и поэтому какая-то настороженность не покидает мира, но уже чисто и сухо. И среди этой прибранности природы – пока что только двора, где я провожу каникулы, – приближается Пасха.
Еще несколько дней, и поперек постелей лягут толстые башни только что выпеченных куличей, прикосновение к которым напоминает ладоням прикосновение к песку; еще несколько дней, и в доме появятся гиацинты…
Мы – католики, так что это не совсем наша Пасха; наша Пасха в Варшаве, в Париже, в Риме. Тем не менее у нас есть костел, и восковая кровь на челе Христа, и то нарушение как порядка дня, так и порядка души, которые свойственны этому празднику. Однако хозяева положения, конечно, православные. У них колокола с их гигантскими лопающимися пузырями звука, у них разноцветные яйца, у них христосование… У них солдаты в черных с красными погонами мундирах и горничные с белоснежными платочками в руке, у них Куликово поле со зверинцем. Впрочем, Куликово поле принадлежит всем.
На Ланжероне был спуск к морю не только по дороге, можно было сбежать и обрывами.
Они густо поросли бурьяном, эти обрывы, были засыпаны отбросами, на них спали внезапно выскакивавшие на вас опасные собаки. Тем не менее обрывы вели к морю, которое тут же, буквально за разбитым ящиком, строило свои громыхающие кубы, параллелограммы, свои треки, палатки – в сверкающей бирюзе и иногда в таких длинных лучах, что некоторые, появляясь на сотую долю секунды, заставляли вас вскрикивать.
Впрочем, и тут плавали, подпрыгивая к берегу и тут же отпрыгивая от него, консервные банки, старые башмаки, листки из календаря… Можно было увидеть и седло, распустившее по воде все свои кожаные водоросли.
Однажды, сбежав, я увидел акробатов, которые, купаясь, также и тренировались. Несколько молодых людей делали великолепные сальто-мортале, взлетали друг другу на плечи – там круглились их икры, – перепрыгивали друг другу через головы. Каждый прыжок заканчивался тем, что две ступни опять оказывались на золотом песке, и он протискивался сквозь пальцы.
Одежда их – обыкновенные штаны и белые кучки рубашек – лежала тут же, в песке. Потренировавшись, они убегали в море. Все это было окружено возгласами – теми стеклянными возгласами, которые можно услышать только на берегу моря в жаркий день.
Безусловно, это не были первоклассные акробаты больших цирков. Те были окружены выдающимися по цвету и форме вещами – халатами, зонтиками, на песке валялись бы пестрые бутылки… Нет, эти юноши и мальчики были если не любители, то какая-то бедная труппа – сродни тем, которые в моем детстве выступали во дворах под шарманку, сродни тому шару, той синей спине и той стоящей на шаре девушке, которых написал Пикассо.
Итак, я совершенно утратил способность писать. Писательство как писание подряд, как бег строчек одна за другой становится для меня недоступным. Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи – проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад, – не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю: как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось, и я хочу это собрать – осколки опять в целое. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело.
Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!
Там, у самого начала, стояла не парадно белая мраморная, а скорее, гипсовая арка – как бы часть какого-то виадука. Там, под этими известняковыми сводами, ютились лавочки – скорее, просто продажа чего-то: кваса, пряников, может быть, дешевых ракет.
Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!
Сначала папа, двоюродный брат Толя и еще какой-то господин играли у Робина на бильярде и пили пиво. Мне было ужасно приятно смотреть, как они пьют пиво. Мне вовсе не хотелось самому выпить – наоборот, пиво всегда говорило мне о касторке, – но видя, как они топят в стаканах усы, потом вздрагивавшие под тяжестью пены, я завидовал им – мне скорее хотелось стать взрослым.
Неся продолговатую картонную коробку, группа быстро шла по гравию. По тому, как они размахивали руками, как быстро переставляли ноги, как говорили разными голосами, чувствовалось, что совесть у них нечиста, что это – жулики.
Впереди ждал их деревянный непокрытый стол, окруженный толпой детей, среди которых стоял и я.
Они подошли к столу, один сел на табуретку и вынул из кармана книжечку с отрывными по пунктиру листками. Другие занялись коробкой. Через несколько мгновений мы увидели куклу, которая, чуть выйдя из раскрытой и поставленной торчком коробки, так и остановилась в позе шагнувшей. Солнце ярко освещало ее. Это была обыкновенная кукла, правда, из дорогих, все же обыкновенная кукла с широко раскрытыми голубыми глазами, с несколько разведенными руками, с льняными локонами. Ее сочленения, слышали мы, повизгивают, ресницы ее лежали бархатными черточками, платье, как кажется мне, из тюля просвечивало на ее розовом теле.
Не знаю, как смотрели на куклу девочки, по всей вероятности с восхищением, мальчикам она, конечно, была противна, но выиграть ее хотели тем не менее и мальчики: ее можно было и продать, и выменять, это было дорогостоящее имущество.
Итак, кукла разыгрывалась. Я никогда не забуду, как поднялся один из жуликов с сине-красным карандашом в руках и объявил условия лотереи. Они заключались в том, что нужно было угадать, как зовут куклу. Кто угадает, тот выиграл, но за право назвать какое-то имя полагалось уплатить пять копеек.
Пять копеек – это много. За пять копеек можно было купить большую порцию мороженого в вафлях – кружок, который хватало есть надолго; стакан хлебного кваса стоил, например, две копейки.
Я еще застал ярмарочного характера зрелище. Так, я видел, как кидали мяч в картонную на шарнирах фигуру японского солдата, заставляя ее при попадании не то повалиться вверх тормашками, не то… не помню! Словом, с солдатом происходило нечто незадачливое, вызывающее хохот. Видел я также, как лазили на столб за спрятанными на самой верхушке этой довольно-таки высокой мачты подарками; кажется, там, на площадке, которой так трудно было достигнуть, обычно лежали часы. С мачтой был связан и один из потрясавших воображение тогдашней публики номер – прыжок с высоты вниз. Эта мачта, этот шест был высотой этажей в десять. Внизу, куда нацеливался прыжок, устраивалось углубление, в нем была вода… Номер был, безусловно, опасный – хотя бы потому, что техника прыжков в воду в те времена была еще развита недостаточно. Впрочем, какие там прыжки в воду! Акробат прыгал не больше как в мелкий кювет. О, он прощался с женой, этот смельчак! Да, да, именно так: прощался с женой! В центре огромной толпы, окружавшей место действия, стояли две фигурки – одна в цирковом плаще, другая в порыжелых одеждах Мадонны – и, обняв друг друга, склоняли на мгновение головы один на плечо другого… Кажется, играл небольшой военный оркестр. Помню колоссальность толпы, ее гудение; она была раздражена ожиданием, да и опасалась, не отменят ли прыжка, не заставят ли улететь уже носившуюся в сером, полном майского дождя небе смерть. Несколько развлекал толпу вымпел, бежавший в этом же сером небе, вымпел, укрепленный на мачте…
– Прощается! – неслось по толпе. – С женой прощается!
Задние не видели этого, но теперь уж было ясно, что не обманут – прыжок состоится, смерть не улетит восвояси. Вот она, вот! С косой! Верно, верно, блеснула коса!
Блеснула, правда, молния, а не коса, тем не менее акробат готов умереть.
Сперва я опишу тир. Как стреляли два господина по бутылкам. Потом по шарику. Потом пошли пить пиво. И как мне хотелось быть взрослым…
Почему хотелось быть взрослым? Не нравилось детство? Почему оно не нравилось?
Наиболее часто занимались стрельбой именно по бутылкам. В результате некоего приспособления бутылки продвигались по заднему плану вдоль стены – одна за другой, чем-то напоминая живые существа несколько угрожающего вида. Стреляли, таким образом, по движущимся бутылкам, что еще больше придавало им жизнь. Иногда приятно было думать, что их наказывают, эти живые, чем-то недовольные существа.
Все вместе называлось словом «тир». Он находился налево от входа в парк, почти вдвигался в голубое пространство неба и моря. В тире было до половины светло, только до половины, куда достигал падавший в открытые во всю ширь двери солнечный свет. Большинство фигур и бутылки поблескивали в летнем сумраке. Стреляли из тонких с черными гранеными стволами монтекристо. Выстрел щелкал. Пахло порохом – сладко и чуть-чуть железно…
В детстве, когда этого как раз так хотелось, мне ни разу не пришлось выстрелить. Я только смотрел, как это делали другие, мог смотреть часами. Сперва шуршал под ногами приближавшихся гравий, потом два господина, перебрасываясь веселыми репликами, останавливались на пороге. Это был не порог, собственно, – скорее, грань, вот именно грань между жарой и прохладой. Два господина – чаще всего это были именно два господина – останавливались.
– Давай?
– Ну, давай.
Они бросали папиросы, падавшие в грядку на самом краю голубизны, и не успевали протянуть руку, как в ней уже оказывались монтекристо – уже заряженные монтекристо.
– Ну, ну? – говорил один господин.
– Ну, ну? – говорил другой.
Жевахова гора была видна с бульвара в виде не слишком далекой, но все же синеватой гряды. Все же это была даль, не столько, впрочем, географическая, сколько житейская, бытовая – с чего вдруг окажешься на этой горе!
Туда, в сторону горы, шел поезд, ведомый маленьким паровозом, который называли паровиком. Маленький, бойко свистящий паровозик, пять-шесть зеленых вагонов…
Какая чудесная вещь – свобода воспоминаний! Какая прелесть в том, что они появляются, как им угодно, и никак мы не можем заставить себя вспомнить именно это, а не другое. Ха, ха, разумеется, есть точная закономерность этого возникновения, но – дудки – мы ее никогда не поймем.
Так, вспоминаю я, как вышли мы в море на яхте «Увлечение». Мы – это знаменитый одесский врач-венеролог Егор Степанович Главче, его приемный сын Андронька и я, маленький мальчик Юра. Долго следовало бы описывать яхту. Она плоская, вы почти не возвышаетесь над водой – длинная, плоская, узкая, летящая. Нет, это настолько плохое описание, что оно сворачивается. Воспоминания не последует, только опишем, как при нашем возвращении горела вдали огнями Одесса, покинутая нами утром, как, казалось, перебегают с места на место огни, исчезают, опять загораются, как дышит и ходит все это поле огней… Нет, и это воспоминание, как видно, не получится!
Как тихонько под самыми пальцами, которые вы опускали в воду, рокотало и бежало море, рокотало и бежало, темное, бежало навстречу нам низко-низко под бортом яхты, на расстоянии локтя – еще одного локтя, потому что вы сидели облокотившись…
Доктор Главче повел меня и Андроньку вечером на выставку. Доктор был одет в черный блестящий, так называемый альпаговый, пиджак, белый жилет, серые в полоску штаны, и на голове у него была из твердой соломы невысокая шляпа – так называемое канотье. По тем временам это был щегольской и вполне приличный наряд. Егор Степанович был низко под машинку острижен, у него была черная борода – недлинная и небольшая, черный опрокинутый книзу острием треугольник. Он говорил кругло и четко. Был он также в пенсне, которое носили тогда близорукие.
Из кармана он вынимал чистый белый платок, которым иногда, сняв канотье, вытирал макушку. Оттого, что волосы были низко острижены, она теряла черноту и становилась серой. Он был плотен, даже кругл, белый воротничок на нем ярко блестел.
Летний вечер был светел и пахнул цветами, которые стали теперь, в сумраке особенно заметными – белые лилии, белые розы, невесомые среди сумерек. Вдали в море через равные промежутки времени зажигался свет маяка – то красный, то зеленый. По всей вероятности, это ровное чередование происходило от вращения фонаря с разными стеклами, но, не зная этого или не думая об этом, можно было представить себе, что это некто, стоящий к вам спиной, поглядывает на вас из-за спины то красным, то изумрудным глазом.
Мы отправились на выставку пешком. Это было недалеко от центра города, на территории парка. В середине шел доктор Главче, а по бокам – я и Андронька. Доктор Главче был в хорошем настроении, шутил, выделывал разные щелчки пальцами, играл тростью. Все сулило нам вечер чудес.
Тот мир был совсем иной. Маленькое, все в клумбах, плоскогорье парка отделялось от спуска в порт – да просто от самого порта с пароходами, морем, волнорезом, маяком – старой порыжевшей каменной стеной с арками в ней. Из стены и многолетних наслоений на ее камнях росли нежно дрожавшие под ветром цветы. Шорох гравия никогда не прекращался здесь под стеной. Сюда подходили смотревшие на море и отходили, здесь играли дети…
В Одессе мы катались по морю на плоскодонках. Это большие тяжелые лодки без киля, с плоским дном – нечто вроде воза, снятого с колес и брошенного на волны. Они были грубо окрашены в красное и синее и приводились в движение благодаря веслам, огромным, тяжелым, привязанным к уключине с такой мощью, как привязывают по крайней мере быков. На дне лодки всегда было много воды, и в этой луже плавали тряпки, красные остатки креветок, бутылка. Плоскодонка скользила, неслась по волнам. Что-то было из греческих мифов во внешнем виде этих лодок. Помню до сих пор, как будто видел вчера, похожие на груши коричневые икры бегущих за лодкой, чтобы вскочить в нее, рыбаков.
Лодка называлась «тузик». Это скорлупка. Однако с килем. Ее ребра виднелись изнутри – серо-белые, как кости. Два весла, одно слева, чуть ближе к носу, другое справа, ближе к корме, иноходь.
Обычно он ожидал нас в порту недалеко от целого леса свай, в одном и том же месте. Он был привязан к тумбе на набережной, веревка то и дело соприкасалась с водой: разъединяясь, они, казалось, целуются. Мы подтягивали лодку к набережной, шагали в нее. Она давала крен – в одну сторону, в другую. Мы брались за весла, которые в первые мгновения кажутся особенно круглыми.
Да, ведь имелся еще руль! От руля к рулевому шли веревочки – в каждую руку по веревочке. Они проходили под локтями, из-за спины, так как рулевой, как известно, сидит спиной к рулю.
Обычно мы плавали в порту. Порт этот – громадина, это море, особенно для «тузика» и двух мальчиков. Пароход, стоящий на якоре, был, когда мы гребли возле него, по крайней мере стеною для нас. Да-да, гигантская стена, порыжелая снизу, все более чистая кверху и на самом верху уже элегантно чистая.
Идя по Французскому бульвару, по левой его стороне, по направлению от 3-й гимназии, вдруг видели вы по левую руку переулок… В нем были и неуютные краски загона, коровьи грязно-коричневые краски, и один из заборов провисал в нем, наваливаясь как бы брюхом на прохожего, вместе с тем был этот переулок озарен синевой видного вдали моря. И так хотелось свернуть в этот переулок… Но всегда я спешил куда-то, всегда спешил! Так никогда и не свернул я в этот переулок. Я думаю, что и до сих пор выглядит он так же. Так же провисает забор и так же видно вдали поверх ромашек и широких лопухов море.








