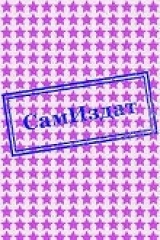
Текст книги "Как я учился на ошибках (СИ)"
Автор книги: Юрий Цырин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Я удивлялся, как водитель в темноте умудряется держать правильный курс. Дороги как таковой в степи, по-моему, не было вообще. Ехать можно было куда угодно. И земля хранила следы множества произвольных траекторий движения автомобилей, что, как мне думалось, просто сбивало с толку, помогало заблудиться.
Я оказался прав. Наш водитель сбился-таки с пути, остановил машину и, заглянув в кузов, деловито сообщил, что теперь мы неизбежно встретим Новый год по гурьевскому времени в степи. Мы, помнится, даже обрадовались, потому что, хотя шампанское – не водка, но с закуской оно всё же немного нас согреет – а разве это плохо?! Ведь, похоже, ещё трястись и трястись в кузове...
И желанный момент наступил. Водитель забрался к нам, и короткий праздник начался. Правда, чокаться нам не пришлось. Отправляясь в дорогу, мы забыли, что целесообразно иметь с собой стаканы. Такая ёмкость под шампанское оказалась только у водителя, и мы использовали её по очереди. Но это обстоятельство ничуть не уменьшило радость встречи западноказахстанского Нового года. Нам было поистине хорошо!
А когда поехали дальше, мы, несколько расслабленные и вполне счастливые, даже начали петь.
Тут я должен кое-что пояснить. Мои вокальные способности были отмечены ещё тогда, когда я в пионерском возрасте попробовал стать участником школьного хора. Вскоре был удален на все четыре стороны из третьего, дальнего ряда. Мне доступно объяснили этот факт: то, что звучало моим голосом, дескать, если и было мелодией, то всё же не той, что исполнялась хором.
Я ещё долго сомневался в справедливости этой оценки моего музыкального дара. Но случилось такое. В связи с окончанием мною нефтяного института, двое друзей подарили мне очень красивую немецкую губную гармошку. И захотелось отблагодарить их демонстрацией умелого владения этим инструментом. В течение месяца я репетировал игру на гармошке, выбрав очень простую и милую мелодию популярной тогда песни, начинающейся словами "Страна родная Индонезия...". Проще этой мелодии был, пожалуй, только "Чижик-пыжик". Ощутив, что вполне созрел как исполнитель, я пригласил тех друзей на ужин и продемонстрировал им свое мастерство. Один из них, проявляя искреннюю чуткость, прокомментировал моё выступление так:
– А знаешь, неплохо... Ты это сам сочинил?
И я наконец понял, что меня справедливо не оставили в школьном хоре.
...Всё же впоследствии, по признанию людей, одна песня почему-то мне удавалась вполне приемлемо. Это "Славное море, священный Байкал...". Единственная! У меня до сих пор не возникло даже предположения, какова тут причина. Но когда я впервые рискнул поучаствовать в застольном исполнении этой песни, никто не смотрел на меня недоуменно. И она стала в с е м моим ненавязчивым "репертуаром"...
Конечно, я не мог не затянуть песню про Байкал и в ночной казахстанской степи. Её вдохновенно подхватили все. Привыкшие к тишине верблюды, населяющие эти просторы, смогли послушать мощное звучание гимна великому сибирскому озеру, которое им, к сожалению, не суждено было когда-либо увидеть...
Ну, а к наступлению Нового года по московскому времени мы всё-таки оказались в гостинице возле аэропорта.
Гостиницей являлся барак, истинным украшением которого была уже знакомая нам добрейшая хозяюшка – русская женщина средних лет, одиноко живущая здесь же. Водитель, высадив нас, поехал к семье. Мы, москвичи, ощутив уют жилья, были просто счастливыми. К тому же, хозяйка вдруг принесла нам бутылку водки и спечённый ею пирог с капустой... Что тут можно сказать о нашем настроении?! Нет таких слов!
Мы справляли московский Новый год вместе с милой хозяйкой. Кроме нас, в гостинице, естественно, никого не было, и наш барак, думаю, содрогался от вдохновенного пения. Окрестные дома услышали, конечно, и непривычную в этих краях песню "Славное море..." Лучше я, пожалуй, не пел уже никогда.
...Проснувшись солнечным утром 1-го января, мы запаслись всем необходимым для продолжения застолья и разместились в полупустом купейном вагоне поезда на Москву... Ехал я и думал о том, как прав был Экзюпери, считавший, что единственная истинная роскошь в нашей жизни – это роскошь человеческого общения.
А над красавицей Волгой, встретившей наш поезд, прозвучала величественная русская песня... про Байкал...
НАУКА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?
Весь мой трудовой путь был посвящен работе в науке: исследованиям, разработкам, изобретательству. Мои многолетние дела были отмечены ученой степенью доктора технических наук, знаками «Заслуженный изобретатель российской федерации» и «Почетный нефтяник», медалями Выставки достижений народного хозяйства. Пожалуй, трудовая жизнь прошла не зря. Во всяком случае было реализовано моё поэтическое благословение самому себе, написанное, когда я еще не достиг своего тридцатилетия, и всегда хранимое в душе:
Меня спасало творчество всегда:
И в нездоровье, и в ненастье буден.
Оно мой воздух – мне нельзя туда,
Где сладостного творчества не будет.
И был в моем поклонении творчеству даже некий фанатизм, порожденный впечатлительностью, а также неподдельной и неувядающей молодостью души.
Помню, в начале моей научной карьеры на меня произвел огромное впечатление фильм "Девять дней одного года" о самоотверженном рыцаре науки. И я понял, что должен жить подобно молодому физику-ядерщику Гусеву, блестяще сыгранному Алексеем Баталовым. Да, жить именно так! Это решение вполне гармонировало с характером моей научной деятельности: я был не теоретиком, а экспериментатором и изобретателем – чуть ли не половина моей научной карьеры осуществлялась на буровых предприятиях и заводах-изготовителях в бесчисленных испытаниях, опытно-промышленном использовании и оперативной доработке новых объектов техники.
А еще меня надежно воспитывали, сами того не подозревая, уже немолодые научные сотрудники академического Института геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ), где я стал на три года аспирантом-очником после того, как, окончив Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина, три с половиной года поработал в Казанском филиале одного из ВНИИ.
Сотрудники нашей лаборатории в ИГиРГИ имели шестичасовой рабочий день, поскольку использовали в исследованиях вредные для здоровья материалы. Рабочий день заканчивался в 16 часов, но редко кто-то из этих энтузиастов науки уходил домой вовремя. Работа в лаборатории обычно продолжалась до 20 – 21, а то и до 22 часов, что, конечно, никак не оплачивалось. Это происходило просто по велению души. И сформировало мою душу тоже...
Думаю, в романтическом отношении к деятельности в науке нет ничего плохого. Но во мне такое отношение, помноженное на впечатлительность, подчас превращалось в фанатизм. И возникали ошибки поведения, которые, по счастью, не стали трагическими... В связи с этим кое-что хочется вспомнить.
В первой половине 1971 года я с сотрудниками проводил стендовые испытания первого разработанного нами высокотехнологичного разобщителя пластов в скважине, так называемого пакера. Это устройство было создано, чтобы на крупнейших нефтяных месторождениях Западной Сибири радикально повысить качество изоляции нефтеносного пласта от ближайших водоносного или газоносного и тем самым обеспечить добычу нефти без ненужных добавок воды или газа. Пакер должен был стать элементом обсадной колонны труб, навсегда спускаемой в скважину, чтобы обеспечить её устойчивость как технического сооружения. Наше устройство состояло из трубного корпуса, включающего встроенную в его стенку клапанную систему, а на корпусе была установлена эластичная резино-тканевая трубная оболочка. В зазор между корпусом и оболочкой через клапанную систему под высоким давлением должна подаваться жидкость из полости обсадной колонны. В результате оболочка, растягиваясь, увеличивается в диаметре и создает в стволе скважины долговременную герметичную перегородку.
Простите меня, уважаемый читатель, за это изложение технических деталей, но, не зная их, вы, думаю, слишком смутно поймете информацию о моей оплошности.
Итак, мы проводили стендовые испытания пакера. Он был установлен в стальном горизонтальном открытом кожухе, имитирующем ствол скважины. А в стенке кожуха имелась шеренга датчиков, показывающих, на какой длине оболочка контактирует с кожухом при том или ином внутреннем давлении в ней.
Мы находились за защитной металлической перегородкой, на которой были смонтированы пульт управления, контрольные приборы и смотровая пластмассовая вставка. Ступенчато повышая давление в оболочке пакера, мы фиксировали соответствующее увеличение длины её контакта с кожухом.
Эксперимент проходил нормально, пока мы не повысили давление в оболочке до 150 атмосфер. И тут случился отказ датчика с одного края оболочки: он почему-то не показал удлинение контакта. "Надо его заменить – ввернуть запасной", – решил я и сообщил это решение двум коллегам, работавшим на стенде со мной.
– Сбрасываем давление? – спросил один из них.
– Не надо, – предложил я. – Мы же больше не увеличиваем его, а при 150 атмосферах на стенде всё спокойно, ничего опасного не происходит.
– А техника безопасности? – настаивал коллега.
– Она имеет глобальный характер, не учитывает конкретные благоприятные ситуации. Не будем терять время. Я пошел к кожуху.
Во мне жила и не желала угасать вдохновенная одержимость любимого киногероя, созданного Алексеем Баталовым.
А через несколько секунд случилось вот что. Как только я вышел из-за защитной перегородки и оказался напротив торца кожуха, ближний ко мне край оболочки пакера порвался (значит, там был какой-то дефект изготовления) – и тонкая струя воды, вырвавшись из неё под давлением 150 атмосфер, ударила меня в левый пах. Я на короткое время потерял сознание и упал. Коллеги подняли меня и посадили на стул. Я был руководителем испытаний, и ребята молча и взволнованно ждали, что им скажу. А я был весь облит водой – как это получилось, до сих пор не понимаю.
– Да, ребята, такого не мог ожидать, – произнес наконец. – Но, вроде бы, обошлось без травм. Давайте включим термостенд, я брошу туда всю одежду – пусть высыхает, а мне найдем какой-нибудь рабочий халат. В нём я и поработаю... Нет худа без добра: не задержал бы датчик нашей работы – проворонили бы дефект оболочки. Надо в программе испытаний предусмотреть выдержку максимального давления... Будем испытывать другой образец пакера, вставляйте его в кожух.
...И всё же без травмы не обошлось: через день-другой меня стала мучить боль в левом паху, и я нащупал там несомненную грыжу. Вероятно, у меня тогда был не только технический, но и медицинский эксперимент, который расширил научные представления о вероятных причинах паховой грыжи. Конечно, возможно и простое совпадение двух событий: полученного мною гидроудара и возникновения грыжи, но хочется думать, что между ними имеется причинно-следственная связь. А значит, грыжа может возникнуть не только из-за чрезмерных внутренних напряжений в теле человека от разного рода тяжестей, но и в результате каких-то внутренних разрывов под действием мощного ударного воздействия на тело снаружи. Не зафиксировать ли официально это медицинское открытие?
Пришлось делать операцию. А вскоре было необходимо поехать в Волгоградскую область, на наш опытный завод, для контроля и помощи при изготовлении опытной партии пакеров. Я, конечно, сознавал, что надо себя беречь после операции. Сознавать-то – сознавал...
На заводе узнал от главного инженера, что второй рабочий-сборщик внезапно заболел, а оставшийся в одиночку со сборкой пакера не управится – тяжело.
– Отдохни, порыбачь недельку, – предложил он.
Сейчас, дорогой читатель, вы подумаете (и, пожалуй, справедливо), что я неисправимый дурак. Не могу возражать и аргументировать, просто вспомню, что было, а вы уж размышляйте.
– Не надо останавливаться – я помогу, – вырвалось у меня неожиданно для самого себя.
А коль уж вырвалось, бесшабашно добавил с улыбкой:
– Надо же как-то размяться, а то – письменный стол да кульман, словно старый хрыч...
Естественно, я очень старался не напрягать мышцы живота при сборке и испытаниях пакеров, но обмануть сам себя не смог – грыжа возобновилась.
К счастью, она выступала в меньшей мере, чем первая и почти не мешала. Поэтому я решил игнорировать её до поры до времени.
Тогда мне было 34 года. И удалось игнорировать грыжу более двадцати лет. Только замечал, что она потихоньку увеличивается и боли в этой зоне увеличиваются тоже.
В девяностые годы прошлого века, когда я, уже седой, руководил промышленными испытаниями на буровой нового комплекса оснастки обсадной колонны, вдруг произошло ущемление этой, вроде бы спокойной, грыжи. Если вы не испытывали этого ужаса, считайте, что являетесь поистине удачливым человеком. Нестерпимая боль и невозможность ходить. Я стал всерьез думать, что мне пришел конец. Но боролся за жизнь как мог. Лег на спину на кровати бурового мастера, поднял колени и, разминая низ живота, буквально умолял грыжу: "Ну, спрячься, пожалуйста! Спрячься, не губи меня!.."
И в какой-то момент она вдруг нырнула куда-то вглубь живота. Сразу стало легко-легко... Буду жить!
Во время последующих испытаний, и далее, до самой операции в Москве, я, по-моему, не отнимал ладонь левой руки от низа живота – придерживал коварную грыжу.
Добавлю лишь, что, видимо, я слишком заигрался со своим героизмом: нарушение в паху стало настолько велико, что вторая операция оказалась безуспешной. Мне казалось, что я веду себя после неё осторожно, но отчего-то грыжа опять возобновилась. Третью операцию сделали по какой-то новой методике – и уже довольно много лет я никаких нарушений в левом паху, слава богу, не наблюдаю.
Да и не предвижу таких нарушений. Ковыляю по девятому десятку лет жизни. Буровые и заводы еще снятся, но не более того. Вот сижу и пишу воспоминания. Это, думаю, безвредно...
МОИ КОНФЛИКТЫ С СОБАКАМИ И ВЕРБЛЮДОМ
Быть может, я не очень внимательно изучал в школе «Зоологию» – науку о жизни животных. Как бы там ни было, во мне какое-то время жило такое понимание: всё, что делают животные, общаясь с людьми, – результат только условных рефлексов. «Условный рефлекс» – это очень просто. Например, вы несколько раз перед накладыванием еды в мисочку собаки, включаете звонок. А затем собака, услышав звонок, немедленно бежит к своей мисочке. Звонок стал для неё сигналом близкой кормежки, а по-научному, у неё появился условный рефлекс, то есть такой вот ответ на звук звонка: надо бежать к еде...
Но не обошли моей жизни случаи, когда животные явно показывали: они, как и люди, могут вести себя на основе самостоятельных размышлений и глубоких переживаний, а не просто откликаться на какие-то сигналы, например, звонок...
Много лет назад мы с женой сняли на лето дачу в поселке Клязьма под Москвой и жили там с бабушкой и сыном-дошкольником. Хозяева этой дачи имели добрую, приветливую собаку, которая любила ходить с нами на речку и плавать в ней.
Однажды, будучи в очень хорошем, веселом настроении, я решил пошутить. Схватил эту собаку и бросил её в реку с довольно высокого берега. Стыдно об этом вспоминать, но тогда я подумал, что эта "шутка" покажется веселой и ей.
...Когда собака вышла из воды на берег, она одиноко, медленно, с опущенной головой, даже не взглянув на меня, побрела к дому. И затем много дней не приближалась ко мне, а если я пытался к ней подойти, понуро отходила в сторону. Она явно показывала мне свою глубокую обиду.
Я множество раз старался упросить её о прощении. В конце концов она простила меня и стала относиться ко мне по-дружески.
И я больше не позволял себе бесцеремонного отношения к ней...
* * *
Мне было тогда лет тридцать. Мои друзья по работе, с которыми я оказался в командировке на знойных степных просторах Западного Казахстана, были не старше. Конечно, основное время мы отдавали, как говорится, "оказанию научно-технической помощи" экспедиции сверхглубокого разведочного бурения, но в свободные минуты проявляли неподдельный интерес к жизни окружающей нас желто-бурой степи. После московского асфальта здесь всё было в новинку: колючки – единственное растительное богатство вокруг нас, змеи, скорпионы, фаланги, время от времени приходящее на водопой стадо баранов и овец.
Стадо подходило к очень большой луже, образовавшейся возле непрерывно фонтанирующей водяной скважины, которую пробурили геологи для нужд экспедиции. И нас впечатляла корректность, умение уважать старших, царящие в стаде. Никто не смел подходить к воде, пока не утолит жажду группа старейшин. Эта группа из пяти – шести баранов направлялась прямо к короткой Г-образной трубе, выходящей из скважины, и останавливалась вблизи неё. Из группы выходил старейший баран, подходил к отверстию трубы, прикладывал к нему губы и начинал пить вкусную прохладную воду. Он пил не спеша, с явным наслаждением.
Напившись, он медленно отходил в сторону, а к трубе подходили остальные "аксакалы". Между ними ощущалась некоторая незлобная конкуренция: они слегка мешали друг другу наслаждаться потоком воды, выходящим из трубы. Но, тем не менее, воды, конечно, всем им хватало, и, утолив жажду, они тоже отходили от скважины.
И только тогда остальные члены стада стремительно окружали лужу, а наиболее решительные подходили к самой трубе, и все с упоением пили и пили до полного утоления жажды. А после этого стадо неторопливо куда-то уходило.
Но больше всего нас интересовали верблюды. Эти величественные и спокойные существа, не реагирующие на перемещение людей и машин, на лай живущих в экспедиции собак, на звуки, доносящиеся с работающей буровой, казались нам абсолютно невозмутимыми.
Однажды наша лаборантка, двадцатипятилетняя Валечка, попросила меня и еще одного нашего сотрудника посадить её на верблюда и сфотографировать. Мы вдохновенно откликнулись на её просьбу, уверенные, что это не станет серьезной проблемой. Решили, что распределим наши роли следующим образом. Мой коллега будет подсаживать Валечку на верблюда, а я буду стоять перед этим "гордым кораблем пустыни" и отвлекать его внимание, чтобы он оставался совершенно спокойным в ходе нашей ответственной операции.
И вот в какой-то момент мы приблизились в степи к одному из верблюдов и начали действовать. Мой коллега и Валечка очень медленно и тихо приближались к его правому боку, а я встал перед его мордой и начал с ним беседовать. Естественно, я уже не вспомню, что именно говорил ему, но это, конечно, был добрый, дружелюбный монолог, который, как мне думалось, радовал и даже несколько усыплял верблюда.
Надо сказать, что он смотрел на меня с интересом и слушал со вниманием... но лишь до того момента, когда остальные двое участников операции подошли к нему
вплотную. Когда же это случилось, он повернул голову и начал внимательно смотреть на них.
Тогда я продолжил свое обращение к нему более громким голосом. Он вновь повернулся ко мне. Я подал взмахом руки сигнал: начинайте посадку. Коллега поднял Валечку, и она стала карабкаться на верблюда.
Тут он всерьез заволновался, начал часто поворачивать голову то к ним, то ко мне. Возможно, я вообще перестал бы теперь привлекать его внимание, если бы, осознав, что он потерял всякий интерес к моему монологу, не изобразил нечто вроде танца папуасов.
Вдруг, повернув голову в мою сторону очередной раз, верблюд низко опустил её, а затем резко вскинул. И – о, ужас! – в те секунды, когда его голова перемещалась из нижнего положения в верхнее, из пасти изверглась на меня какая-то зеленая, травянистая на вид масса. Я, конечно, отпрянул, пытаясь стряхнуть этот сюрприз с головы, лица и одежды. Мои друзья, естественно, прекратили свои действия и поспешили отойти от верблюда.
Увидев, что мы от него отстали, верблюд невозмутимо стал лакомиться очередным кустиком колючки.
...Лицо и голову я отмыл без особого труда. А мои выходные рубаха и брюки, к сожалению, остались с несмываемыми пятнами...
* * *
Не знаю, как сейчас, но в годы моих бесчисленных командировок в нефтяные и газовые регионы Западной Сибири я видел там, в новых городках и рабочих поселках, множество бездомных собак. Иногда они бродили в одиночку, но, пожалуй, чаще целыми стаями. Я привык к мысли, что эти собаки неизменно миролюбивы и практически не мешают людям жить.
Почему их было так много? Полагаю, что, прежде всего, в результате частого переселения людей на просторах Западно-Сибирской низменности. К примеру, приехал парень работать в Нижневартовск, поселился в бараке-общежитии, и случилось так, что появился у него четвероногий дружок, который мог и не претендовать на жизнь в доме, поскольку был по своему происхождению прекрасно приспособлен к северным зимам. Радовался, что хозяин, когда не на работе, не забывает его покормить. Но вдруг хозяина переводят работать на новое нефтяное месторождение, а жить ему теперь предстоит в поселке Радужный. Ему абсолютно неясны предстоящие жилищные условия, да и всё прочее. Он погладит на прощание своего временного дружка и улетит на вертолете. А дружок даже не сердится – знает жизнь. Лишь погрустит немного и прибивается к стае бездомных собак...
Однажды я находился в командировке в северном городе Ноябрьске, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе. В то зимнее утро я шел по улице, и мою голову грела огромная меховая шапка с пушистым собачьим мехом, которую подарил мне сын специально для поездок на Север. Неожиданно одна большая бездомная собака обратила на меня внимание. Поняла, что моя шапка сделана из убитой "соплеменницы" – и, думаю, её переполнило возмущение. Она стала неотступно следовать за мной. Следовала очень близко и громким рычанием откровенно демонстрировала злобное отношение ко мне.
Стало страшно. И, проходя мимо одной из автобусных остановок, я решил запрыгнуть в проходящий автобус перед самым его отходом. Так мне удалось спастись.
После этого случая я носил в той командировке только вязаную шапку...
О ДОБРЕ И ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ
Добро, подаренное людьми, окрыляет, прибавляет силы, растит в нас оптимизм, веру в свои возможности, делает нас счастливыми. Кому это неизвестно! Но если кто-то добро потребляет, значит, кому-то другому приятно и радостно дарить его. К сожалению, не каждый способен дарить добро людям. Не случайно великий философ Иммануил Кант заметил: «Только радостное сердце способно находить удовольствие в добре». Да, несет добро людям тот, чье сердце радуется этому деянию. Делая счастливым другого, такой человек становится счастлив сам.
Но жизнь – это стихия диалектики, противоречивого многообразия, в котором можно увидеть бескорыстие и корысть, верность и предательство, чуткость и бездушие, cкромность и самодовольство, интеллигентность и хамство, удовлетворенность достатком и алчность. Поэтому нередко правдой становится и разочарование в содеянном добре, ощущение его бесполезности и даже вреда, тяжесть ноши ответного бездушия, неуважения, оскорбления.
Мне понадобился немалый период взрослой жизни, чтобы по-настоящему осознать, что потребление добра – острая и сложная проблема, которую добронравный человек не может обойти, если желает соответствовать реальной диалектике человеческого общежития.
Произошла в моей жизни история, длившаяся более двух десятков лет. В ней перепутались безоглядное добро и подпитанное им зло, а ответом на веру и беззаветное дружеское тепло стали расчетливость, затем и враждебность. Грустно вспоминать о своих ошибках...
Я тогда перешагнул рубеж своего тридцатилетия и, будучи инженером-нефтяником и уже кандидатом наук, взялся за создание таких технических средств, которые должны резко улучшить качество разобщения пластов в нефтяных скважинах, а, следовательно, и главное качество скважин – их продуктивность.
Мне на подмогу дали молодого парня, студента-вечерника. Валентин (назову его так) быстро увлекся нашей научно-технической проблемой и очень старательно относился к конструкторским и стендовым задачам. Его ответственность, оптимизм, воля, оперативность, неизменно уважительное отношение ко мне вызвали у меня желание щедро окружить его добром и заботой...
...Диссертация в те годы – это достаток, а значит, благополучие семьи, возможность спокойно сосредоточиться на деле. Меня, помню, лишь слегка и ненадолго насторожило то, что, отдав ему в диссертацию все, что было сделано нами вместе за 10 лет под моим руководством, я не увидел его стремления самостоятельно обработать и красиво представить этот материал на защиту. Теперь мне ясно, что он просто решил "прокатиться" на моей безотказности – это позволило ему и качественнее, и "без напряга" справиться с диссертацией.
Он оставался для меня человеком, с кем меня связывает беззаветная дружба, я же постепенно превращался для него просто в "полезного человека"...
Валентин попросил меня о помощи в подготовке диссертации. Я всё больше вдохновлялся этой помощью, поскольку она являлась дальнейшей работой над моими любимыми, волнующими творческими вопросами. В итоге его диссертация была написана почти под мою диктовку. Когда он защитил диссертацию, я был счастлив больше него – ведь по существу это была оценка моего труда.
И продолжал верить в нравственность и надежность Валентина – чем еще можно ответить на мою неизменную бескорыстную помощь?!
Но уже через несколько лет в моей душе стала нарастать настороженность, я стал ощущать что-то неладное в его поведении, уже появились и начали сгущаться тучки на безоблачном ранее небосклоне наших взаимоотношений. В это время я руководил лабораторией, а Валентин был моей "правой рукой". Капризность, обидчивость, увлеченное разжигание конфликтов с коллегами по работе, особенно в случаях, когда они проявляли волю к самостоятельности в решении текущих задач, – все это нарастало в его поведении.
Я не мог объяснить причины такой ситуации, еще не осознал, что так поднималось его необузданное желание господствовать в делах. Но нужно было что-то менять. И я попросил дирекцию нашего института буровой техники разделить лабораторию. Отдал Валентину его любимчиков, а сам остался с отвергнутыми им людьми. А еще оставил в его безраздельное распоряжение все, что мы вместе сделали ранее. Себе же взял только одну трудную и далекую от завершения разработку, которой руководил уже несколько лет и в которой он участвовал лишь эпизодически. Радовался, что так удачно обеспечил гармонию интересов, исключил возможные причины напряженности в наших рядах.
Но, увы, этого Валентину оказалось мало. Он решил использовать свою свободу для подавления моих стремлений, остановки дел моей лаборатории. Он направил усилия своего коллектива в фарватер той самой разработки, которую я оставил себе. Сотрудники Валентина начали откровенно дышать нам в затылок. Любая информация о наших идеях, успехах, промахах активно им анализировалась, чтобы лучшее взять, не расходуя на это собственное время, неудачное как-то заменить и таким образом создать свой победный объект. Не забывал он и про закулисную ориентацию общественного мнения на тот вожделенный объект. Такая победа грела бы душу Валентина по-настоящему, потому что она была бы не просто некоторым шагом в разработках, она спихнула бы в придорожную канаву мой коллектив, который мог стать помехой на будущем рынке изделий.
Могу похвалиться: не удалась ему эта затея, наш объект выстоял. А моя исповедь написана, потому что полагаю небесполезным показать один из печальных примеров потребления добра, отнявший у меня заметную долю здоровья.
Иногда люди говорят: не делай добра – не получишь зла. Это осуществить проще всего. Покопайся "во мраке своих неудач и обид" – и долой великодушие, бескорыстное стремление "сеять разумное, доброе, вечное", прочь попытки выращивать в душах людей все лучшее, что может дать там всходы! Нужно просто наполнять жизнь холодом и подозрительностью – так будешь более защищен.
Что-то тут не так. Почему сказки всех народов во все времена зовут к добру? Почему мы искренне радуемся, когда ощущаем доброту души наших детей и внуков, наших искренних друзей?
Но почему, с другой стороны, столь нередко добронравные люди, в том числе, и мамы, и бабушки, ощущают горечь плодов своего добра?
Да, предлагает нам жизнь такие "почему". И от них тянется дорожка к непростому вопросу: когда потребление добра есть добро, а когда – зло? Любитель прямолинейной логики скажет: когда выращивается нравственность – это добро, а когда безнравственность – зло. И будет прав по большому счету. Но вот А.С. Пушкин попытался осмыслить этот вопрос в "Сказке о рыбаке и рыбке", однако не стал создавать четких формул. Лишь мудрыми намеками помог нам размышлять и поменьше ошибаться в многообразных и сложных конкретностях жизни.
Добро в этой сказке проходит очень разные рубежи.
Первый рубеж – это бесценное добронравие старика. Случайно оказавшись властелином золотой рыбки, он без всякого выкупа отпустил ее на свободу. Это, естественно, вызвало огромную признательность рыбки, ее готовность помогать по мере сил старику в решении его проблем. Следующий рубеж – это бытовая практичность старухи: пожелала, чтобы рыбка заменила ей расколотое корыто новым, а затем ветхую землянку избой.
На дальнейших же рубежах доброта благодарной рыбки удовлетворяет уже не бытовые потребности, а проснувшуюся алчность старухи, взращивает ее бездушие. Рыбка, верная своей признательности старику, превращает старуху в дворянку, затем в царицу. Старик же тем временем изгоняется старухой сначала служить на конюшне, а затем вообще "с очей".
Да, признательность, благородство, добронравие легко могут превратиться в объекты бесцеремонной эксплуатации, в колыбель всяческого паскудства... Но как же сложно, надеясь на хорошее, вовремя остановить поток добра! И рыбке бы остановиться, да вот не смогла, не решилась. Думаю, сохраняла надежду, что ее деяния обернутся каким-то благоразумием старухи, а значит, и добром старику.
Но на последнем, наполненном цинизмом, рубеже, где старуха возжелала стать владычицей морскою, отнять у рыбки свободу и взять ее в служанки, золотая рыбка осознала, что ей не удастся отплатить добром старику, идя на поводу у старушечьей алчности. Старуха же сполна показала рыбке, что не достойна и крупицы добра, поэтому просто-напросто надо вернуть ее к разбитому корыту.
...К сожалению, мы, не сумев вовремя остановиться в своей добродетельной щедрости, чаще всего уже не имеем возможности вернуть безнравственного потребителя подаренного нами добра к "разбитому корыту"...
Без добронравия жизнь стала бы неуютной и беспросветно серой. Мне, например, такая жизнь просто не нужна. Но надо бы нам прилежно учить уроки потребления добра, чтобы пореже выращивать добром зло. Истинное добро бескорыстно, но не бездумно...








