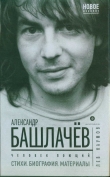Текст книги "Я люблю, и мне некогда! Истории из семейного архива"
Автор книги: Юрий Ценципер
Соавторы: Владимир Ценципер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Асины дни проходят на горкомовской службе, в заботах о сыне, в постоянном ожидании Артура. Хорошо, что рядом были близкие друзья.
И вдруг она уходит добровольцем на строительство метро. Опять захотелось живого дела. Ася освоила несколько строительных профессий, была бригадиром, участвовала в проходке тоннелей, в сооружении станций “Сокольники” и “Дворец Советов” (“Кропоткинская”), была секретарем комсомольской организации дистанции. Позже ее даже избрали депутатом Моссовета.
Когда Юре исполнилось два года, Артур впервые увидел сына. Ненадого ему удалось приехать в Москву. Опять подарки, короткие часы с женой, ребенком, в своем доме.
Материально семья была обеспечена значительно лучше, чем многие другие. Был у них и немецкий приемник “Телефункен”, и фотоаппарат “Лейка” – редкие тогда вещи. Артур смог наконец купить себе концертный рояль, о котором давно мечтал. На другом этаже “Люкса” ему дали отдельный кабинет. Там и стоял этот рояль.
Пробыв дома меньше месяца, Артур снова уехал в Париж.
А тем временем политическая атмосфера в стране делалась все жестче и жестче, особенно после подозрительного убийства С. М. Кирова, единственного в это время конкурента Сталину.
Из воспоминаний Аси Ужет:
Первого декабря 1934 года ко мне в “Люкс” пришли взволнованные Лиля и Муха, вызвали меня вниз, там была система пропусков, и сказали мне об убийстве Кирова. Как это было страшно, как заболело сердце, заныло сильносильно. У всех нас в памяти было его прекрасное лицо, его выступление на XVII съезде партии. После этого Пятаков очень изменился и обычно, когда был дома, запирался у себя в кабинете. Лиля тоже часто была заплакана, мне тогда казалось, что у них какая-то личная драма. Как мало я тогда понимала жизнь.
Ася тоже чувствовала, что оказывается в каком-то тупике. Она опять хочет изменить что-то в своей жизни. И решает поступать в институт.
Наступает переломный 1935 год.
Глава 2
Миша Ценципер
О Ценциперах известно немногое. Борух вырос в большой семье в местечке Освея на берегу довольно крупного озера – естественно, Освейского. Жители – на 90 % евреи – занимались рыболовством. В этом местечке близ нынешней белорусско-литовской границы почти все носили фамилию Ценципер и были в той или иной степени родственниками.
Борух ходил года три-четыре в хедер, другого образования он не получил. Семья была невероятно музыкальной – каждый вечер до молитвы все пели. Самую большую карьеру среди родственников сделал полулегендарный дядя Боруха с отцовской стороны – выкрестился и дослужился до вице-губернатора где-то в Сибири.
Лет с двенадцати Борух начал уходить из дома на заработки и, постепенно двигаясь к югу, попал годам к шестнадцати в Севастополь. Здесь, пройдя все ступени профессии, он вырос до старшего приказчика в магазине-складе металлопроката. Металл Борух или Борис, как его стали называть в находившемся за чертой оседлости Севастополе, знал так, что, лизнув кусок стали, мог определить ее состав. С особой гордостью он вспоминал, как подбирал “рельсу” для силача-борца Ивана Заикина, который должен был эту “рельсу” вечером в севастопольском цирке согнуть.
Борис Ценципер был, по-видимому, удачливым и осторожным делателем своей карьеры. Завел дело, расширял его, богател, переезжал во всё лучшие квартиры. Открывал магазины, обзавелся мельницей в Мелитополе. Украшением его бизнеса был кинотеатр – первый и единственный в Балаклаве под Севастополем – “Черномор”. Ко времени революции возникло еще какое-то суденышко – тоже “Черномор”, о котором Борис говорил: “На корме была будка – гальюн. А когда остатки белых бежали в Стамбул, мое суденышко отобрали, не заплатив”.
На сцене балаклавского кинотеатра перед сеансом пел брат Бориса Соломон, весельчак, композитор и нахлебник, которого Борис содержал как “человека искусства”. Впрочем, он и сам был очень музыкальным – любил и оперу, и настоящую русскую народную музыку (например, хор Пятницкого). В конце жизни он как-то называл по памяти оперных композиторов и знаменитых исполнителей. Набралось больше сотни.
Последними же его словами были: “Как много я работал. Всю жизнь. Работа, работа!”
Третьего января 1911 года Бонца Аронов Ценципер, мещанин, и Рухель Лазаревна Перепелицкая, дочь Брацлавского мещанина, вступили в брак. О чем сделана запись в книге евпаторийского раввина в присутствии симферопольского раввина (Метрическое свидетельство).
Жена Бориса Рахиль постоянно болела – у нее была астма, от последствий которой она много лет спустя и умерла, категорически запретив брать на похороны внуков. Она лежала на высоких подушках, постоянно курила средство от астмы “Астматол” и была неизмеримо более культурным человеком, чем ее муж. От бабушки Володя впервые услышал стихи Брюсова, Саши Черного, Переца Маркиша и других.
Двадцать девятого сентября 1913 года у них родился первенец – Моисей, он же Мося или Миша. В 1915 году на свет появился Самуил или Муля, которого с юных лет все называли Тарасом: их отец был большим мастером на прозвища. В 1917 году родилась дочь Ада.
У Рахили было три брата и сестра Берта (Буся), которая то кем-то работала, то как-то перебивалась – в основном тоже за счет Бориса. Один из братьев, большевик Исаак, был зарублен белыми. Другой, Наум, уехал в 1927 году в Палестину и стал одним из основоположников государства Израиль. Третий, Эммануил (Муня или Маныл), был по своему возрасту и характеру близок Мише, любим им и почитаем – скорее как брат, чем как дядя.
До революции квартира Ценциперов-Перепелицких иногда использовалась для конспиративных встреч, на которых бывал будущий знаменитый советский полярник, начальник первой ледовой экспедиции Иван Папанин. Папанин после революции несколько раз помогал семье наших деда и бабушки выходить целыми и невредимыми из разных советских перипетий.
Справка
В гор. Севастополе на квартире т.т. Ценциперов Б. А. и Р. Л. проходили конспиративные встречи подпольной большевистской группы. Часто проживал у них и активный подпольщик – большевик Перепелицкий И., зверски убитый белогвардейцами.
Подписи членов преднизовой партячейки:т. Переведенцев Н. И.,члены партии т.т. Левитин И. С., Росин П. Э.
Благодаря таким документам Ценципер Б. А. в 1929 году “был восстановлен в избирательных правах, которых он был лишен, так как жил на нетрудовые доходы от эксплуатации мельницы и собственной квартиры на Б. Морской улице дом 7 в гор. Севастополе”.
Учился Миша в школе № 3 – руководил редколлегией школьной газеты и учкомом, преподавал рабочим. А его первой любовью стала школьная пионервожатая Бронислава Мексина, которая была на несколько лет старше.
В 1928 году он с отличием закончил школу и пошел работать в Ликбез Городского отдела народного образования. С ноября 1929 года в течение двух лет он работает в электромеханических мастерских и становится слесарем-инструментальщиком – представителем “аристократии рабочего класса”, как он с удовольствием характеризовал эту профессию годами позже.
Он все сильнее сближался с Брониславой. В восемнадцать лет он писал о ней матери:
Мои чувства начали складываться еще с самого первого момента появления Б. в школе. Я с самого начала почувствовал в ней очень яркую, очень выпуклую личность.
Все в ней вызывало во мне симпатию – и ее работа, и отношения с ребятами – все то, в чем она себя так или иначе проявляла. Ее с каждым днем чувствующаяся незаурядность все более завоевывала меня.
Очень скоро мои чувства приняли новый оттенок, углубляясь с каждым днем.
Я полюбил.
Наличие у меня немалой самоуверенности, известной настойчивости способствовало тому, что я мало задумывался. Я был точно подвыпивший.
К тому же чувствовал и со стороны Б. те же зарождающиеся симпатии. Чувства наши росли.
Она тоже в то время мало задумывалась над тормозящими факторами и действовала, ориентируясь главным образом на свои чувства, зажмурив в то же время глаза на всякие там “разумности”.
Я все это отлично видел, часто ей об этом говорил.
Но, тем не менее, не останавливался, стараясь забывать о противоречиях (и подчас действительно их забывая). Мне ведь так хотелось не знать, не чувствовать, что все шито белыми нитками, что швы недолго выдержат! Но факт оставался фактом и давал себя подчас ощущать довольно остро. Я чувствовал неизбежность печального и недалекого финала.
Отсюда вполне понятно, что наряду с исключительно радостным чувством у меня все более и более пускало корни чувство горечи.
…Дни летят. Постепенно у Б. проходила первая острота порыва – отношения начинали терять свою упругость, начинаются разговоры о том, что, мол, разум несправедливо отброшен. Я почувствовал конец. Но как-то все еще не хотелось осознавать наличие этого факта.
А действительность все настойчивее этого требовала.
Желательного выхода не было.
Было очень тяжело, пришлось уехать. В Севастополе как-никак было бы труднее ощущать разрыв, вернее, связанные с ним последствия.
Я не сказал Б. о настоящей причине отъезда – думаю, она и так поняла…
Точность самоанализа и уверенная способность сформулировать выводы удивительны для столь молодого человека. Слова “наличие у меня немалой самоуверенности, известной настойчивости” точно передают одну из главных составляющих его уже сложившегося характера.
От Брониславы он, вероятно, заразился тяжелой формой туберкулеза – у нее была открытая форма. Болезнь требовала систематической специальной диспансеризации и довольно частого клинического вмешательства (пневмоторакс). Только спустя несколько десятилетий он снялся с диспансерного учета.
Дружественные отношения с Брониславой сохранились надолго. Вот выдержки из ее письма к нему от 1934 года:
Завтра замечательный день. Тебе исполняется 21 год. Родной, любимый, поздравляю тебя. Моим искренним желанием является видеть тебя всегда бодрым, энергичным, жизнерадостным. Расти, мой друг, физически и духовно. Пусть каждый день твоей работы еще крепче сольет тебя с большевиками, но не теряй своей индивидуальности. Пусть кричит твое я, растут вверх мысли. Пусть славные дела Ценципера сделают его имя нарицательным. Синонимом побеждающей мысли должна стать ЦЕНЦИПЕРОВЩИНА. Я так хочу!
Столица манила севастопольцев. Бывший одноклассник Сергей писал Мише из Москвы:
Был в Мавзолее, торжественно-печальное настроение. Вчера я ходил на похороны Скворцова-Степанова. Пробраться к улицам, по которым должны были нести урну с прахом, было невозможно, так они были оцеплены конной и пешей милицией. Процессию ближе чем на 150–200 шагов видеть было нельзя (не пускали). Затем под звуки “Интернационала” замуровали урну, и все стали расходиться. Члены правительства пошли к воротам Кремля. Я стоял около ворот и видел их: впереди шли Рыков со Сталиным, затем группа, среди которой я различил Бубнова, Енукидзе. Затем еще видел т. Луначарского. Остальных не рассмотрел, глаза разбежались.
Другого товарища-севастопольца тоже интриговал недавно построенный Мавзолей:
Мне одна женщина, объясняя, как пройти к Мавзолею, сказала: “Дойдете до магазина ГУМ и увидите Мавзолей”. По дороге я подумал: чудачка, она думает, что ей здесь Мелитополь, “дойди до магазина…”, как будто мало здесь магазинов. Прямо-таки дура… Но представь себе, что мне встречается громадный дом с шикарнейшими витринами. Мне сказали, что это и есть ГУМ. Я зашел в середину. Ты не представляешь, какое впечатление он производит. Это целый торговый город. За одни золотые и бриллиантовые вещи можно было бы купить весь наш Мелитополь с хвостиком. Был я еще в двух музеях: Румянцевском и Музее изящных искусств.
К 1931 году Михаил тоже перебирается в Москву. Его первая московская работа подтверждена документально:
Справка № 298
Данная гр-ну Ценциперу М. Б. в том, что он действительно состоит на службе в механических мастерских механического парка Треста “Гордорстрой” в должности слесаря-инструменталиста.
Он пишет домой:
Работой своей (не местом, конечно) я очень доволен – я многому тут научусь. На днях мы переходим в новое помещение (специально выстроенное), которое великолепно оборудовано, где очень светло и тепло! Зарабатываю я только из расчета 200 рублей в месяц. Правда, в том месяце я заработал очень немного, так как, во-первых, приспосабливался к новым условиям и, во-вторых, расценки были даны очень низкие. В общем, материально я обеспечен недурно. Купил теплую шапку за 26 рублей.
Наш мастер придумал один очень интересный измерительный прибор, разработку, конструирование и изготовление которого поручили мне. Все я это с успехом выполнил, но пришлось 2 дня ночевать на заводе.
В письмах в Севастополь он как старший брат обращается к младшим, дает им советы:
Домашние обязанности мамы надо свести к минимуму, все не занятые должны в этом помочь. Ведь ты, Тарасик, да и ты, Ада, – уже не малые ребята – должны по-взрослому подходить к таким вещам, должны вникнуть как следует в их серьезность. Мало и нехорошо ограничиться тем, чтобы вовремя растопить печку, вымыть посуду, подмести, сходить за хлебом и т. д. Надо, чтобы все это делалось без перебранки. Меня неприятно поразило, что (как пишет Тарас) вы часто ругаетесь. Не хочется приводить шаблонные фразы о том, что это нехорошо, что надо жить мирно и т. д. Постарайтесь и без этого продумать свои действия, знайте только то, что мне это очень неприятно. Не ищите виноватого – виноваты оба – один в большей, другой в меньшей степени.
Ты, Тарасик, пишешь, что у вас дела в ФЗУ[4]4
ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества.
[Закрыть] очень неважные. Горевать тут особенно нечего, это, конечно, неприятно, но свет клином не сошелся на этом ФЗУ. Главное – не охлаждай пыла в учебе и в работе. То, что ты (хотя бы и пока) отошел от общественной работы, очень нехорошо – это неизбежно приводит к тому, что твои действия и мысли в основном вращаются в узко-замкнутом кругу (это относится и к Аде). Но, с другой стороны, надо, чтобы ты ни в коем случае не занимался ею механически. Поэтому обязательно работай, но там, где работа тебя интересует и увлекает – пускай она даже самых небольших размеров.
А вот его оценка происходящего в стране, когда Ада жалуется брату на какие-то безобразия в ее школе:
Сейчас все и всё переворачивается вверх ногами. То, что сейчас проделывается в нашей стране, нигде и никем до этого времени не делалось – учиться, следовательно, не у кого! В результате неизбежные промахи.
Это был не официальный лозунг, но его личное глубокое убеждение.
Ярким периодом в московской жизни Миши с марта 1932-го по март 1935 года была работа на Электрозаводе в качестве слесаря-лекальщика высшего разряда инструментального цеха, а потом – помощником начальника цеха. У него были золотые руки. На заводе он много занимался комсомольской работой, был членом заводского комитета комсомола, в 1933–1934 годах – членом пленума Сталинского райкома ВЛКСМ города Москвы. По совместительству преподавал в школе рабочей молодежи, начал печататься в многотиражке, занимался самообразованием и очень много читал.
Знакомство
В марте 1935 года Ася поступила на курсы для подготовки к экзаменам в педагогический институт. Десять лет прошло с окончания семилетки в Витебске, где, по словам Аси, “научили читать и писать”. Со школы она мечтала стать учителем. На исторический факультет тогда нужно было сдавать, помимо литературы и истории, математику, физику, химию и другие предметы.
На курсах она познакомилась с 21-летним Мишей Ценципером, работавшим на Электрозаводе, имевшем несомненные способности к точным наукам и поступавшим на физико-математический. Они подружились, понравились друг другу, Миша стал помогать ей готовиться к экзаменам. А на экзаменах Миша ухитрился сдать за нее математику и физику, используя бесполость фамилии Ужет. На экзамен по химии он отправился вместе с Асей и уговорил преподавателей поставить ей тройку. Ну, а литературу и историю Ася сама отлично сдала.
Спустя несколько месяцев в своем письме она пишет Мише:
Наша дружба с тобой – это не обычная дружба. Я всегда удивлялась той легкости, которую мы чувствовали, когда были вместе. Хотя мы целый месяц с утра до ночи занимались, нам никогда не было скучно, мы никогда не надоедали друг другу, не утомлялись присутствием друг друга, наоборот – всегда было интересно. Я очень скоро почувствовала, что это не обычная предэкзаменационная лихорадка, и немного испугалась этого. Я знаю, что и ты испугался вдруг сразу возникшей между нами душевной близости.
Энергичный, эмоциональный, эрудированный молодой человек и замужняя женщина, красивая, умная, с двухлетним ребенком. Жизнь соединила их в эти дни навсегда.
Пятнадцатого мая 1935 года в Москве открывается первая линия метрополитена “Парк культуры” – “Сокольники”. Асю наградили Почетным знаком Моссовета, очень качественно сделанным – серебро, эмаль – и похожим на орден Ленина. А накануне открытия метро счастливая Ася вместе со строителями проехала на первом поезде.
Через несколько недель Ася пишет Мише:
А после вечера 22-го я вспомнила всю свою жизнь, вспомнила, что я старше тебя на 4 года (а для женщины это очень много), и испугалась, что я могу внести что-то нехорошее в наши отношения. Миша! Постарайся это понять – это очень важно. Я хочу, Мишка, чтобы ни одного темного пятнышка я в твою юность не занесла. Я знаю, как больно они переносятся и как медленно и болезненно залечиваются.
Видно, были тогда в Асиной жизни какие-то глубокие обиды. Какие? – остается загадкой…
В сентябре вернулся Артур, чтобы работать в Москве.
Двадцать девятого сентября Мише исполняется 22 года. Ася шлет телеграмму:
ЖЕЛАЮ ЕЩЕ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ РАДОСТНОЙ ЛЮБВИ ЦЕЛУЮ АСЯ
Она вычла из 100 лет 22 года и получила 88! Об этом со смехом вспоминали долгие годы.
Миша в тот же день отвечает:
Мне сегодня 22 года. И я не хочу, я не желаю думать о том, что жизнь дарит нам не только золотое солнечное тепло. Те, кому нечего больше делать, те пусть подсчитывают, чего же больше на нашей планете – света или теней? А я не хочу над этим задумываться – я люблю, и мне некогда! Я хочу иметь – пусть немногие – но такие чудесные радости, которые дарит мне сегодняшний день.
Пусть здравствуют радости жизни! Это от них ее сила, ее хмельные запахи, все ее ослепительное цветение.
Я знаю, что жизнь во всех ее проявлениях полна глубочайшего трагизма. Он не всем по плечу, и многие-многие – особенно в быту – не преодолевают серенькое спокойствие змей – взлетами и падениями воинствующих соколов. Этих людей – печальных и зябких – вполне устраивает тихенькая, сентиментальная идиллия – без дум, без тревоги. Они коротают свой век, считая часы и минуты…
Я смертельно боюсь этой рутины, я ненавижу ее всеми фибрами своего существа. Я не знаю, как сложатся остальные “88 лет” моей жизни, насколько они окажутся насыщенными счастьем и радостями. Быть может, еще не раз обожгу я свои беспокойные пальцы. Пусть – это лучше мирного спокойствия ужей.
Асенька! Милая, хорошая моя! Я не буду таиться – мне очень больно от того, что ты не со мной. Да ты и сама это знаешь…
В его письмах того времени – море страсти:
Я люблю тебя так, как не любил даже Броньку. Я готов сделать все, чего ты захочешь. Все свои мысли, самые лучшие чувства, всю ласку юности я готов отдать тебе. Если б было иначе – я бы не встречался с тобой. Впервые в жизни я поступаюсь своей гордостью. Я заставляю себя не думать о том, как ты живешь, что у тебя особая жизнь.
Разве нужно говорить, что я был бы безмерно счастлив, если бы ты бросила все и вся и пришла ко мне? Мне кажется, что и ты была бы счастлива. Но ты слишком глубоко свыклась с мыслями, что жизнь свою менять нельзя. Я не знаю – плохо ли это, хорошо ли, но это так. И мне очень больно от этой мысли.
Чуть ли не в каждом письме звучит одно: мы должны жить вместе. Ася должна покинуть “этот круг” и прекратить общаться с этой “мерзостью” – Миша презирает ее номенклатурных знакомых. Оба были продуктом пролетарской школы, оба верили, что страна идет к социализму.
Миша пишет:
Жизнь в нашей стране так прекрасна – сделаем ее еще лучше – так, чтобы искры летели.
Признать “буржуазную” прослойку вокруг Аси он не мог:
Если ты будешь продолжать (хоть сколько-нибудь долго) так жить – я знаю – это приведет к грустному концу. Я не хочу этого! А ты – разве ты хочешь этого? Уйди, родимая, оттуда.
О будущем не стоит сейчас загадывать. Я только хочу быть совершенно уверенным в том, что жизни наши – твоя и моя – должны быть хорошими, мужественными, достойными времени и страны нашей.
Наконец Ася решилась все рассказать мужу. Какова была его реакция – неизвестно, но, видимо, он понял ее. Однако настоял, чтобы она продолжала жить в “Люксе”, хотя бы ради Юры.
Вот как пишет отец спустя 60 лет о том времени в письме к сыновьям:
В конце 1935 года мама обо всем рассказала Артуру. Было решено, что мама с Юрой продолжают жить пока в “Люксе”.
Мне такая жизнь казалась недостойной (да и маме тоже). Я настоятельно просил-требовал: или – или. Говорил, что получу комнату в общежитии, уйду в отпуск (чтобы работать) и т. д. Мама временами говорила о том же: если надо – пойду работать. Юру пока что отправлю в Сталино к своим родителям и т. д. Было обоим очень сложно, больно, да и просто стыдно за эту двойную жизнь вразрез с нашими идеалами.
Артур и Ася стали жить в разных номерах. На одном этаже в комнате осталась Ася с маленьким Юрой и тетей Пашей, а на другом – где был рояль – обосновался Артур. Формально они оставались мужем и женой.
Встречать в Москве Новый, 1936 год не хотелось, и Ася вместе с Юрой поехала в Томилино на дачу к знакомым. Вот что она писала в Севастополь, где гостил у родителей Миша:
Я тебе больше не завидую. Ей-богу, здесь не хуже, чем у тебя. Сегодня каталась на коньках, хотя я и не умею, но это такое огромное удовольствие – носиться по льду, чувствовать себя молодой, сильной. Я обязательно должна в этом году выучиться хорошо ездить.
К сожалению, я совсем не обладаю твоими способностями описывать природу, а здесь прекрасно-белая нетронутая земля, тихие бело-зеленые деревья, какой-то совсем особый воздух и тишина, которой, конечно, сейчас на море не может быть.
Я совсем задохнулась сегодня. Легла на снег, сверху на меня падали большие хлопья белых звезд, и я кричала от удовольствия.
Мой родимый, почему мы не можем быть вместе, когда так хорошо.
Увлекаюсь беллетристикой – читаю много.
Описывать свои впечатления Миша действительно умел. Он часто пишет о Севастополе:
Через несколько часов я в Севастополе. Крым чувствуется даже сквозь закрытые окна вагона. Снега нет и в помине. Небо совершенно голубое и какое-то удивительно высокое. А главное – солнце! Только что был Бахчисарай – выходил за яблоками, и сразу же оно обласкало меня, старого своего знакомца.
А сейчас за окном кружатся горы, бегут стремительные тополя и вот-вот покажется… море!
Пять дней тому назад подумали кататься на парусной яхте и все ждали ветра. И вдруг вчера подул такой хороший, чуть-чуть сдвинутый норд-ост. Катались часа три – до самого заката солнца.
Устали как черти, но зато, что за удовольствие получили!..
С утра сижу на Приморском бульваре, внизу у скал… высоко в воздушной сини – кружатся серебряные от солнца чайки и похожие на чаек самолеты. Только что вышел в море огромный крейсер. На нем оркестр, и еще слышны звуки марша.
…Вчера много часов бродил по знакомым улицам. Город освещен очень слабо. Старенькая электростанция совсем выдохлась, а новая, большая, еще не готова. Но местные жители в очень хороших отношениях с луной, и – спасибо ей! – можно разгуливать, не рискуя повредиться на бесчисленных ухабах и всяких там вероломных мостиках.
Улицы тихие-тихие. Только изредка грохочет машина, всполошив голосистых собак. Да еще то тут, то там слышны звуки – “всплески” поцелуев (в этом городе просто грех не целоваться) …
Миша постоянно пишет о книгах, вызывавших у него страстное отношение на протяжении всей жизни:
Как это ни странно, почти нет свободного времени. Даже читать не успеваешь – за все время прочел только 2 книги: “Тартарена” и прекрасные “Причуды природы” – сборник Цвейга.
Эту последнюю я читал, когда мне было 14 лет (точно так же, как Боккаччо и Мопассана) – т. е. когда я ровнехонько ничего не понял. А сейчас я читаю ее (там несколько лучших рассказов) – и в неистовом восторге. Цвейг хотя и не так грандиозен, как Р. Роллан, но в художественном отношении, пожалуй, даже сильнее его.
Я постараюсь, чтобы эта книга побывала и у тебя.
Прочел Олешу (я тоже купил его “Избранное”). “Зависть” – очень хорошо (помнишь “ветвь, полную цветов и листьев”?). Хороши сказания о Ньютоне, о синих грушах. Особенно конец – “не надо мне ваших синих груш!”
Взялся перечитывать замечательную работу Плеханова – “К вопросу о монистическом взгляде на историю”[5]5
Точное название: “К вопросу о развитии монистического взгляда на историю”.
[Закрыть]. Но здесь дело идет много медленней, чем с Олешей…Я читаю сейчас В. Катаева “Белеет парус одинокий”. Помнишь, в институте, тогда на вечере, он читал отрывок (Петька считает до миллиона и пр.). Чудесная книжонка – солнечная такая, радостная. И для ребят, и для нас хороша…
Достал интересную книгу. Об исторических памятниках, сооружениях. Я ее привезу – ты, наверное, тоже найдешь в ней интересные для себя вещи.
Это оттуда я вычитал об Армагеддоне. Узнал о китайской династии Мин. О прекрасном сыне Аменхотепа III…
Мы отправимся с тобой бродить по Южному берегу; будем читать Г. Гейне о звездных ночах Италии, о ее соловьях и Франческах и будем радоваться, что у нас все это – и соловьи, и ночи, и Франчески!
К числу любимых книг Миши относились “Былое и думы” Герцена, Гейне, Горький, Маяковский, Диккенс (с его мистером Тутсом из “Домби и сына”), Ромен Роллан (“Очарованная душа”, “Кола Брюньон”). Кстати, Миша часто звал Асю – Ластой. Это из “Кола Брюньона”.
В письмах не раз с любовью упоминается маленький Юра:
Юрке скажи, что его наказ выполню: увезу полморя Черного, закуплю завод конфетный, захвачу печенья разного.
…Ты пишешь, что много времени уделяешь сыну. Заботы о Юрике – радостные и счастливые материнские заботы. Этот маленький человечек – твой плоть от плоти. В нем твоя кровь, твои мышцы, твои соки.
…Воспитывай его, дорогая моя! Но не забывай себя. Это нужно и ему – сыну, – и мне. Он еще маленький и не может сказать тебе: “Отдохни, мама!” Я прошу поэтому за двоих: Асенька, милая, родная! Отдохни и не грусти. Обещай это, ладно?
Ася пишет:
С Юркой мне очень хорошо. Он такой разумный чудесный мальчишка стал, и у нас с ним очень хорошая дружба. Его все удивляет и радует.
Сегодня мы с Юрой приехали в Москву и целый день путешествовали. Ездили на речном трамвае, гуляли в парке, покупали сладости и игрушки, он, конечно, захлебывается от удовольствия и сейчас спит богатырским сном.
Вчера, когда я его купала, он меня спрашивал:
– Мама, а почему у меня только две ножки? Мне нужно больше. Мама, а кто сделал мне ручки?
Ася познакомилась с Тарасом и Адочкой, когда те приезжали в Москву из Казани, где учились в разных институтах. В их письмах к старшему брату и Асе в Москву интересны и восприятие ими того времени, и оценка друг друга.
Из письма Тараса:
Как вам нравятся ваши “соколы”? Забрали абсолютно все мировые рекорды высоты с грузом и имеют “нахальство” замахиваться на уцелевшие.
Юмашев, очевидно, в будущем году пустится в кругосветный скоростной полет на одном из “Антов”.
Следил ли ты за дискуссией “Известий” и “Правды” о джазе? Плохо, что “Правда”, при относительно большей правоте, ведет себя, как и обычно, очень грубо, и она, да и “Известия”, весь свой пыл выпускают на оппонента в первую очередь. А в результате на деле по всему Союзу джаз в его худших формах вытеснил не классическую музыку, а настоящий музыкальный джаз.
Адочка жалуется старшему брату на милейшего, но, как ей казалось, легкомысленного Тараса:
Он просто ленив и флегматичен до крайности. Когда ни придешь к ним в комнату, всегда разговор, шахматы, папиросы.
Ясно, что в такой обстановке заниматься нельзя. Сколько раз я его звала в читалку! Все безрезультатно. А между тем у моих соучениц учатся братья на старших курсах, и учатся очень хорошо. И на каток, и в кино успевают сходить, и сестру навестить, принести ей что-нибудь вкусненького.
На старшего брата она тоже смотрела трезво:
А поэтому хочу пожелать всего хорошего. Твердо верю в твои силы и возможности.
А главное: побольше скромности и поменьше опьянений! Это делает человека не только умным (“большим”), но и приятным.
В конце июля 1936 года Миша зазывает Асю знакомиться с семьей и с Севастополем:
Ласочка! У нас с тобой будет здесь своя комната и хорошее дружеское окружение вокруг.
Будем играть в теннис и волейбол. Будем заниматься фотографией и стихами.
Я так одуреваю от всех щедростей Крыма, что прихожу домой, беру томик Маяковского и ору, и горланю его звенящие стихи. Помнишь
Она отвечает:
Мишук мой, мне кажется, что будет лучше, если у нас с тобой не будет отдельной комнаты. Я могу прекрасно устроиться с Адой, а у нас с тобой будет лучше мир – море, берега и скалы его, степи, небо, сухая трава, цветы, и мы себя будем лучше чувствовать. Подумай об этом, милый, я бы хотела, чтобы было так. Так будет веселей и лучше.
Миша:
В каком-то из недавних писем, переполненный самыми радостными чувствами, я, между прочим, написал тебе, что у нас будет с тобой своя комната. Ты пишешь сейчас, что этого не нужно, что ты “прекрасно устроишься с Адой”.
Я хочу, чтобы так было. Я не знаю причин, которые заставляют тебя хотеть иной обстановки. Это могут быть очень маленькие и очень несложные соображения излишней стыдливости. (Перед кем? За что, за какие некрасивые дела?) Их можно легко перешагнуть.
Но это могут быть и другие причины. Я никогда больше не буду говорить о них, но, если они есть, если тебя по-прежнему одолевают всякие сомнения – лучше не нужно никакого общения.
Осенью 1936 года Миша все настойчивее просит ее уйти из “Люкса”:
Эти слова – не упреки, ты вольна делать только то, что желаешь (и это очень хорошо, что ты только это и делаешь). Но я не могу смириться с такими ограниченными чувствами в отношении себя. Ты – вторая женщина в моей жизни, которую я действительно люблю, люблю со всей силой своей юности. Я готов отдать тебе все, что имею. Но я жаден – и я хочу не меньшего от моей любимой. Я готов смириться буквально со всем, но только не с тем, что меня недостаточно любят.
…Я хотел бы, чтобы у нас был наш ребенок. Все, что есть самое лучшее во мне, я отдал бы ему. Я не ропщу, что его нет, мне только очень печально, что это так… Я кончаю. Я вижу сейчас, что не вправе был требовать от тебя иной жизни. В тебе нет сил для нас. Это, может быть, не вина твоя, но это так. Живи по-своему, родная.
Это был конец. Через многие годы, уже в другом письме, отец писал: