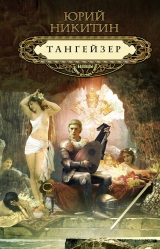
Текст книги "Тангейзер"
Автор книги: Юрий Никитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 15
Все-таки с императором прибыло народу достаточно, хотя по большей части это рыцари преданного ему Тевтонского ордена, все настоящие гиганты. Себя Тангейзер считал достаточно рослым, но на прибывших приходилось смотреть снизу вверх, и не раз подумал с трепетом, что с такими слонами не только в бою, но и в турнирной схватке встречаться страшновато…
Тангейзер из-за их голов и широких плеч мало что мог рассмотреть, но когда вошли в Храм Гроба Господня, там не было ни одного епископа или священника.
Все замерли, не зная, что делать, корона властелина Иерусалимского королевства покоится на сиденье королевского трона, но даже епископы Винчестерский или Эксетерский не имеют права к ней притронуться…
Тангейзер затаил дыхание. Император гордо выпрямился, уверенным шагом пересек пространство, отделяющее его от трона, в Храме наступила вообще мертвая тишина, никто даже не дышит, а император спокойно взял корону и возложил ее себе на голову.
Некоторое время все еще стояла тишина, потом пошли вздохи облегчения, как-то никому и в голову не приходило, что можно поступить вот так, а не дожидаться, что корону должен опустить на голову только папа римский.
Император повернулся, сел на королевский трон, уже как монарх Иерусалимский, с улыбкой кивнул Герману фон Зальцу.
Гигант развернул свиток с красными сургучными печатями и громко зачитал обращение императора Фридриха, который милостиво прощает папу римского Урбана Четвертого за доставленные ему неприятности.
Потом император отправился осматривать город, что теперь принадлежит ему, а значит, и всей Европе, но посещал не только многочисленные христианские святыни, но и мусульманские.
Появились католические священники, на императора с короной на голове смотрят с ненавистью, но теперь уже делать нечего, приходится применяться к свершившемуся, и они пристроились в конце к свите.
За время императорского объезда Иерусалима муэдзины аль-Аксы дважды призывали к молитве, католические священники шипели, втихомолку требовали прекратить святотатство, но их голоса до императора просто не доходили.
Однако, когда они попытались последовать за ним в Собор на Скале, он обернулся, взглянул с удивлением и негодованием:
– А вы куда?
Священники в испуге начали кланяться, один пролепетал:
– На… Храмовую гору… господин…
Император прорычал гневно и очень громко, как понял Тангейзер, намеренно, чтобы слышали и сарацины, столпившиеся в сторонке:
– Клянусь Богом, если хоть один из вас еще раз войдет сюда без разрешения, я выколю ему глаза!.. А теперь вон отсюда, папские лизоблюды!
Тевтонцы с грубым смехом проводили священников пинками. Сарацины смотрели удивленно, даже не переговаривались, чересчур пораженные тем, что видят.
Тангейзер думал смятенно, что самый успешный и бескровный крестовый поход совершил крестоносец, «креста на котором нет», но вот Манфред утверждает, что раз уж все жаждут крови, то это великое деяние пройдет незамеченным.
Более того, император намеревается вернуться в Европу и показать папе, кто хозяин на континенте, так что здесь постепенно все пойдет вразнос, и христианский мир со временем потеряет Святой Город, если не отыщется такой же мудрый правитель, как их господин…
В чем-то он прав, хотя Тангейзеру очень не хочется в такое верить, это же признаться, что и сам дурак, а также злобное животное, ощутившее разочарование, что вот эта Святая земля, за которую пролито столько крови, получена без боя и горы трупов с обеих сторон.
Как в поисках спасения, он протянул руку и коснулся кончиками пальцев лютни. Вот ей, единственной, мир лучше войны. Когда звенят мечи, не до песен.
А если и до песен, мелькнула мысль, то до самых простых, где больше крика, чем самой песни. А он простых больше не сочиняет…
Манфред сказал в кругу рыцарей, что весьма желательно, чтобы хотя бы несколько человек поселилось в самом Иерусалиме на какое-то время. Кто-то, возможно, предпочтет остаться здесь навсегда, как вот он уже и забыл, как там в родной Германии, здесь у него и земли, и владения, и дома со слугами, так что подумайте, решите, а мы, если нужно, поможем.
Тангейзер ответил первым:
– Я останусь!.. Мне здесь нравится.
Послышались голоса:
– И я!
– И мне!
– Я тоже…
– Сегодня же подыщу дом…
Манфред поворачивался, лицо светлело, наконец кивнул с самым довольным видом.
– Прекрасно. Думаю, хватит и добровольцев. Императора тревожить не придется. Но если что понадобится, обращайтесь сразу!
«Мне что-нибудь обязательно понадобится, – подумал Тангейзер. – Уж я-то придумаю, что мне понадобится, только бы еще побывать у императора».
Он поселился в большом доме, где с десяток квартир вдоль длинного коридора, на первом этаже неплохая харчевня, где ему сразу же понравилась и еда, достаточно причудливая, что удивило и обрадовало, и прекрасное вино, какое невозможно отыскать в Германии, а здесь оно на каждом шагу в лавках местных иудеев и христиан, им торговать вином Коран не запрещает.
Вино подавала тихая неприметная девушка, он расплатился и, прихватив еще и с собой вина и еды, поднялся в свою комнату. Когда он уселся на подоконник и принялся настраивать лютню, она тихохонько вошла, держа перед собой и сильно откинувшись назад, целый ворох простыней, одеял и подушек.
Она служила по дому, как он понял, совсем недавно, если даже не знала еще, что и где лежит в таком громадном жилище этих богатых людей. Тангейзер невольно залюбовался ею, когда она шлепала босыми ногами по прохладному полу и заходила к кровати то с одной стороны, то с другой, красиво размещая множество мелких подушечек, как это принято у сарацин.
Тангейзер не понимал, зачем столько подушек, когда достаточно одной большой, но не мешал ей, только рассматривал, как она готовит ложе, наклоняясь над ним и расправляя складки на покрывале.
Чистое бесхитростное лицо простолюдинки смотрится просто милым, но не более, такие же почти детские глаза, они показались ему почти прекрасными, но напомнил себе, что видел их сотни раз, почти у всех юных девушек, выросших в простоте крестьянской жизни, они прекрасны только чистотой юности.
– Как тебя зовут? – спросил он.
Она оглянулась в некотором испуге, но улыбнулась несколько просительно, ответила торопливо:
– Герда, господин.
– Что? – переспросил он. – Так ты не местная?
– Нет, господин.
Он сказал с удовольствием:
– Вот уж не думал, что встречу здесь соотечественницу!
Она ответила чуть смелее:
– Я все еще похожа? Мне кажется, я так почернела на этом ужасном солнце, что уже никак меня не отличить от местных сарацинок!
Он с удовольствием смотрел в ее светлые глаза с выгоревшими ресницами.
– Отличу.
Смотреть на нее, чуточку растерянную и сильно польщенную, что с нею разговаривает так мило и любезно знатный и красивый рыцарь, лестно и приятно. Это сразу как бы предполагает, что она в какой-то мере уже его, и не нужно долгой любовной игры, как со знатными дамами. Здесь нет капризов, а только ее восхищение, с каким она смотрит на него. Он сам попытался взглянуть со стороны и признал с самодовольством, что да, он статен и красив, высок, силен, с хорошим лицом, на котором ясно запечатлены черты мужественности и благородства.
– Ты здесь помогаешь отцу?
Она покачала головой, повернулась и посмотрела в окно.
– Нет.
– Мужу…
– Да, – ответила она. – Он здесь на подрядных работах с бригадой каменщиков. Если сумеем заработать, то и сами купим здесь дом.
Он удивился:
– Но здесь же сарацины!
Она пожала плечами.
– А какая разница? Они христиан не трогают. Это христиане истребляют даже тех, кто сидит дома, не воюет.
– Это было давно, – возразил он, – император Фридрих так не делает. Значит, помогаешь по дому здесь, пока у вас нет детей?
Она быстро кивнула.
– Да…
Он взял ее за руку.
– Пойдем, пообедаешь со мной. А то я уже проголодался, а одному за столом как-то скучновато.
Она посмотрела ему в глаза застенчиво и вместе с тем отважно.
– Спасибо, добрый господин.
Он с удовольствием смотрел, как сняла платок, светлые волосы убраны в толстую косу и уложены двойным кольцом на голове, он сразу же подумал, что чуть позже велит распустить их, это же такое наслаждение видеть распущенные волосы, разметавшиеся по белой измятой подушке…
Она ела несмело и застенчиво, чувствуя его взгляд, уже раздевающий и ощупывающий, к тому же страшилась сделать что-то не так, и он поспешно налил ей и себе вина, но она затрясла головой.
– Нет-нет, я вина не буду…
– Почему? – спросил он, но, спохватившись, сказал с неловкостью: – Ах да, конечно…
Но сам он выпил подряд две полные чаши, но не пьянел, а вот она, словно забирая от него хмель, держалась то с крайней робостью, то с развязностью, что изнанка той же робости, то и другое для нее не совсем свойственно в ее рутинной жизни, а сейчас такое необычное приключение, что она то смущалась, то встряхивала головой и смотрела на него достаточно откровенным взглядом.
Он поднялся, ощутил, насколько он крупнее, ее голова едва доходит ему до середины груди, она испуганно вскинула взгляд, а он властно взял ее за руку и повел в другую комнату, где кровать.
Она осталась стоять, когда он сел на край ложа и принялся стаскивать сапоги, потом решилась и быстро сняла через голову платье, оставшись в чем мать родила, и, несмотря на жаркий душный воздух, вся покрылась гусиной кожей, то ли от смущения, то ли от страха и осознания, что делают недозволенное и потому такое сладостно-манящее.
– Волосы, – сказал он.
Она поняла, торопливо и услужливо вскинула руки и начала вынимать сперва шпильки, удерживающие все это сооружение на месте, потом быстро расплетала саму косу, а он смотрел с нежностью и смущением, что он, сильный и могущественный, пользуется своими преимуществами, а она смотрит на него с восторгом.
Волосы рассыпались по ее худой спине, худые ключицы тоже стыдливо спрятались под ними, а он смотрел с жалостливой нежностью и долго не мог вымолвить ни слова.
– Иди сюда, – велел он.
Она быстро и с суетливостью пришла в его руки, глаза расширенные от ужаса своей бесстыдностью, дыхание участилось, он с нежностью чувствовал, как часто-часто колотится ее маленькое сердечко, у женщин у всех оно вдвое меньше мужского, а у этой вообще как у воробышка…
Глава 16
Когда она ушла, он некоторое время лежал навзничь, вспоминая сладкие моменты, прогоняя их в памяти по несколько раз, затем взял лютню и, уплатив мелкую монетку местному сторожу, то ли сарацину, то ли иудею, кто их разберет, семитов, поднялся на крышу высокого дома, что и сам расположился на холме.
С высоты Иерусалим поразительно мал, весь он под ногами, а во все стороны тянется почти мертвая страна, где либо каменистые холмы, либо долы со скудной зеленью, и только на самом краю города странная чересполосица католических храмов и сарацинских зданий, дивно изящных, развратно-утонченных, перебивающих мысли о величии Господа желаниями греховной плоти.
Если взглянуть на север, там высится непривычно белая гора Самуила, древнего пророка, если же повернуться на восток, то сразу за Кедроном и горой Елеонской простирается Иудейская пустыня, а еще дальше долина Иордана и та река, где Иоанн Креститель встретил Иисуса и признал его мессией. Сейчас вместо реки, поражавшей воображение молодого Тангейзера, мелкий заиленный ручей, да и тот, скорее всего, скоро исчезнет…
Он взял лютню поудобнее, в новом мире и песни должны получаться другими. Хотя бы чуточку, но другими.
На другой день он увидел, как Герда несет еду в большой корзине работающим неподалеку каменщикам, они заканчивали возводить просторный и, наверное, удобный дом.
В простом платье по щиколотку, маленькие босые ступни, милое лицо, замечательное только чистотой и свежестью невинности, простое и бесхитростное, он чувствовал, как сердце начинает стучать от нежности к этой простой молодой женщине, которой никогда не увидеть дворцов, разве что издали…
Он постарался попасться ей на дороге, подмигнул в сторону своей квартиры. Она сильно покраснела под его взглядом, покорно наклонила голову.
Еще три дня он ее не видел, на четвертый оседлал коня и отправился осматривать со всех сторон мечеть аль-Аксы, единственное место во всей полумертвой Палестине, что не просто живет, в ней бьется сердце этого мира, юного и бескомпромиссного, еще более жестокого, чем христианство… или христианство было таким же в первые столетия?
Черно-синий купол, как сейчас кажется, виден из любого конца Палестины, а вообще он виден из любого уголка сарацинского мира, а также о ней говорят и говорят в Риме, германских землях, итальянских, английских, французских… и везде-везде, куда простерло крылья учение Христа, сейчас отодвигаемое в сторону дерзким, как всякая молодость, исламом.
Но и на самом деле мечеть видна даже из-за далекого Мертвого моря, с отрогов Моавитских гор…
Он не успел додумать мысль, когда увидел Герду, она идет уже с пустой корзинкой, голова опущена, походка усталая, да и день закончился, солнце опустилось за горы, на весь Иерусалим и долины внизу легла густая пепельная тень.
– Герда, – позвал он, но она не услышала, прошла в великой задумчивости.
Он засмеялся, пустил коня вдогонку, а когда она услышала настигающий конский топот и попыталась отскочить в сторону, было уже поздно.
Она тихонько вскрикнула, когда могучие руки подхватили ее с такой легкостью, словно она перышко, конь несся по пустым улицам огромный и грозный, с развевающейся гривой и раздувающимися ноздрями.
Когда выметнулись за город, Тангейзер остановил коня в крохотной роще оливковых деревьев и лишь тогда соскочил на землю, снял ее к себе, такую послушную и замершую от сладкого ужаса.
Она вскрикнула тонко и счастливо, как маленькая птичка, прижалась всем телом, подняла пылающее стыдом и счастьем лицо, он целовал ее и чувствовал, как под ресницами полно горячих слез.
Он бросил на землю плащ, а она с заботливой покорностью подняла платье и легла навзничь, полностью отдаваясь его воле, его чувствам и его жажде насладиться ею.
Его сердце колотится так же часто и мощно, словно взбегает на вражескую стену, отражая удары и нанося их сам, а кровь шумит по телу, вздувая жилы, и в то же время он чувствовал неслыханную нежность к этому существу, что отдается ему целиком, нарушая все законы, писаные и неписаные, человеческие и данные от Бога.
– Герда, – прошептал он. – Герда…
И умолк, потому что сказать «Я люблю тебя» не мог, это же неправильно, любовь – что-то особое и неземное, обязательно высокодуховное, с этим родился и вырос, а сейчас просто радость, счастье, наслаждение…
Она закрыла глаза и счастливо отдалась его натиску, только иногда задерживала дыхание, а он, хоть и наслаждался, как молодое здоровое животное, не переставал целовать, упиваясь ее чистотой и той преданностью ему, что читается в каждом ее движении и взгляде.
А на четвертом свидании она сообщила ему, что бригада закончила подрядные работы, завтра с утра их уже ждет новая работа в другом месте, это в соседнем городе, так что она пришла в последний раз…
Тоскуя, он захватил с собой лютню, надеясь на вдохновение, выехал из лагеря верхом, к городским воротам приблизился с опаской, столько крови пролито за этот город, здесь земля на милю вглубь кровью пропитана, и это только из-за сражений крестоносцев с сарацинами, а сколько отгремело сражений в древности!
В тени цитадели расположились тесно друг к другу лавки, где продается всякая мелочь тем, кто лишь посетил Иерусалим и что-то хочет увезти на память, а дальше вся улица отдана крохотным мастерским, лавкам, даже сверху все перекрыто между домами толстым полотном, закрывая от солнца и дождей, если они бывают в этой странной, прокаленной на солнце стране.
Он долго бродил там, а по возвращении слагал песни, странные и неровные, с рваным ритмом, такие непривычные для слушающих друзей.
– Может, – предложил как-то Вальтер задумчиво, – просто его прибить, чтоб не мучился?
– Лучше всего, – поддержал Константин, – а то он даже про женщин сказать по-человечески не может! Бред какой-то…
– Сладость губ, – возразил Тангейзер возвышенно, – упругость грудей, острота женских взоров и красота моей поэзии понятны лишь знатоку.
Вальтер сказал саркастически:
– Знатоку – это тебе, Тангейзер?
Тангейзер ответил скромно:
– А разве еще в нашем войске есть хоть один, кто смакует пищу? Нет, вам лишь бы ухватить кое-как зажаренный кусок мяса и проглотить, аки волки!
– А ты?
– Я? – изумился Тангейзер. – Что я, умный и чувствительный человек… а поэты обязаны быть чувствительными!.. везде ищет тонкую красоту. Тот же кусок мяса можно просто проглотить, как вон делает Константин, а можно старательно отбить, чтобы стал мягче, прожарить, потом полить аджикой, посыпать перчиком, обложить горькими травами…
– Замолчи, – взмолился Константин, – я уже начинаю слюной захлебываться!
– То-то, – сказал Тангейзер победно. – Так и с женщинами. Можно просто поиметь, а можно понаслаждаться… Медленно, неспешно, не пропуская ни одного сладкого мгновения…
Карл проворчал с достоинством:
– Можно, но это как-то не по-мужски.
– Почему? – спросил Тангейзер.
– Не знаю, – ответил Карл в раздражении. – Не по-мужски, и все! Вон папа хочет подгрести под свою власть Южную Италию, сарацины отдали еще не всю Святую землю, а ты… наслаждаться в постели!
Тангейзер хмыкнул.
– Могу и не только в постели.
– Тьфу на тебя!
– На меня можешь, – ответил Тангейзер с достоинством, – лишь бы не на песни.
– А на песни, – сказал Карл ожесточенно, – трижды тьфу-тьфу-тьфу… Какой ты, такие и песни.
– Грубые вы, – ответил Тангейзер со вздохом.
Манфред иногда навещал рыцарей, поселившихся в Иерусалиме, расспрашивал, как им здесь. Тангейзеру казалось, что советник императора преследует какую-то еще цель, кроме простого желания помочь обустроиться тем людям, которые символизируют, чей это теперь город, но пока понять не мог, что Манфред или даже император замыслили.
– Я бы посетил Собор на Скале, – сказал Тангейзер и добавил, демонстрируя знания: – Он же мечеть Омара или аль-Акса…
Манфред усмехнулся, наивная хитрость молодого поэта видна издали, сказал с интересом:
– Ты же сопровождал императора, когда он туда заходил?
Тангейзер помотал головой.
– Нет-нет! Когда он погнал священников… Я тоже не решился.
– Почему?
– Не знаю, – признался Тангейзер. – Как-то стало… сам не понимаю. Но не вошел.
Манфред рассматривал его очень внимательно, Тангейзер ощутил себя маленьким и несчастным под его испытующим взглядом.
– Иерусалим, – сказал Манфред, – одинаково священный город для иудеев, сарацин и христиан. Но все-таки ты ж христианин? Зачем тебе мечеть?
– Не знаю, – признался Тангейзер. – Но есть же в исламе некая тайная сила, что в такой короткий срок покорила столько стран и народов?.. И сарацин стекается поклониться мечети Омара больше, чем христиан или иудеев!
Манфред пожал плечами.
– Хорошо, но без меня не ходи. Я не хочу, чтобы на свете стало одним певцом меньше по его дурости.
Тангейзер сказал обидчиво:
– Почему дурости?
– Ладно, по незнанию, – ответил Манфред. – По незнанию чужих обычаев легко оскорбить человека, не слыхал?
– Буду рад, – ответил Тангейзер льстиво, – посетить в вашем обществе.
– Лиса, – сказал Манфред с неодобрением. – Хотя… ладно, я закончу тут дела, еще на полчаса, а потом отведу тебя.
Тангейзер сам не мог бы сказать, когда у него возникло это навязчивое желание посетить мечеть Омара, но еще с первого дня в Иерусалиме в какую бы сторону света он ни смотрел, то либо видел эту мечеть, то чувствовал ее за спиной, исполинскую и таинственную, целиком поглотившую своим победным величием то место, где когда-то стоял храм, воздвигнутый Соломоном.
Но и мечеть прекрасна, просто ее возвели люди с другим вкусом, другой культурой и другим видением прекрасного, она необычна и ужасающа, как видение грозного льва для человека, привыкшего видеть только собак и кошек.
Манфред справился даже раньше, чем обещал, и они поехали верхами по узкой улочке в ту сторону. Манфред сообщил, что эта улочка называется Давидовой, потому что по ней ходил тот самый Давид, великий царь.
Даже им, двум могучим крестоносцам на огромных тяжелых в броне конях, трудно протискиваться по улочке, где и так тесно от множества паломников, среди которых сарацины, христиане, а в их толпе выделяются одеждами священники всех религий и мастей, также там ведут осликов, верблюдов, даже прогнали стадо коз…
Мечеть приближалась, огромная и величественная, с золотым куполом, но Манфред перехватил восторженный взгляд Тангейзера и сказал суховато:
– Вообще-то мечеть Омара вовсе не мечеть, а купол, специально построенный отвоевавшим Иерусалим у христиан-византийцев халифом Омаром над местом, где находилось сердце Храма – Святая Святых и главный жертвенник.
– С чего он… так?
– Потому что сарацины чтут сердце Храма не меньше христиан, – ответил Манфред.
Тангейзер молча смотрел на золотой купол с полумесяцем на вершине, что приближается к ним с каждым шагом.
Манфред начал рассказывать, что именно здесь, на горе Мориа, Авраам готовился принести в жертву своего сына Исаака. Здесь же однажды царю Давиду на вершине горы Мориа явился ангел Господень, держащий в руке обнаженный меч, занесенный над Иерусалимом. Нога ангела коснулась вершины скалы, которая навеки почернела и оплавилась. Чтобы искупить свой грех, царь Давид воздвиг на этой скале алтарь-жертвенник.
Позже его сын, мудрый Соломон, построил на этом месте огромный храм, где хранился легендарный Ковчег Завета. Но вавилонский царь Навуходоносор захватил Иерусалим, разрушил храм Соломона, и хотя потом его несколько раз восстанавливали, но однажды на восстановление сил уже не хватило.
Мусульмане же утверждают, что Мухаммад ангелом Гавриилом был внезапно перенесен на волшебном животном в Иерусалим, на скалу Мориа. Здесь над пророком разверзлись небеса и открылся путь, приведший Мухаммада к трону Господа. Этой ночью Мухаммаду открылись правила мусульманской молитвы. Сегодня мечеть «Куполом Скалы» отмечает то место, с которого Мухаммад вознесся на небеса.
– А в мечети, – закончил он, – нам покажут отпечаток ноги пророка и три волоска из его бороды.
– А откуда волоски? – спросил Тангейзер.
– Говорю же, из бороды!
– Нет, а почему…
– Не знаю, – ответил Манфред раздраженно, – ты поэт или ученый?
– Поэт…
– Вот и додумай сам!




