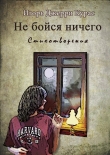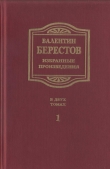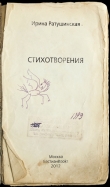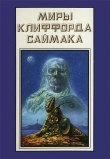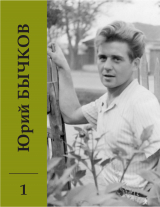
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1. Ранние стихи. С этого началось"
Автор книги: Юрий Бычков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Постепенно Мелихово при Ю.А. Бычкове превратилось в настоящий дом для артистов и театральных режиссёров. Сюда приезжали, чтобы сыграть в спектакле, снять фильм, просто побродить по аллеям гостеприимной усадьбы. Ю.М. и В.М. Соломины, О.Н. Ефремов, И.К. Архипова, И.В. Муравьёва, А.Ф. Ведерников, О.П. Табаков, А.Е. Кумань ко, Н.С. Михалков, А.А. Калягин, М.Б. Терехова, Петер Штайн… Список друзей Мелихова можно начать составлять, но теперь уж невозможно завершить – он будет продолжаться, обновляться, даже когда не станет нас.
Атмосфера Мелихова, чеховские тексты, театральные постановки – всё это вместе не могло не отразиться на мироощущении самого Юрия Бычкова и на его занятиях. Он стал драматургом. Возможно, именно потому, что и Чехов, с которым он сроднился, тоже был драматургом, писал пьесы. О Чехове Юрий Александрович уже рассказывал в своих книгах. Пришло время поведать о нём со сцены. В его пьесах А.П. Чехов предстаёт перед зрителем и гениальным сочинителем, и человеком со всеми присущими ему перипетиями душевных переживаний. Замечательно сказал о пьесе Ю.А. Бычкова «Любить пересмешника» после её просмотра филолог, литературовед и писатель В.Б. Ремизов: «Звучал чеховский текст и все тонкие грани чеховского текста, игра полутонов, всё, что мы называем подтекстом, на котором стоит бездна жизни». Об этой же пьесе и её авторе отозвался и художественный руководитель Липецкого государственного драматического театра, народный артист России, профессор В.М. Пахомов: «Он выводит пьесу «Любить пересмешника» на уровень большой драматургии». Пьесы Юрия Александровича ставились и в Мелихове, и в Липецке, и в Москве, и даже в далёкой Японии, где Антона Павловича Чехова буквально боготворят – спектакль поставили в Токио по инициативе профессора Нобуюки Накамото, он лично перевёл пьесу Ю.А. Бычкова.
О свойствах и характере Бычкова, его большом природном даре и многогранности литературного творчества увлекательно пишет литератор, редактор и друг Юрия Александровича – Марина Орлова: «Необходимо сказать несколько слов о Юрии Бычкове – драматурге. Своей первой пьесой «Известный вам интриган», написанной в 1997 году и поставленной тогда же, Юрий Бычков, в ту пору директор Мелиховского музея-заповедника, обескуражил чеховедов – авторов монографий, щепетильно оберегавших чеховское реноме «мудреца и святого». Логично и непредсказуемо Бычков интуицией житейского опыта, проницательностью литератора открыл то, что многие годы пряталось в саркофаге иносказаний, в подтексте сдержанных фраз чеховских писем. Юрий Александрович воспринял материал как документалист, хроникёр и музейный деятель, угадав драматические узлы и сюжеты. Автор создал несколько пьес: «Известный вам интриган», «Любить пересмешника», «Приснись мне, дуся», «Натюрлих» и др. Можно сказать, что это вариации на одну тему, ещё не исчерпавшие материал.
Пьеса Юрия Бычкова «Приснись мне, дуся» признана лучшей в чеховском юбилейном году, спектакль по этой пьесе в 2010 году стал победителем профессионального конкурса «Радиомания».
В Токио, в театре «Сабуру» на Гинзе, спектакль режиссёра Кикучи по пьесе Ю. Бычкова «Любить пересмешника» шёл три недели, трижды в день. В итоге… развалился. После ошеломляющего успеха этого спектакля двух актрис забрали в Голливуд, одну – в Париж.
Конечно, Бычков – самородок. Однако можно сказать, что он воспитывался в дворянских усадьбах, как В.В. Набоков. Две таковых – Зачатье и Садки, безусловно, имели огромное воспитательное значение для Бычкова, но – по касательной. Лопасненский мальчик с улицы Почтовой стал заслуженным работником культуры Российской Федерации, автором полусотни книг, академиком-экологом, известным чеховедом, лауреатом премии «Хранитель наследия».
Даже искушённый в чеховедении читатель не без удивления оценит его находки, догадки про «девицу в голубом» («Я всё ещё очарован»), о том, что скрыто под знаком-кодом в письмах Чехова к Лике Мизиновой, в повторяющейся строчке – «У нас поспел крыжовник». А чего стоит проницательная догадка автора, доказательная и неопровержимая: «Не было бы ревности к Лике и Левитану – не было бы «Попрыгуньи»».
Театральным человеком Бычков становится с двенадцати лет. Повезло, что подруга его тётушки была капельдинером в Большом театре во время Великой Отечественной войны, когда Москву заграждали аэростаты. В 1943 году он почти ежедневно ходил на спектакли, тогда началось его приобщение к высокой духовности. Потом, будучи старшеклассником, с учениками великого историка Лопасни Алексея Михайловича Прокина, часто бывал во МХАТе. Застал актёров второго поколения, даже Качалова видел. Помнит, как впечатлил его киевский актёр Михаил Фёдорович Романов, с царским именем, с царственной игрой. Во время гастролей во МХАТе этот актёр играл Фёдора Протасова в спектакле «Живой труп».
В искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает. «История моих правд – вот детство» – писала Марина Цветаева.
Большое место в жизни Юрия Бычкова занимает книга «В жизни чего только не бывает» – не только уникальный запечатлённый материал об исчезнувшей старой Лопасне, о крестьянском ладе, это и проникновение в истоки дарования Юрия Александровича Бычкова – писателя, искусствоведа, публициста, драматурга, историка культуры.
Часто бывает, что блистательный рассказчик в своих мемуарах оказывается холодновато-скучноватым, бывает наоборот, живописно и захватывающе излагающий мемуарист бледновато предстаёт в разговорном жанре. У Бычкова счастливо совпали эти качества. Ценность его произведений в свободном изложении, богато расцвеченном мудростью народного творчества – пословицами, прибаутками, поговорками, многие из которых читатель узнаёт впервые.
Для большей убедительности Бычков в образы, созданные средствами добротной современной русской речи, включает элементы изобразительности и тонко срежиссированную звуковую партитуру. Краткие, определяющие сущность человека словесные портреты персонажей автор дополняет документальными фотографиями. Ни один сюжет, мотив, вставной эпизод не остаётся без иллюстрации, что, несомненно, усиливает эффект познания исторической действительности, даёт визуальное представление о героях протекших эпох.
Звучат кремлёвские куранты, по которым четырёхлетнего мальчика учат различать время. Звенят окна – мчится трамвай, взрывая утреннюю тишину Садовнической улицы. Ансамбль гремящих звуков – прямо-таки джаз-бэнд американского кино тридцатых годов. Гомонят, сливаясь в щебечущий ор, облепившие куст бузины под окном воробьи – их сотни. Стоило хозяйке приоткрыть балконную дверь, и стая птах в мгновение, с оглушительным фортиссимо: «Ф-Ф-Ф-Р-Р-Р!» – исчезает. Всё это – вкусные звуковые подробности окружающего нас сущего мира.
…Сначала были легенды. Потом уже мы встретились визави, тэт-а-тэт с этой легендарной личностью и подружились насовсем, навсегда, и я с изумлением для себя отметила: он не бывает ни в депрессии, ни в агрессии. В экспрессии – сколько угодно. Ходячая харизма. Эдакая эманация – источение-истечение возвышенного умонастроения, воодушевлённого деяния во имя будущего.
Когда-то Сергей Васильевич Рахманинов, читая первое издание писем Чехова, признался: «Читаю письма Чехова. Прочитал уже четыре тома и с ужасом думаю, что их осталось только два».
На последних страницах книги «В жизни чего только не бывает» возникает похожее ощущение: как жаль, что всё уже прочитано. Удивительное дело. Эту книгу хочется иметь под рукой постоянно, открывать, открывать на любой странице, и это опять захватывает, потому что снова с тобой ведёт разговор глубокий, жизнерадостный, остроумный собеседник».
Юрий Александрович пишет новые книги, их издают, с интересом читают. И, перебирая тома один за другим, обнаруживаешь, что все последние по времени выхода книги посвящены истории. История страны, история семьи, история отдельного человека – всё это переплетается, складывается в цельную картину, превращается в неразрывный поток.
В прекрасно изданном томе ««Золотое кольцо» и Конёво диво» текст начинается с преамбулы, в которой Юрий Бычков взялся было рассказывать о том, как зарождался маршрут «Золотое кольцо», да увлечения этой историей ему хватило только на три абзаца, а далее, на первой же всё ещё странице, ведёт автор речь уже не про туристический маршрут, а про Владимиро-Суздальское княжество – оно является сердцевиной того региона, который мы порой и называем – «Золотое кольцо». Рассказывает про Андрея Боголюбского, про Всеволода Большое Гнездо, про Александра Невского и Сергия Радонежского – постепенно, страница за страницей, раскрывается перед нами не история региона даже, а страны. Потому что Юрий Александрович, оставляя туристам привлекательные достопримечательности древнерусских городов, гораздо глубже смотрит. Он говорит о том, что, когда Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, в то время княжившего в Киеве, своевольно покинул отца и ушёл княжить на север, в Суздальскую землю, бывшую в то время дальней-предальней окраиной, он фактически изменил ход истории. В глуши, характерно называемой «Залесье», он создал великое княжество, которое вскоре превзошло княжество Киевское по всем статьям. Дело Андрея Боголюбского продолжал его младший брат Всеволод Большое Гнездо. Очень скоро Киев ослабел и первенство совсем утратил, а упавшее знамя, образно говоря, подхватил богоспасаемый град Владимир, заложенный в 1108 году Владимиром Монамахом. Этот город стал новым центром православной Русской земли. Он оставался таковым целых два века, а уж затем передал первенство Москве. Так центр власти переместился из Киева в Москву – через Владимир. Вот что это за земля! Юрий Александрович ведёт читателя от даты к дате, от события к событию, чтобы нам, живущим ныне, стало понятно, кто мы такие, где истоки наши, в чём черпать будем силы, и чем нам следовало бы гордиться. Он возвращает нам наше прошлое, чтобы мы об этом прошлом не забыли.
Последняя по времени написания книга, которую автор назвал «Жуков и Сталин», не появилась бы, если бы не личное знакомство Юрия Александровича Бычкова с Георгием Константиновичем Жуковым. Я уже говорил о том, насколько щедро судьба одаряла Ю.А. Бычкова знакомствами с великими людьми – иному человеку в жизни недоступно и сотой доли этакого счастья. А здесь – едва ли не с перебором. Но судьба, видимо, отмеряет тому побольше, с горкой, как порой говорят, кто способен этим богатством распорядиться правильно. Кому нужнее – не для себя, а для общего дела. И вот Юрий Александрович задумал книгу не на тему «Я и Жуков». Подобное отношение к историческим личностям ему как раз несвойственно, он своё знакомство с Жуковым, полученную от легендарного маршала информацию использует для того, чтобы рассказать о великой войне, о Великой Победе и о великих личностях, которые эту Победу ковали. Начало совместной работы Верховного и будущего маршала Бычков ведёт от страшных дней октября 1941 года, когда едва не сдали Москву и всё висело буквально на волоске. Сталин вызвал Жукова из Ленинграда, где тот организовал надёжную оборону, фашисты так и не смогли впоследствии её взломать, и поручил тому обеспечить оборону Москвы. Последний шанс. И выбор пал на Жукова. Тот корпел над картами 11 суток без сна. Это не фигура речи. БЕЗ СНА! 11 СУТОК! Жуков разработал план обороны. Очень скоро Сталин обнаружил, что этот план работает. И стал присматриваться к Жукову попристальней и советоваться с ним, как с равным. И Жуков видел, что его план работает. И ещё видел, что Сталин, будучи Верховным Главнокомандующим, не обладает пока тем объёмом знаний о военной стратегии, которым ему следовало бы владеть. И он исподволь стал такими знаниями делиться. Незаметно, будто всего лишь докладывая о разработке концепций предстоящих битв, но докладывал он избыточно подробно, с разъяснением и самих замыслов, и причин, почему надобно делать так, а не иначе. Генерал обучал вождя – день за днём, операция за операцией. По мысли Бычкова, процесс этот продолжался до начала 1943 года, до победной Сталинградской битвы. Две личности колоссального масштаба, принявшие на себя ответственность за судьбу страны, своенравные, мощные натуры, которые порой сойдутся – аж искрит, такое возникает напряжение… Через их взаимодействие Ю.А. Бычков показывает ход войны и ту дорогу, что вела к Победе, через судьбы двух людей, великих, но одновременно – одних из миллионов, избранных судьбой, призванных Отечеством.
Подобный же приём используется и в книге «В жизни чего только не бывает», но там уже и вовсе не о великих личностях, а о простых людях – о себе автор пишет и о своих родственниках. Эта книга – семейная сага. История нескольких родов, судьбы которых переплелись благодаря женитьбам да замужествам. Но в судьбах этих, вроде бы частных, прочитывается история великой страны. Вот как пишет об этом кандидат педагогических наук М.А. Мартынова: «У автора поразительно цепкая память, которая сохранила переплетение событий своей собственной судьбы в контексте исторической жизни огромной страны, где посчастливилось родиться. При чтении книги удивительно отслеживаются «этапы большого пути»: предвоенное время, стойкость в Великой Отечественной войне, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, вплоть до десятых годов XXI века… Эта книга – не просто история одной семьи, нет, её невозможно сузить такими рамками. Это жизнеописание нашей страны и каждого из нас в обозримом прошлом, настоящем, с надеждой на будущее». Значение этой книги, посвящённой истории одной, достаточно рядовой вроде бы семьи, невозможно переоценить. «Книга эта – божий дар и дар бесценный не только лопасненцам, а всему народу русскому», – так оценила произведение Ю.А. Бычкова кандидат исторических наук Л.П. Кондаурова.
Великая страна предоставила Юрию Александровичу Бычкову огромные возможности. Он получил хорошее образование, а затем на протяжении десятилетий занимался самообразованием, к чему имел склонность и что воспринимал как внутреннюю потребность.
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут…
Эти строки принадлежат М.В. Ломоносову, великому русскому учёному и энциклопедисту, интересы которого простирались на самые различные области знания. Он был и физик, и химик, и филолог, и поэт, и историк – обширность его занятий просто поражает. Подобная энциклопедичность свойственна и Юрию Александровичу Бычкову. Он писатель, поэт, искусствовед, филолог, историк, музейный деятель, драматург, защитник памятников истории и культуры, учёный-чеховед, член Союза художников, член Союза театральных деятелей, Заслуженный работник культуры РФ… Подобно Ломоносову, он пришёл однажды в Москву, чтобы получить образование, и жизнь свою в дальнейшем построил так, чтобы служить взрастившей его стране. У каждого человека есть своё предназначение, хотя многие об этом могут и не задумываться. Существует Всероссийская премия «Хранители наследия», которой удостаивают людей, спасающих, сохраняющих культурные ценности страны. В 2014 году такую премию получил Юрий Александрович Бычков. И вот это определение, оказывается, и характеризует его весьма и весьма точно. Он – Хранитель Наследия. Человек, который всю свою жизнь посвятил сохранению великих богатств нашего народа – его языка, культурных и архитектурных памятников, самой памяти об истории страны, о героях наших. Есть потребность в таких людях, которые в любое время, при любых обстоятельствах берегут и спасают, сохраняют наследие многих предшествующих поколений, чтобы впоследствии эти сокровища передать поколениям новым, приходящим. Таким человеком был, например, упоминавшийся выше Пётр Дмитриевич Барановский. Таким человеком является сегодня Юрий Александрович Бычков. В стремительно изменяющемся мире, когда даже движение времени, как порой кажется, ускоряется, становится невыносимо быстрым, можно растерять традиции, знания о важнейших, узловых точках собственной истории. От забвения, от потерь спасают историю и само наше прошлое Хранители Наследия.
Юрий Александрович Бычков, осознавая важность дел и забот, которые он на себя взвалил, оглядывается окрест, выискивая среди своих современников тех, кто с ним заодно, кто подставит плечо, кто примет вековечную эстафету передачи исторического наследия от одного поколения другому.
Он точно знает, что эти люди есть. Кто они? Где? Когда подхватят знамя? Он ждёт, как они себя проявят. А пока продолжает делать своё дело. Которое не бросишь. Пишет книги и издаёт их. От этого дела не отвлечёшься. Это дело и есть для него сама Жизнь.
Писатель, сценаристВладимир Гриньков
Благовест
(вместо посвящения)
Снять с чувств былых совсем не просто пелену забвенья. Но отчего благой фантазии не быть?!
На бадеевском взгорье
Над Лопасней-рекой
В тишине предзакатной
Торжествует покой…
Окормляя всё сущее лёгкими серебристыми, вкупе с густыми, забронзовевшими звуками басистых колоколов, над древней Лопасней плывут пассажи благовеста. Вслушайтесь, и поведает вам благовест первоисторию христианства через судьбу земной женщины праведной Анны – матери Богородицы Девы Марии. Прямая для всех нас связь с Господом Богом.
Трёхъярусная колокольня церкви Анны праведной Зачатия видна отовсюду, со всех концов Лопасни, а коли не заметишь её, так услышишь благовест – мелодичный, прозрачный. На его зов придёшь в Зачатье, с которым связано многое в судьбе каждого лопасненца. На протяжении трёх веков в этой церкви крестили, венчали, отпевали прихожан Зачатьевского храма.
С древней в прахе лет дороги,
В перестуке тающем колёс,
Мне пригрезилось, что боли и тревоги
Ангел Божий за небесную черту унёс.
Благовест в земном пространстве тает,
Кажется, я слышу колокол сейчас,
Коль спасения всяк смертный чает –
Божий глас зовёт к молитве нас…
Ранние стихи
Первое зимнее утро
Чистый-чистый, белый-белый,
Лёгкий, пушистый снег в ноябре.
Огненно-рыжая, хитрая-хитрая,
Утром проснулась лисица в норе.
В чаще, нарушив покой обновленья,
Тенькнет синица с куста.
Звонкая, милая песнь пробужденья,
Так безыскусно проста.
Гуси по снегу, ровному-ровному,
Строем шагают к пруду,
Лапы гусиные, красные-красные,
Шлёпают звучно по льду…
1947
Картинки детства
Первые шаги мои из палисада,
Маме боязно и всё же рада
Видеть, как сынок потопал за забор,
Расширять свой человечий кругозор.
Над столом склонились девчонки и мальчишки,
Тётя им читает сказочные книжки.
Слышно, в тишине страничка шелестит,
Даже Вовка толстый не сопит.
Столько радости – волшебное кино,
В зале шум – ребят всегда полно.
Про Чапая и про Буратино,
Не беда, что по частям картина.
Никчёмная над Жабкой бузина –
Сколько тайн мальчишеских хранит она!
В зарослях её мы в «красные и белые» играли,
Алой ягодой из пупырей стреляли.
1950
Скалы
Срок похода по горам
Прошёл уже немалый,
Я о многом позабыл,
Помню только скалы-скалы,
Скалы, я вас полюбил.
Полированы потоком
Быстро мчащейся воды,
Цвета розового сока,
Будто по весне – сады.
Скалы, вы взрастили буки
В гордой горной вышине.
Буки тянут к небу руки,
На скалистой встав спине.
Скалы – мощные уступы!
По пути к вершинам гор
Вид ваш грозен, неприступен,
Если поглядишь в упор.
Но посмотришь издалёка –
Тут другая сторона,
И природы подоплёка,
Скалы, в вас тогда видна.
1955
Черёмуха
В дар тебе черёмуху душистую
Я несу, везу чрез всю Москву.
Ты вдохнёшь – и юность чистая
Сразу же предстанет наяву.
Присмотрясь к помятому букету,
Скажешь философски: «Ей недолго цвесть.
Отошла весна – дорогу лету!»
Что ж, спасибо за такую весть.
Заморозки в мае – это вам милей?!
Цветение черёмухи – неделя хладных дней!
Все хотят, и почему – понятно,
Чтоб отцвела душистая скорей…
1955
Девушка в берете
Воздух пьянящий сладкий.
Солнечный мартовский день.
Вместо тяжёлой шапки
Лёгкий берет надень.
Выйди высокая, ладная,
Голубоглазая, молодая –
Неба синь неоглядная
Радостью сердце одарит.
Вслед улыбнётся улица,
Звоном осыплет трамвая,
Прохожие залюбуются,
Взглядами провожая.
Ветер помчит вдогонку,
Обнимет тебя проказник.
Идёт в берете девчонка –
Как первый весенний праздник.
1956
Венчание
Лето. Золото бубенчиков.
Солнце в раж вошло, замечу,
Неженаты и невенчаны
Мы играем в чёт нечет.
Знаем, впрочем,
Чем всё кончится –
Быть помятою поляне.
Солнышко недобро косится:
«Вы с любовью разбирайтесь сами».
Шелковистая, в метёлках, венчиках,
Вся в цвету июньская трава.
Ею мы с тобой повенчаны?!
Что ни говори – любовь права.
В мае мы впервые встретились.
Помню, как сейчас, черёмухи метель;
Месяц ты всего невестилась,
Нас в июне накрепко связала повитель.
1956