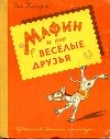Текст книги "Видимая невидимая живопись. Книги на картинах"
Автор книги: Юлия Щербинина
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
В иконографии купеческого портрета книга – маркер социального статуса, элемент самопрезентации заказчика и своего рода «визуальный комплимент» от художника. Кроме того, книги отражали сословную этику, представляя портретируемых как праведных христиан и ревностных служителей Отечеству. На портретах купцов-старообрядцев книга подчеркивала верность заветам «древлеправославия»; иногда ее заменяла лестовка – разновидность четок.
К сожалению, многие книги на купеческих портретах не атрибутированы, и остается лишь гадать, что за том в руках у федотовского отца семейства.
Со временем канон купеческого портрета несколько меняется: нарочитость жестов и поз сменяется установкой на сдержанность и основательность. Федотовский портрет купца с книгой не выглядит примитивно дидактическим и не служит осмеянию. Вообще «Сватовство майора» исполнено доброго юмора, это не сатирическая «комедия брака», как у Хогарта. Не правдоискательство, а бытописательство. Хогарт беспощаден, а Федотов снисходителен к своим персонажам.
Любопытно, что в авторской версии «Сватовства майора» 1852 года «литературные» детали исчезают. Портрет на стене заменяется жалованными грамотами, а место священных книг на столике занимает блюдо с фруктами. Отказ художника от этих и некоторых других предметов заметно меняет зрительское восприятие персонажей: в них появляются некие обобщенные черты, типические свойства; их образы становятся более лаконичными и однозначными. Отсутствие бытовых элементов в житейской комедии обнажает жизненную драму. Однако книгу, очень похожую на изображенную в «Сватовстве майора», мы еще встретим на другом полотне Павла Федотова…
V
При всей ироничности мировосприятия парадоксально прохладное отношение художника к Гоголю. Разве что, однажды удостоившись его одобрения, Федотов сказал кому-то из приятелей: «Приятно слушать похвалу от такого человека! Это лучше всех печатных похвал!» Из писателей-современников ему был более всего близок Лермонтов. «Боже мой, неужели человек может высказывать такие чудеса в одной строке!.. Это галерея из трудов великого мастера!.. Пушкин ничто перед этим человеком».
Лермонтовский скептицизм, приправленный иронией и порой доходящий до провокации, воплотился на сепии Федотова «Магазин», представляющей мелкие людские страстишки. В этой многофигурной сцене нас интересуют не пятнадцать покупателей – каждый со своим характером и персональной историей – и даже не две собачонки, а неприметная мартышка. Чтобы обнаружить ее в кутерьме мелких деталей, надо изрядно постараться.
Длиннохвостая обезьянка притаилась на слетевшем с прилавка эстампе. Наряженная в шляпу, она смешно качается на игрушечной деревянной лошадке, держа в одной лапе книгу с надписью на обложке «Наши», а в другой – с заглавием «Французский язык… сами по себе» (Les français… par eux mêmes). Пояснительная надпись под рисунком: «Экран для новейших литераторов».
Скрытая, но выразительная деталь трактуется как иносказательное «фи!» художника Александру Башуцкому – предприимчивому издателю модного в то время этнографического альманаха «Наши, списанные с натуры русскими». Очерки выходили с 1841 года отдельными выпусками альбомного формата и описывали человеческие типажи низших российских сословий. Надпись на обложке гордо сообщала: «Первое роскошное русское издание».
Иллюстрировали альманах Василий Тимм, Тарас Шевченко, другие известные графики. Однако, на вкус Федотова, «Наши» грешили излишней сентиментальностью и топорным подражанием портретным эссе Жюля-Габриэля Жанена и графическим рисункам Поля Гаварни. Мартышка-наездница – обобщенный сатирический образ французомана. Редкий случай изображения книги с целью ее же разоблачения.

Павел Федотов. Магазин, 1844, бумага на картоне, сепия, кисть, перо

Павел Федотов. Магазин (деталь)
К тому же Федотов, возможно, относился к альманаху Башуцкого еще и с творческой ревностью, памятуя о неудаче собственного, отчасти похожего проекта. На пару с художником Бернадским он задумал выпускать литературно-художественный листок наподобие тех, что во Франции публиковал Гаварни. Хотели назвать его «Северный пустозвон» или «Вечером вместо преферанса», но дальше замысла дело не пошло.
Эстамп с мартышкой нарочито помещен на первом плане. Все персонажи общаются «внутри» изображения. Отставной военный не в восторге от расточительности супруги, которая украдкой передает любовную записку улану. Их капризный сынишка клянчит новую игрушку. Полковница скандалит с мужем из-за обновки. Адъютант поглощен выбором женских чулок, а перезрелая дамочка жестом просит для себя жемчужные белила. Еще одна посетительница незаметно крадет с прилавка кружево. В противоположность этим персонажам мартышка с книгами обращена «вовне», ее образ апеллирует к реальной ситуации за пределами картины.
Между тем современники оценивали труды Башуцкого значительно выше, чем Федотов. «“Наши”, как свидетельство наших успехов в деле вкуса и искусства, должны радовать всякое русское сердце», – восторженно высказался Белинский. Некрасов откликнулся благожелательным стихом: «Настал иллюстрированный В литературе век. С тех пор, как шутка с “Нашими” Пошла и удалась, Тьма книг с политипажами В столице развелась». Ну а сам художник изящно самоустранился из публичной полемики о французомании, изобразив себя… одним из посетителей магазина – между молодящейся барыней и адъютантом с чулками.
VI
В конце жизни Павел Федотов создает свое самое пронзительное полотно «Вдовушка», на котором отображена реальная история его семьи. Сестра художника Любинька ждала второго ребенка, но неожиданной потерей мужа и оставшимися после него долгами была ввергнута в нищету. Федотов многократно переписывал картину. Предельное напряжение творческих сил и терзания бессилием помочь сестре спровоцировали его душевную болезнь и скорую смерть.

Павел Федотов. Вдовушка (с лиловыми обоями), 1852, холст, масло

Павел Федотов. Вдовушка (с зелеными обоями), 1852, холст, масло
Все имущество молодой вдовы уже описано кредиторами. Все обесчещено и опошлено: свеча служит не молитве, а нагреванию сургуча для печатей на долговых ярлыках. На комоде подле иконы Спасителя стоит портрет покойного мужа. Это автопортрет Федотова в гусарском мундире, словно пророчество собственной кончины. От поругания нищетой уцелело лишь несколько личных вещей – горестных напоминаний о прошлом: корзинка с нитками, пяльцы с неоконченным вышиванием, нотный листок да толстая книга. Николай Харджиев и Эраст Кузнецов, авторы биографических повестей о Павле Федотове, сходятся во мнении, что это Евангелие.
Закладка из георгиевской ленты обнаруживает разительное сходство с книгой, изображенной в «Сватовстве майора». Судя по закладке, книга принадлежала покойному. Если действительно так, то именно книга (не портрет!) есть самая долгая память об умершем. Книга как мемориал, хранилище надежд, чаяний, размышлений еще совсем недавно жившего человека. И – верная спутница в испытаниях судьбы.
Почти никто из исследователей не обращал внимания, как менялось изображение книги с эволюцией авторского замысла «Вдовушки». В первом, неоконченном варианте (с зелеными обоями) книга стоит на комоде, развернута корешком к зрителю. В следующих двух версиях (с полосатыми зелеными и лиловыми обоями) книга лежит, а в последней – вовсе исчезает. Кажется, что в процессе работы над этим полотном она жила самостоятельной жизнью.
…Тоскующая вдова бесцельно бродит по комнате, берет в руки портрет, грустно вглядывается, бережно ставит на место, открывает книгу, механически перелистывает страницы, так же аккуратно возвращает на комод – но уже не ставит, а кладет. Куда затем подевалась книга, остается лишь гадать. До времени убрана в ящик или за икону – подальше от посторонних глаз? Помещена на прикроватную тумбочку и потому уже не видна зрителю? Постоянно перекладывается с места на место в суматохе описания имущества, так что не уследить сторонним взглядом?..
В финальном варианте картины трагизм переживания невосполнимой утраты выражен предельно лаконично, все линии заостряются, устремляясь ввысь – словно уже самой формой обращаясь одновременно к жизни загробной, вечной, и к жизни новой, зародившейся в женском чреве. Покорность страданию сменяется возвышенной отрешенностью. Федотову удалось гениально запечатлеть визуально непередаваемый момент на пике страдания – когда жизнь становится житием. Не потому ли исчезает с комода священная книга, что суть написанного в ней уже вобрала скорбящая душа?
Пройдет около тридцати лет – и появится созвучное «Вдовушке», словно продолжающее ее «Неутешное горе» Ивана Крамского. Полотно создано под впечатлением художника от личной трагедии – потери двоих сыновей: умершего в 1876 году Марка и в 1879-м – Ивана. Показательно, что окончательной версии этой работы также предшествовало несколько промежуточных, но ни в одной не было книг. Те же творческие поиски максимальной точности и предельной выразительности уводят Федотова от образа книги – а Крамского, напротив, обращают к этому образу.
Мы не видим ни тела в гробу, ни рыдающих родственников, не видим даже слез в глазах несчастной матери. Неутешное горе бесплотно. Оно в безмолвно застывших вещах, вопросительно отворенной двери, дрожащем свете свечей и – в книгах, тщетно ожидающих читателя. Изображенные на заднем плане тома подчеркивают трагическую тональность сцены. В одной стопке скромные непримечательные переплеты, в другой – массивные фолианты с металлическими застежками. Рядом с гробом книги смотрятся до боли трогательно. Они еще не стали мемориалами, лишь вобрали в себя недавно звучавшие голоса и скорбную тишину опустевших комнат. Слились с окружающей обстановкой, подобно картинам на стенах. В самой большой легко узнаваемо «Черное море» Айвазовского, уподобляющее человеческую жизнь природной стихии.

Иван Крамской. Неутешное горе, 1884, холст, масло
И тяжелые картинные рамы, и крепкие застежки переплетов кажутся неуничтожимыми, неподвластными времени в контрасте с хрупкостью жизни человека. Но пройдет время – и книги станут тем немногим, что способно утишить душевную боль тех, чей жизненный путь еще не завершен.


Иван Крамской. За чтением. Портрет Софьи Николаевны Крамской, 1863, холст, масло
Ряд искусствоведов относят книги на этом полотне к предметной группе «дорогих вещей», что вместе с картинами, канделябрами, портьерами, добротной мебелью указывают на достаток хозяев дома и нарочито отодвигаются художником на задний план как образы эфемерного благополучия. Однако все же вряд ли стоит толковать «Неутешное горе» как назидательную аллегорию. Картина предельно реалистична, а эхо времени хотя и долгое – в нем уже почти не слышно античного memento mori, напоминания о смерти (гл. 7).
А вот сходство скорбящей в «Неутешном горе» с женой художника Софьей Николаевной вполне очевидно – так что эту трагическую картину скорее можно сопоставить с известным портретом, на котором Софья Николаевна предается безмятежному чтению в саду. Кто знает, возможно, в оставленной у детского гроба книжной стопке есть и тот заветный томик, что увлеченно читала в уютном уголке сада некогда счастливая мать…
* * *
Павел Федотов, бесспорно, мог стать «русским Гогартом» – и столь же безусловно им не стал. Ему не хватило хогартовской ярости бичевания пороков. Его ненависть уравновешивалась состраданием. Тонкий лирик и глубокий философ победили в нем желчного физиолога нравов. Книги на полотнах Федотова делали видимыми гоголевские «невидимые миру слезы». Но выступали не грозными обличителями, а ироничными наблюдателями, готовыми не только вывести на чистую воду, но и дружески подставить плечо. Как и сам художник, книги прощали людям их безрассудства и несовершенства.
Глава 4
Карл Шпицвег
(1808–1885)
Мир, зачитанный до дыр
Для меня, несчастного,
моя библиотека
Была достаточным герцогством.
Уильям Шекспир «Буря»

Карл Шпицвег. Искусство и наука, ок. 1880, холст, масло
Немецкий художник Карл Шпицвег считается ярким представителем стиля бидермайер. Название Biedermeier образовано псевдонимом баварских поэтов Людвига Айхродта и Адольфа Кусмауля, публиковавших пародии на сентиментальную лирику от имени школьного учителя Готлиба Бидермайера (нем. Bieder – простодушный, обывательский). Затем «господином Майером» стали называть городского обывателя, или, по-немецки, филистера[1]1
Филистер (нем. Philister, англ. philistine, фр. philistin – филистимлянин) – из студенческого жаргона это слово, означавшее прогульщика лекций, примерно в 1830-е годы перешло в общеразговорный язык и стало означать обывателя, часто узкомыслящего, самодовольного, с ограниченными духовными потребностями.
[Закрыть]. В изобразительном искусстве для бидермайера характерны камерные идиллические сценки, романтизация монотонных будней, точно схваченных в мелких бытовых деталях.
Бывший аптекарь, Шпицвег самостоятельно учился живописи и собирался поступить в мюнхенскую Академию художеств, но не прошел по возрасту и стал художником-самоучкой. В его работах заметно стремление увидеть скрытую поэзию в житейской прозе, уловить лирическую ноту в шуме повседневности. Запечатлеть обаяние «третьего сословия» – среднего слоя, который в литературе нередко выставлялся узкомыслящим, ограниченным, косным. Художник изображал обыденность с сочувственной симпатией и добрым юмором. Воспринимаемое другими как заурядность и пошлость находил обаятельным и милым. Он мог испытывать горечь или грусть, сомнение и даже нескрываемую скуку, но злость – никогда.
I
Шпицвег не боялся быть сентиментальным. Его персонажи – добропорядочные бюргеры, часто чудаковатые и застенчивые – тешатся мелкими причудами, вдохновляются простыми мелочами и не желают ничего иного. Уютная домашняя обстановка, размеренная жизнь в окружении привычных вещей и чтение как убежище. Мир, зачитанный до дыр. Книга умещается в него так же идеально, как щека в ладонь. И как щеку ладонью обитатели этого мирка «подпирают» свою жизнь книгой.
Самая известная картина Шпицвега «Бедный поэт» представляет знаковый для немецких романтиков образ интеллектуала-отшельника. Образ этот обманчиво двойствен: то ли вправду непризнанный талант, то ли обиженный на всех графоман и гротескный меланхолик. Не то самоотречение во имя высокого искусства, не то болезненное отчуждение, затворничество как проявление слабости, малодушное бегство в иллюзию.
Немолодой человек в халате и ночном колпаке лежит в крохотной чердачной комнатке с едва пропускающим свет окошком, протекающей крышей и нетопленой печкой. Все носит отпечаток неустроенности и непостоянства: матрас расстелен прямо на полу, зонтик прикрывает щели в потолке мансарды, бутылка служит подсвечником. Зато комнатенка щедро заполнена книгами. Тома в буквальном смысле окружают поэта, стоя и лежа возле него – словно друзья-приятели, пришедшие навестить больного.
На корешке самого большого фолианта читается по-латыни «Ступени к Парнасу». Специалисты расходятся во мнениях, то ли это музыкальный трактат австрийского композитора Иоганна Йозефа Фукса (1725), то ли пособие по латинскому стихосложению немецкого писателя и педагога Пауля Алера (1702). Одна из сваленных возле печки вязанок бумаги также подписана на латыни: «Третий том моих сочинений». Судя по обугленным листам, поэтические творения время от времени используются для обогрева жилища. Что ж, самокритика – ценное качество для литератора. Коль не сложился стих чеканный – «фтопку» его, и никаких сантиментов!

Карл Шпицвег. Бедный поэт, 1839, холст, масло
Держа во рту гусиное перо, поэт скандирует текст, сосредоточенно отсчитывая пальцами стихотворный размер. Запись мелом на стене подсказывает, что это гекзаметр. Стихотворец, по-видимому, пребывает в творческом кризисе и ведет счет унылым дням, делая засечки на дверном косяке. Однако «дружеский кружок» из книг наглядно доказывает: поэт живет высокими идеями, предпочитая духовное телесному. Книги – немые свидетели его успехов и неудач, соратники и заступники.
Впрочем, многим современникам Шпицвега претил «анекдотизм» этого полотна. Они хотели видеть в персонаже отринувшего материальные блага подвижника, а не пассивного созерцателя. Им мерещилось издевательство художника над лирическими идеалами. Рьяно спорили о значении каждой детали картины, высказывали даже мнение о том, что поэт не высчитывает стихотворный размер, а вульгарно давит пальцами насекомых. Образ книг на этой картине в зависимости от интерпретации выходит либо апологетическим – облагораживающим и возвышающим персонажа, либо сатирическим – обнаруживающим его ущербность и несостоятельность. Дескать, натаскал домой бумажного старья да знай себе полеживает, самозабвенно горделивый.
Между тем в изображении «непризнанного гения» Шпицвег наследует как минимум двум художникам, один из которых итальянец Томмазо Минарди (1787–1871). На автопортрете он запечатлел себя прозябающим в такой же жалкой каморке на чердаке – с завалами книг и отсутствием кровати. Книг здесь больше, чем всех прочих вещей, но много ли от них проку? Меланхолическое настроение удрученного творца акцентировано лежащим справа человеческим черепом, отсылая к натюрмортам на тему бренности (гл. 7).

Томмазо Минарди. Автопортрет, 1803, холст, масло

Уильям Хогарт. Замученный поэт, 1736, резцовая автогравюра с масляной картины
Имя второго художника не надо угадывать – это снова Уильям Хогарт, на сей раз с гравюрой «Замученный поэт». Обитающий в убогой мансарде стихотворец Хогарта сочиняет поэму «Богатство», название которой иронически перекликается с висящим на стене «Видом на золотые прииски Перу», намекающим на химерические финансовые схемы. Чтобы хоть как-то прокормить семью, горе-поэт кропает заметки для газетной хроники скандалов и сплетен. На столе перед поэтом раскрыт экземпляр книги Эдварда Биши «Искусство английской поэзии» (1702), откуда он черпает словесные красоты. На полу валяется сатирический журнал «Grub Street Journal», от названия которого происходило уничижительное прозвище литературных халтурщиков – grub-street-авторы.
Смысл гравюры неоднозначен: это сочувствие нищете или насмешка над непрактичностью? Сожаление о загубленной судьбе или сарказм над неумением устроиться в жизни? Такая же двойственность и в «Бедном поэте» Шпицвега. Кажется, стоит лишь вглядеться повнимательнее – и мы увидим в каморке стихотворца собаку, крадущую последний кусок мяса, и жену, латающую единственный мужнин костюм. Услышим орущего от голода младенца и ругань молочницы за неоплаченные счета. Тогда станет и вовсе не понятно: то ли сострадать, то ли негодовать.


Оноре Домье. Бедный поэт, 1847, литография
Кто однозначно смешон, так это «Бедный поэт» в исполнении знаменитого французского графика Оноре Домье (1808–1879). Изначально многоплановый и противоречивый образ уплощается до карикатуры. Поэт не сочиняет стихов, лишь тщетно защищается от дождя. Брошенная возле кровати книга здесь просто характерная деталь собирательного образа. Книга всего одна и не прорисованная – в ней не разглядеть ни строчки, страницы пусты. Сплин Хогарта, меланхолия Минарди, сентиментальность Шпицвега дрейфуют к комикованию Домье. Рациональность торжествует над романтикой.
II
«Бедный поэт» принес Карлу Шпицвегу всемирную славу, но в его родном Мюнхене подвергся ядовитой критике. Некоторые даже сочли эту работу грубой насмешкой над страдавшим от безденежья поэтом Маттиасом Этенхубером. Зато согласно проведенному в начале нынешнего века социологическому опросу, «Бедный поэт» наиболее любим немцами после «Джоконды». В 1989 году одна из трех авторских копий была похищена, ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Есть подозрение, что «Бедный поэт» скрывается в частной коллекции какого-нибудь фанатичного библиомана – вроде того, что запечатлен на другом известнейшем холсте Шпицвега – «Книжный червь». Перед нами живо узнаваемый типаж книголюба: старомодный искатель истины, штурмующий книжную крепость на приставной лесенке. Для многих и многих сия крепость неприступна: шутка ли – целый отдел философии! На это указывает вычурная табличка «Metaphysik» вверху библиотечного шкафа в стиле рококо.
Исследователи читательских практик увидят здесь, помимо прочего, выразительную иллюстрацию экстенсивного типа чтения – работы одновременно с несколькими текстами, противоположного интенсивному – последовательному чтению одной книги. Но эта картина скорее не о чтении, а о служении книгам. Застыв на лестнице, точно на постаменте, и удерживая разом четыре увесистых тома, библиофил напоминает живой монумент в луче солнечного света.

Карл Шпицвег. Книжный червь, 1850, холст, масло
Оценки персонажа также весьма неоднозначны. Одни искусствоведы увидели в нем оплот консервативных ценностей, другие – самодовольного невежду, возомнившего себя философом. Авторское название одной из трех версий этой картины – «Библиотекарь» – позволяет истолковать персонажа как увлеченного профессионала, сноровисто орудующего в одном из рабочих помещений. Вгрызаясь в плоды познания, книжный червь обитает в горних сферах, в отрыве от земли, воплощенной в изображенном внизу слева глобусе. Пожалуй, ему больше подходит определение библиогност – знаток книг (греч. gnosis – знание). Его портрет в библиотечном интерьере исполнен скромной торжественности. И солнечные блики, и потолочные фрески, и сонмы томов, кажется, вот-вот исполнят хорал ему во славу.
Одно время «Книжный червь» был чрезвычайно популярен в экслибрисах и карикатурах, а сейчас массово тиражируется в календарях, канцтоварах, в оформлении книжных обложек. Во многом благодаря Карлу Шпицвегу увлеченный библиофил сделался заметной фигурой в изобразительном искусстве. Так, очевидно и заметно влияние Шпицвега на творчество швейцарского художника Иоганна Виктора Тоблера (1846–1915) и австро-итальянского живописца Карла Шлейхера (1825–1903).

Иоганн Виктор Тоблер. Коллекционер книг в своем кабинете, кон. XIX в., дерево, масло

Карл Шлейхер. Книжный червь, или Библиотечная мышь, сер. XIX в., дерево, масло
Вот замкнутый комнатный мирок любителя чтения при свечах, в обществе кота, за смакованием трубочки. Библиоромантик, он любит общаться с книгой неспешно, закладывая пальцами страницы и многократно возвращаясь к прочитанному. Тонкий ценитель, он явно не скупится на пополнение домашней библиотеки. Главнокомандующий книжного парада, он гордится дорогими фолиантами, украшенными золочением и бинтами[2]2
Бинты (нем. Binde – повязка) – утолщения-ребра, выпуклые поперечные декоративные элементы на кожаном корешке переплета, образующие красивый рельеф.
[Закрыть]. А вот другой заядлый книголюб близоруко склонился над внушительной стопкой, жадно поглощая сразу два текста – то ли черпая информацию из параллельных источников, то ли скрупулезно сличая написанное. Растрепанные страницы и многочисленные закладки выдают регулярность обращения к книгам. Это призвание и судьба.

Карл Шпицвег. Антиквар, 1847, холст, масло. Среди выставленных на продажу товаров – гравюра с «Книжного червя»
Художники бидермайера играли с пространством, изображая масштабное в миниатюрном. Например, в рисунок ковра или орнамент тарелки помещалась панорама города, а висящая на стене «картина в картине» представляла историю целого семейства. Шпицвег изображал книгу как вещь, вмещающую всю жизнь ее читателя.
Современный нидерландский библиотекарь и библиофил Ян ван Херревег ввел в оборот выражение «синдром Шпицвега», означающее книголюбие как неотъемлемую часть мироощущения и важнейшую составляющую персонального «жизненного проекта». Вспоминая множество легенд и анекдотов о книгах, рассказывая о сумасшедших коллекционерах и вымышленных библиотеках, Херревег описывает библиовселенную, радушно открытую для всех, но обитаемую далеко не всеми.

Альбрехт Дюрер. Безумный библиоман, 1494, ксилография

Смерть библиофага, гравюра из книги Иоганна Музеуса «Видения смерти в манере Гольбейна», 1785
Колыбелью коллекционирования книг традиционно считали Германию, так что «Книжный червь» логически встраивается, с одной стороны, в галерею антикваров кисти самого Шпицвега, с другой – в ряд гротескных изображений библиоманов. Вспомнить хотя бы хрестоматийную иллюстрацию Альбрехта Дюрера к дидактической поэме Себастьяна Бранта «Корабль дураков» или графическую сатиру из сборника Иоганна Музеуса «Видения смерти в манере Гольбейна». У Дюрера сумасшедший книгочей в шутовском колпаке и громадных очках потрясает метелочкой для чистки книг, будто священной хоругвью. Музеус пародирует ученого Иоганна Рудольфа Шелленберга, сокрушенного тяжестью собственных книг. Персонаж Шпицвега, опасно балансирующий на библиотечной лесенке, вовсе не застрахован от подобной участи.
На корабле, как посужу,
Недаром первым я сижу.
Скажите: «Ганс-дурак», – и вмиг
Вам скажут: «А! Любитель книг!» —
Хоть в них не смыслю ни аза,
Пускаю людям пыль в глаза.
Коль спросят: «Тема вам знакома?» —
Скажу: «Пороюсь в книгах дома».
Я взыскан тем уже судьбой,
Что вижу книги пред собой. <…>
Я книги много лет коплю,
Читать, однако, не люблю:
Мозги наукой засорять —
Здоровье попусту терять…
Себастьян Брант «Корабль дураков», 1494 (пер. В. Микушевича)
Стоит ли сильно влюбляться в книги? Можно ли положить свою жизнь на алтарь библиотеки? Когда библиофилия переходит в библиоманию? Впрочем, книжный народец Шпицвега не задается подобными вопросами. А сам художник не выбирает между умилением и раздражением в отношении к своим персонажам – просто симпатизирует им. Не забывая, однако, что ироническое прозвище «книжный червь» (нем. Der Bücherwurm, англ. bookworm) все же происходит от слова «библиофаг» (греч. phagein – пожирать). Подлинное книголюбие и бездумное книгоглотательство различаются так же, как гурманство и обжорство. Но отличить одно от другого на практике бывает непросто, поэтому Шпицвег слегка подшучивает над своими чудаковатыми книжниками.
III
Книголюбы Шпицвега искренни в своих помыслах, бесхитростны в бытовых привычках и верны тайным пристрастиям. Вот молодой человек с лирическим томиком в руках стыдливо подглядывает за парой влюбленных, делая вид, будто нюхает розы. А вот еще один юноша подает знаки служанке, занятой чтением вслух хозяйке. Книга – полноправный участник этих незатейливых сценок: она спутник, свидетель, соглядатай. Видимое невидимое. Не стремясь к топографической точности, художник запросто перемещает жителей и здания родного Мюнхена на уютные итальянские улочки или в колоритный испанский антураж – так что образ книголюба обретает типические черты.
Еще одна известная картина, «Запретный путь», заставляет вспомнить этимологию слова «рутина»: от французского route – дорога, путь. Накатанная колея быта, набор повседневных привычек, одна из которых – чтение. Книга будто удерживает своего владельца перед условной, легко преодолимой загородкой из прутьев. Запрещающая надпись «Verbotener Weg» словно существует только для него. Удел книжного червя – шуршать страницами и дышать библиотечной пылью, пока другие общаются, влюбляются, живут полной жизнью. Однако возникает лукавый вопрос: кто из них обыватель в отрицательном смысле слова – ограниченный, косный, узкомыслящий?
Этимология рутины обнаруживает скрытое содержание этого понятия: жизненный путь, дорога судьбы. Пусть скромная и непримечательная, но у всех одна – другой не будет. Книжный червь сделал свой выбор, покорно остановившись у загородки. Этот неявный, но значимый смысл и фиксирует кисть Шпицвега, создавая «живописный катехизис книголюба».
Книга – точка принудительной фокусировки взгляда. Маленький томик сразу притягивает взгляд и лишь затем позволяет рассмотреть все остальное. Есть еще один визуальный фокус на этой картине: стоит вообразить себя идущим по тропинке вслед за путником – и сразу упрешься взором в книжный разворот.
Символическая загородка-прутик напоминает музейный канат, отделяющий экспонат от зрителя. Застывший перед изгородью путник разглядывает полевой пейзаж с гуляющей парой – как будто это экранизация книги, которую он держит в руках. Выходит, это вовсе не жалкий фантазер, утративший ощущение реальности, а творец параллельного мира силой воображения.

Карл Шпицвег. Любовное письмо, 1845–1846, холст, масло


Карл Шпицвег. Запах роз, ок. 1850, холст, масло

Карл Шпицвег. Запретный путь, 1840, холст, масло

Карл Шпицвег. Вечернее чтение требника, ок. 1839, холст, масло
В пару к «Запретному пути» напрашивается «Вечернее чтение требника»: две работы удивительно схожи как по цветовой гамме, так и по общему элегическому настроению. Фигура читателя подчеркнуто прозаична, его неброский костюм сливается с таким же обыденным пейзажем. Человек читает то ли в излюбленном укромном месте, а то ли вообще походя, неспешно прогуливаясь перед сном.
Однако тут тоже обнаруживается визуальный фокус: книга помещена не просто в самый центр – но на линию горизонта, на границу слияния земли с небом. И кажется: если читатель вдруг нечаянно разожмет ладонь – требник не упадет, а зависнет в мреющем сумеречном воздухе… Пройдет немногим менее ста лет – и Стефан Цвейг даст книгам замечательное метафорическое определение «магниты небес».
В мрачные дни душевного одиночества, в госпиталях и казармах, в тюрьмах и на одре мучений – повсюду вы, всегда на посту, дарили людям мечты, были целебной каплей покоя для их утомленных суетой и страданиями сердец! Кроткие магниты небес, вы всегда могли увлечь в свою возвышенную стихию погрязшую в повседневности душу и развеять любые тучи с ее небосклона.
Стефан Цвейг «Благодарность книгам», 1937
IV
Особняком стоят работы Карла Шпицвега, посвященные приватному общению с книгой в заветных местах: «Философ в лесу», «Отшельник за чтением», «Чтение за завтраком»… Типичный ландшафт для этого сюжета – Deutsche Wald как национальный литературный топос Германии, овеянный лирическими грезами одухотворенный лес-поэт. С одной стороны, в идиллическом чтении заключен культурный парадокс: будучи занятием умозрительным, оно вместе с тем естественно, как сама жизнь. Слияние человека с книгой – это одновременно и его слияние с природой.
С другой стороны, книга как носитель текста, вместилище информации расширяет границы Deutsche Wald до Weltlandschaft – вселенского ландшафта, «всемирного пейзажа». Сопричастность книге как сопричастность универсуму. Она может быть дерзновенно героической, но может быть и несуетно задушевной. Шпицвег не просто выражает – любовно пестует идею ценности «обывательского» чтения.

Карл Шпицвег. В домашнем саду, 1837–1838, картон, масло

Карл Шпицвег. Читатель в парке, ок. 1838, холст, масло

Карл Шпицвег. Чтение, ок. 1875, картон, масло

Карл Шпицвег. Философ в лесу, ок. 1848, картон, масло

Карл Шпицвег. Прерванное созерцание, ок. 1840, холст, масло

Карл Шпицвег. Неожиданный перерыв, 1855, холст, масло
Не реже, чем в лесной тиши, мы видим его читателей в городских парках, двориках и палисадниках, рабочих кабинетах, домашних библиотеках – везде, где только есть возможность погрузиться в книгу. Камерные сценки исполнены тишины и покоя. Но в этой безыскусной простоте неизъяснимая благодать. Мерно движется взгляд по строчкам, тихо бьется сердце, незаметно ползут стрелки по циферблату. Лиц и страниц не видно – они единое целое, и книжный переплет как продолжение руки…