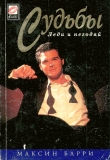Текст книги "По весеннему льду"
Автор книги: Юлия Парфенова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Перед сном, она пристроила ноутбук так, чтобы не светить в лицо спящему мужу, и погрузилась в статьи о психиатрических заболеваниях. Медфильмы, где доктор, находящийся за кадром участливым и неприметно провокационным голосом задавал вопросы больным, ввели Тому в состояние мутной бессонницы. Больные проникновенно и серьёзно рассказывали о своих галлюцинациях, голосах, приказывающих совершать странное. Одна женщина очень интеллигентным и милым голосом описывала свою безотрадную историю: «Понимаете, я знала, что инопланетяне уже захватили землю, все спустились в метро и там прятались. А меня они не тронули, из-за особого запаха, он им нравится. И, знаете, ведь я рождена необычно – отцом, через рот. Да-да, они это устроили…» Слушать это было совсем не смешно, слушать это было страшно. Куда она собралась влезть? В область, ещё недостаточно изученную медициной, ведь, что такое сознание человека, и какие шутки может с ним играть его собственный мозг, не очень хорошо представляют даже специалисты.
И где её хвалёная твёрдость в повседневной жизни? Куда она пропадает? Почему она была в состоянии владеть вниманием класса, разруливать сложные ситуации, быть спокойной в эпицентре родительских скандалов и не может справиться с собственным сознанием? Невозможно так остро реагировать на информацию, ведь информация стала захлёстывать людей как мутные волны штормового моря. Волна сбивает тебя с ног и несёт, переворачивая, как щепку, не давая возможности сделать вдох. Тебя обдирает о прибрежный песок, в рот попадает всякий мусор, и в самом худшем случае – ты погибаешь. В лучшем – побитый и исцарапанный бредёшь зализывать раны.
Тома убрала ноутбук и лежала на спине, сканируя темноту широко открытыми глазами. Сна не было. Тома с тоскливым страхом представила длинную бесконечную ночь, но тут сбоку вздохнул Матвей, обнял её, тихонько поцеловал, рука его была горячей и настойчивой. Обычно Тома сразу давала увлечь себя в чудесный процесс, не требующий рефлексии и размышлений. Но сейчас ей было слишком плохо. Казалось, что болит всё, включая мучающую её память. Обожженная коленка напоминала о той секунде, когда Тома услышала голос из прошлого. Как будто ожог остался не только на ноге, но и на душе. Тома мягко отстранилась, и Матвей, вздохнув, отвернулся. Она заснула только к пяти часам утра.
Несколько следующих дней слились в тошнотворное состояние непрерывной тревоги. Тома механически делала свои дела, гуляла с Баронетом, даже печатала текст, как зомби, не очень вникая в то, что пишет. Она видела свои руки, понимала, что ходит. А потом вдруг просыпалась на диване и видела, что на улице темнеет.
Приезжали домашние, ели ужин, который она готовила, очевидно, во сне. По крайней мере, сама она не помнила процесса. Ночь приносила темноту и бессонницу. Они сливались, превращаясь в мучительное душное облако. Тома перестала ложиться в постель, просто уходила вниз, садилась в кресло, закутавшись в плед, и сидела так до утра. В этих промежуточных между сном и явью состояниях она видела сны, хотя могла поклясться, что не спит. Последний сон хорошо ей запомнился. Будто бы она приехала в город, где всё сумрачно, как перед грозой. Нашла среди серых новостроек дом. Дом Павла. Она помнила его с детства, подъезд, лестницу, синюю дверь. И вот ступеньки, дверь, она стоит и смотрит на звонок. Вспоминает сцену с Раскольниковым перед дверью процентщицы. Вот сейчас. Сейчас она услышит шаркающие шаги. И вместо друга детства дверь приоткроет кто-то в маске морщинистой ведьмы. Вдруг на верхней площадке раздаётся шорох, и слышен придавленный ладонью чих. Или всхлип.
Тома понимает, что там кто-то прячется, но не испытывает испуга. Гораздо страшнее тихое невидимое пространство за синей дверью. Она опять тянет руку к звонку и слышит сверху очень странный шелестящий тихий голос:
– Зачем ты ищешь его? Никого нет, ну и ладно. Уезжай, уезжай скорее. Ты – сильная. Закрой слух, слова бывают ядом.
Тома смотрит наверх, почему-то ей трудно смотреть наверх. На широком подоконнике у грязного окна сидит девушка. За её спиной, воркуя, толкутся на карнизе голуби. Тома машинально отмечает длинное, странного покроя платье, нелепую соломенную шляпку, со сморщенным райским яблочком на боку, торчащий из-под замызганного грязью подола зелёный ботинок. Один. Вторая нога босая и беззащитная на холодном бетоне лестницы. Тома присматривается и видит, что грязь не только на подоле, один рукав платья измазан. Явно синей краской. Но не одежда, даже не отсутствие ботинка поражают Тому. Незнакомка обладает редкостной красотой и каким-то особым обаянием безмятежной юности. Свет буквальным образом меркнет, соприкасаясь с её сияющей белой кожей. Огромные загадочно-лилового оттенка глаза, длинные до пояса волосы искрятся и переливаются, пряди разных цветов, от тёмно-рыжих до белокурых, тонкие руки, лицо, фигура – всё поражает небывалым, окончательным и бесповоротным совершенством. Нет ни одного изъяна, ничего, что нарушало бы общее ощущение завершённой и торжествующей гармонии. Кроме голоса. Голос существует сам по себе, никак не вяжется с внешностью ослепительной владелицы, он призрачен, страшен. Таким голосом могла бы говорить мёртвая панночка-утопленница, покинув в дьявольский час свой водный дом. И ещё. Что-то в девушке очень знакомо Томе, что-то похожее на давнее воспоминание, дежавю, мучительные попытки воскресить прошлое…
Девушка смотрит на Тому пристально, с жалостью. Опять шепчет:
– Беги отсюда. Да, поскорее…
Пока Тома удивляется, ей не только смотреть, но и говорить во сне тоже сложно, русалка в шляпке лёгким движением спархивает с окна, и её последние слова шуршат сухими листиками, которые несёт осенний ветер:
– Посадишь беду на загорбок, век таскать придётся. Вся ты в бабку свою. Такая же упрямая, сердобольная да бестолковая. А бабка с бедой не расставалась. Ни на один день.
Тома, отказываясь верить в услышанное, приходит в себя. Комната освещена лёгким золотистым светом, он поднимается пеленой далеко за полем и укрывает ещё спящие дома теплом. Она сидит укутанная в плед, а странная особа, напоминающая светловолосый вариант Элизы Дулиттл в исполнении Одри Хепберн, исчезла. Просто исчезла, тихо и бесшумно, вместе со сном. Только отзвук голубиного воркования ещё сохраняется в памяти Томы долю секунды. Тома, пошатываясь, идёт к двери. День начался.
Матвей забил тревогу на исходе мучительной недели, обнаружив её пятничным утром в состоянии полной прострации. Он не на шутку испугался. Пытался шутить, принёс ей кофе и заставил померить температуру. Температура была низенькая, субфебрильная, но это его не обрадовало.
– Лежи! – приказал Матвей и ушёл гулять с собакой.
Тома с трудом села, потрясла головой, как будто это могло помочь. Не помогло. «Надо съездить к Павлу», – эта мысль не давала ей покоя. Более того, ей казалось, что поездка к Павлу изменит её состояние. Ей станет легче. Почему – Тома и сама не могла объяснить.
Она шаркала по кухне, когда на крыльце затопали, распахнулась дверь, и ввалился встревоженный Баронет, таща за собой хозяина. Тома посмотрела на них и невольно залюбовалась. Пес и хозяин очень подходили друг другу – аристократическая внешность крупного золотистого ретривера отлично смотрелась рядом с высоким стройным Матвеем, а добрая, будто постоянно улыбающаяся, морда собаки исключительно удачно дополняла добродушное, спокойное лицо мужа.
– Ты зачем встала? – возмутился Матвей с порога. – Тебе же сказали – спать! Ушастый гулять даже не захотел толком, к тебе рвётся, проверить! Мамкин хвост…
– Мамкин хво-о-ст, – пропела Тома, трепля пса и лихорадочно соображая, как бы ей объяснить свой отъезд.
И, ничего не придумав, сказала просяще:
– Матюша, мне нужно съездить…
Матвей молча снял куртку и кроссовки, прошёл в комнату и сел на диван. Он протёр очки и взял с журнального столика книгу.
Тома вытерла собаке лапы, насыпала корма и подсела к мужу.
– Я знаю, ты расстроен… Ну, прости. Если я не поеду, будет плохо.
– Хуже, чем сейчас? – язвительно поинтересовался Матвей. – Тома, может, объяснишь, что происходит? Что не так с этим твоим другом? Почему он втягивает тебя в свою жизнь? Почему тебе названивает? Ты же сама не своя! Ты в курсе что такое созависимые психические расстройства?
– Я в курсе. Матюша, всё хорошо. Я же не дура, ну ей-богу. Мне просто надо помочь, причём даже не Павлу, а его сыну. Переживания Павла – это, конечно, важно, но это дело врачей. Я там бессильна.
Тома кривила душой, потому что прекрасно понимала, что так вот просто всё не обойдётся.
Но, на этот раз мужа ей уговорить не удалось. Хотя его всегда можно было уломать, всегда можно было на него рассчитывать, поплакаться в жилетку. Но, Тома уже всё для себя решила, и это рождало внутри саднящее чувство вины. Она прижалась к Матвею, а Баронет моментально втиснулся между ними, задрав морду. Надеялся получить двойную порцию ласки.
– Тома, я не очень понимаю, что с тобой, симптомы какие-то смазанные, но, мне кажется, неврологические. Или это вирусное что-то… Если к вечеру не станет лучше, возможно, придётся лечь в больницу. Сейчас по дороге на работу созвонюсь с Вадимом Суходольским. Может, он как невролог что-то подскажет. Прими нурофен и постарайся уснуть. И звони мне. Хотя бы пиши. Ты всегда влезаешь в какие-то странные истории. Помнишь того мальчика из школы, а бабку из детства, ты сама мне рассказывала? Опять?
И мальчика, и бабку Тома помнила. Мальчика звали Игорем. У Игоря были явные нарушения, возможно, аутистического спектра, только никем не диагностированные. Он был не очень интересен собственной матери, да и прочим безмятежно пьющим родственникам тоже. Школе он тоже стал неинтересен почти сразу. В пятом классе Игорь плохо писал, произвольно меняя размер букв и расстояния между линейками тетради. Учительница русского показывала его тетрадки Тамаре, как классному руководителю. Ещё Игорь не мог усидеть на месте, он постоянно ёрзал, руки были в движении, что-то тихо мяли, рвали, ломали. На уроках у Томы Игорь вёл себя потише, потому что любил рисовать и смотреть фильмы. А Тома частенько показывала детям скачанные видео про музеи мира, знаменитых художников и музыкантов. Даже мюзиклы давала слушать. Игорь у неё расцветал. Но остальные учителя терпеть не могли странного, беспокойного ребёнка, напоминающего паучка, вьющего из разорванных бумажек паутинку.
Директор жёстко настаивала на переводе Игоря в коррекционную школу. Он сильно портил показатели и был педагогически бесперспективен. Кроме того, его мать никогда не ходила на собрания и не сдавала деньги на нужды класса. Тома боролась за Игоря до конца. Хотя не была убеждена, что поступает правильно. Без поддержки родных такому ребёнку легче было бы в коррекционной школе, обычную программу он не тянул даже поверхностно. Тома сходила к нему домой. В конце концов, были времена, когда это считалось обычной практикой. Дом был ужасен. Испитая мать, кокетливо поправляя жидкую сальную чёлку, провела её на кухню, предварительно выгнав в комнату какого-то опухшего мужика. Тома села, увидела рядом на плите сковородку с остатками засохшей до сизоватости яичницы, содрогнулась, но заставила себя беседовать. Мать вообще не видела никаких проблем ни в чём. Коррекционная школа? А зачем? А что, что-то не так? Нет, все эти специалисты, знаете. Дерут так, что без штанов останешься. Знаете ли. А мальчик хороший. Ну, ладно, пусть коррекционная. А что, надо куда-то идти? Какие-то бумаги? Справки? Нет, она всегда очень занята, на это нет времени, просто вот именно сейчас она дома на больничном.
Когда Тома уходила, она увидела Игоря. Мальчик сидел в углу комнаты, рядом орал телевизор, были видны мужские ноги в тренировочных синтетических штанах. Игорь рвал бумажки и что-то клеил в обычной тетрадке. Он поднял глаза и посмотрел на учительницу виноватым взглядом. Через месяц его перевели в коррекционную школу.
Ну, а история про бабушку, которой она, будучи ещё подростком, таскала сумки с продуктами до квартиры, где имелся полный комплект недружелюбных родственников, была уже покрыта пылью. За давностью лет, так сказать. Всё-таки есть у неё комплекс спасительницы, только особой пользы и добра он людям, видимо, не приносит.
Тома сгорбившись сидела в кресле, глядя в одну точку.
– Мам, всё хорошо будет, – Лёшка грустно стоял у дверей, словно не решаясь уйти. – Пап, может, я прогуляю сегодня? Присмотрю за матерью…
Голос его был искренне соболезнующим, не придерёшься. Тома вышла из своего ступора и достаточно жёстко сказала:
– Нет, поезжай в школу. Незачем прогуливать, скоро моим запискам вообще верить перестанут.
Она не могла остановиться. Уже на следующий день после встречи в парке ей написал в соцсети Толя Смирнов. Спасай, написал, Пашку, а то у него крыша совсем поехала. Причём суетливый Толя даже не догадывался, насколько он близок к истине в самом грубом её виде. И почему он пишет ей, а не едет спасать сам?
Тома даже позвонила единственной близкой подруге – Софе. Со школьных времён у Томы других друзей кроме Павла не осталось. Детские годы были странным пространством, царством для двоих. Никто посторонний не допускался. Тома очень любила родителей и брата, но её мир делился чётко пополам – мир с семьёй и мир с другом. Школа не считалась, она осталась в памяти серой невнятной дырой. Ещё была школа искусств, но там Тома занималась недолго.
Павел редко заходил к ним домой, а она к нему – почти никогда. Мрачная мать Пашки с тускло-осуждающим взглядом пугала девочку. У неё семья была весёлая, открытая. Праздники с вкусной едой и бренчанием гитар Тома вспоминала с неизменной теплотой. Но сопротивляться влиянию Пашки было трудно, он как золотую рыбку сачком своего обаяния постоянно похищал Тому из микрокосма семьи. «Опять твой кавалер явился», – шутили родители, терпеливо переносящие все скандалы, связанные с приключениями неугомонной парочки.
В студенческой юности, после их разрыва, у Томы появилась целая компания друзей. Но из самых близких осталась только Софа, Софочка Звягинцева. Она тоже училась в педагогическом, но на факультете психологии. Наверное, именно это образование помогало ей в нелёгкой жизни, других объяснений Тома не находила. Подруга была удивительным экземпляром одинокой многодетной матери, всегда замотанной, неизменно сидящей на финансовой мели, но сохраняющей какое-то по-детски изумлённое, добродушное восприятие мира. Вечно у неё дома жили какие-то странные животные с аномалиями поведения, влюблённая парочка тритонов, жаба с одышкой и пронзительно-философскими усталыми глазками, гигантские улитки, сбегающие из аквариума и ищущие тёпленькое местечко в кроватях домочадцев. Короче, жизнь била ключом. Софа, как и Тома, пошла работать в школу, только не учителем, а штатным психологом, и до сих пор тянула лямку трудового, практически безвозмездного подвига.
Тому периодически мучило чувство вины перед подругой, за свою вполне обеспеченную жизнь и наличие свободного времени, чтобы предаваться ностальгическим воспоминаниям и бессмысленным тревогам.
Особенно это усугубилось после случайного просмотра Софиных семейных альбомов с «предками-конфетками», так людей на старинных фотографиях именовала сама владелица семейной реликвии. Тома не могла поверить своим глазам, нет, она не страдала столь распространённой в постсоветском обществе, особенно его религиозно-консервативных кругах, преклонением перед дворянским, аристократическим сословием. Она помнила, как в молодости Матвей, который ходил в храм, покупал что-то, на его взгляд, интересное: мемуары эмигрантов, воспоминания верующих, претерпевших гонения. Тома периодически читала эти книжки, ей было интересно. Однако общий дух восторженной экзальтации по отношению к белой кости, как безусловным носителям всех лучших человеческих качеств и высокой нравственности, частенько ее раздражал. Но, глядя на Софьиных прабабушек и прадедушек, она испытывала чувство уважительного удивления.
В потрёпанном, с металлическими жёлтыми уголками семейном альбоме жили на толстых картонных страницах лица удивительно симпатичных, хотя и слишком торжественно-серьёзных (примета эпохи) людей. Дамы с высокими причёсками и умными глазами, с красивыми многослойными жабо и бантами на блузках, с высокими воротничками, широкими поясами, стягивающими талию, сидели в туманной дымке фотобумаги, строгие, выпрямив спину, чинно сложив руки на складках пышных юбок, смотрели уверенно прямо или романтично куда-то вдаль. Мужья дам в непонятной форме, с блестящими рядами пуговиц или костюмах стояли рядом, покровительственно положив руку на плечо супруги или спинку стула. Вторая рука частенько была заведена за спину и у мужчин, и у женщин, что придавало и без того горделивой осанке окончательное совершенство, как грациозно приподнятое переднее копыто у геральдического скакуна.
Софа рассказывала о судьбах тех, про кого знала хоть что-то. Отечественная история интересна тем, что иногда люди в ней просто исчезают, растворяются. Вот, вроде и была сестра бабки, а где она… Куда сгинула в тяжёлые годы? Бог весть.
Повозка родовой истории Софы прикатила её к весьма низким, по сравнению с предками, условиям бытия, социальным возможностям, и личной самооценке в том числе.
И Тома опять думала о том смешении всего и вся в потоках истории, о справедливости и несправедливости, потерях и обретениях. Существуют ли абсолютные величины добра и зла в этих потоках?
Но Софа к вопросам социального неравенства относилась, похоже, так же легко, как и к проблемам своих вечно недовольных чем-то отпрысков или неадекватных животных. «Там хорошо, где нас нет», – частенько повторяла Софа, а Тома любовалась ею – высокой, хрупкой, с ничуть не пострадавшей от беременностей талией, ласковыми голубыми глазами и таящимся где-то внутри стержнем неугасающего оптимизма и веры в людей.
Тома рассказала подруге про внезапно появившегося Павла. Она не могла описать их детских отношений, просто не находила нужных слов. Сказала, что он болен. Что нуждается в помощи. К удивлению, Софа проявила неожиданную твёрдость.
– Тома, мне кажется, друг, который появился так внезапно и за короткий срок успел довести тебя до какого-то, извини, болезненного состояния, – так себе друг. У меня смутное подозрение, что там перверзным нарциссизмом пахнет, но это сугубо моё мнение. Ни в коем случае не навязываю. Матвей прав, он у тебя вообще, заметь, мужик умный. Берегла бы его.
– Я берегу, – пробормотала Тома. И вспомнила сон про шепчущую панночку. И правда, что ли, тянет её к несчастьям?
Они поболтали про книжные новинки, Софа умудрялась найти время для чтения всегда, и была, к слову, первым читателем всех Томиных текстов. Но, как всегда, на самом интересном месте обсуждения последней книги Кадзуо Исигуро Тома услышала набирающий обороты тайфун детской ссоры, в недрах Софиной квартиры.
– Прости, Томик, я отбываю оказывать экстренную психологическую помощь… – обречённо вздохнула подруга. – Думай о близких! Павел этот твой, явно нарцисс, в лучшем случае. Ну ты уж прости. Всё, побежала. Лизкин учебник окружающего мира под угрозой!
Тома успокоилась, решила, что спустит ситуацию на тормозах. Как можно деликатнее. После встречи на скамейке Тома понимала, что в конце концов Павел позвонит, и боялась этого момента.
* * *
Матвей ехал в клинику и думал о жене. Он действительно испугался, состояние Томы наводило на очень неприятные подозрения. Матвей перебрал в голове разные симптомы инфекций, передающихся через маленьких цепких тварей рода Ixodes. Однако клиническая картина у Томы была весьма странная и нетипичная.
Матвей чувствовал, что в их семейном мирке копится какое-то трудноощутимое напряжение. Он видел, как Тома частно нервничает, казалось бы, без повода. Они и правда мало времени проводят вместе. А теперь вся эта неприятная ситуация со школьным другом. Почему Тома так рвется к нему? Ведь они не общались много лет.
Надо озаботиться семейным отдыхом, выкроить деньки, чтобы съездить куда-нибудь вместе с Лёшкой. Но сначала уложить жену на обследование.
Матвей готовился внутренне к рабочему дню, и одновременно думал об их отношениях с Томой. Странное дело, мучительное беспокойство о заболевшей жене порождала целую череду воспоминаний. Они приходили, как непрошенные гости, и безмерно усугубляли его волнение. Матвей незаметно проваливался в прошлое, словно заразился от жены её способностью воскрешать в памяти давно ушедшее, вместе со звуками, красками и запахами.
Семейный анамнез у них был непростой.
Много лет назад Матвей неожиданно провалился в мучительную депрессию, чуть не потерял работу и семью. Он тогда работал лечащим онкологом-гематологом в большом клиническом центре. К ним на отделение поступила четырёхлетняя девочка Катя, они с мамой приехали из Краснодара.
С первого обхода, первого осмотра пациентки, Матвей почувствовал какое-то необычное волнение. Девочка была красавицей, хоть и истощена, измучена лимфобластным лейкозом в острой стадии. И она молчала. Почти не разговаривала, зато могла подолгу смотреть врачу прямо в глаза. Катя не капризничала, как большинство больных детишек, не плакала и постоянно что-то рисовала, пока в худенькой руке были силы. Обычно сил хватало минут на пятнадцать, потом девочка просто ложилась навзничь и отдыхала. Фломастер оставался под ладошкой как в надежном укрытии. Рисунки были очень странные, не принцессы и цветочки, а рыбки всех расцветок и размеров. Рыбки в море, рыбки в аквариуме, рыбки в магазине, рыбки мамы с детьми. Иногда Матвей в шутку называл пациентку Русалочкой. Матвей долго не мог понять, кого эта крошка ему напоминает. Потом вспомнил. Старая французская комедия с Ришаром, девочка-молчунья с длинными тёмными волосами и огромными глазами. Даже пара слов от этого ребёнка казались бесценным подарком.
Матвей незаметно для самого себя стал уделять Русалочке внимания больше, чем другим пациентам. Он понимал, что это неправильно, у врача не должно быть личных пристрастий. Но ничего не мог с собой поделать. После пересадки костного мозга находил случай лишний раз зайти в палату, узнать как дела. Анжелика, поразительно красивая молодая женщина с рыжевато-золотистыми волосами, иногда рассказывала ему об их родном городе, уже вовсю цветущем, в то время как в Питере ещё только показалась зелёная трава. Она постоянно повторяла, что из окна их дома видны горы. Об отце Кати и своей семье она молчала, обронив лишь раз, что они с дочерью никому не нужны. Вообще, она была странной женщиной, иногда полностью замыкалась в себе, и тогда Матвей приходил в палату к молчащей девочке, рядом с которой сидела молчащая, отстранённая мама. Матвей сразу заподозрил у Анжелики какие-то психологические или даже психиатрические проблемы. Но надеялся, что серьёзных ситуаций во время лечения девочки с мамой Кати не случится. Он ошибся. И впоследствии прекрасно понимал, что мог помочь, предотвратить, но не сделал этого.
Пересадку костного мозга Кате провели весной, и сейчас, когда было то же время года, Матвей иногда всё вспоминал, почувствовав внезапно запах мокрой травы после ливня и белой сирени, куст которой рос прямо под окнами палаты.
Катя перенесла операцию тяжело, с массой осложнений. Она уже не могла рисовать, и вся восстановительная иммуносупрессивная терапия не давала результатов. Русалочка умирала. А её мать в ответ на стресс выдала клинику шизоидного расстройства личности по сенситивному типу. Именно в тот момент, когда дочь уже еле держалась. Анжелика просто выходила на улицу и сидела на скамейке, часами глядя в одну точку. К дочери, которую уже перевели в реанимацию, пройти даже не пыталась.
Катя умерла дождливым майским утром, окружённая заботой врачей и волонтёров. Последние часы ребёнок почти не приходил в сознание, но в самом конце очнулась ненадолго. Матвей взял маленькую ручку в свои пальцы и окаменел от скорби. А девочка смотрела на него молча, смотрела долго, словно у неё была миссия передать врачу какую-то особую тайну, особое знание. Прощания с пациентом тяжелее у молодого врача ещё не было.
Его сыну было около трёх лет, Алексей постоянно болел тяжёлыми бронхитами, а Матвей, неожиданно для себя не смог мириться с пахнущей лекарствами атмосферой больницы в стенах родной квартиры. Ему хватало этого на работе. Дом стал казаться серым пристанищем, где из всех углов на него таращился невидимый враг под названием – долг. И этот враг, сидящий где-то между старым креслом и детской кроваткой, изматывал его, потому что Матвей хотел совсем другого. Он хотел отдыхать от детского страдания. Хотел кардинально другой обстановки, а главное, забытого где-то позади, на повороте жизненной тропы, взгляда жены, беспечного, юного, наполненного ничем не отягощённой, беспримесной радостью бытия.
Тома завязла в графиках приёма лекарств, прогулках с тяжёлой коляской, спешных приготовлениях обедов, уборке и прочих тягучих бытовых делах. От уныния её спасали книги. Читать она умудрялась даже глухой ночью, когда убаюкивала посапывающего заложенным носом щекастого Лёшку. А Матвея не спасало ничего. Он начал прикладываться к бутылке. Если раньше он изредка, после особенно тяжёлых дежурств, мог выпить антистрессовую рюмку коньяка на ночь, то теперь это происходило ежедневно. И одной рюмкой дело не обходилось.
Самое странное, что не мог расстаться с матерью Кати. Хотя довольно долго не понимал природы своих чувств к ней. Матвей перевёз Анжелику из клиники неврозов, куда сам же устроил её после смерти Кати, в съёмную квартиру на Петроградке.
Он всегда равнодушно пропускал хищных женщин с врождённым комплексом победителя, даже тщательно маскирующихся под скромниц, но на эту осиротевшую молодую мать, всегда без макияжа, с печальными глазами в пол-лица и длинными медовыми волосами, клюнул. И повис на леске. Он никогда не одобрял внебрачных отношений, даже относился к ним с брезгливостью, но слишком поздно он осознал, что чувство жалости и острой нежности – тоже может быть предвестником отнюдь не платонической привязанности. Ему казалось, что Катя просила его своим последним взглядом помочь матери, оставшейся в одиночестве и болезни.
Лика (она просила называть себя именно так, полного имени – Анжелика – стеснялась и очень его не любила) ничего не требовала. Она вообще не умела просить. Она почти не имела ярких талантов, не играла на музыкальных инструментах, не умела рисовать и петь, неуклюже танцевала. Читала она мало, и что-то очень специфическое, вроде старых журналов «Вокруг света» с древними, на взгляд Матвея, рассказами о шаровых молниях, тропических ливнях и полярных экспедициях. Дома, в Краснодаре, у неё была целая коллекция этих журналов, оставшихся от деда. Она была напрочь лишена того особого женского манкого очарования, которое помогает дочерям Евы запускать свои коготки в добычу. Не кокетничала, не флиртовала. Когда Матвей с покаянной горечью сказал ей, что теперь почти не бывает дома, Лика пожалела Тому. «Ты такой хороший, она тебя любит. Я не умею так». Эта женщина была другая. Как инопланетянка. И это его очаровывало. Но и пугало. Потому что в инопланетном организме другие генетические коды, инфекции, вирусы и бактерии. И всё это может уничтожить его собственный разум и тело.
До какой степени она больна Матвей узнал, когда попытался её поцеловать. Всего один раз. И обнаружилось, что Лика была абсолютно лишена каких-либо сексуальных желаний, а посягательство на своё тело воспринимала как намерение причинить боль. Она забилась на балкон, не открывала дверь и рыдала. У Матвея появились серьёзные подозрения, что единственная беременность была результатом насилия, или же Лику напоили до бессознательного состояния. Спрашивать об этом он не хотел. Помнил глаза умирающей Кати.
Поэтому они просто вместе смотрели старые фильмы в маленькой квартирке, выходящей окнами на круглый изгиб Карповки, и ни о чём не думали. Вернее, Матвей уже страшно страдал, но присутствие этой чуть угловатой женщины с худенькими плечами и внимательными глазами, действовало на совесть как глубокая анестезия. О Кате они не говорили, хотя её фотография всегда стояла на старомодном хозяйском серванте. Матвей лишь один раз отвёз Лику на далёкое пригородное кладбище, где неимоверными усилиями выбил место для ребёнка.
На похоронах был лишь он, Тома, которая плакала так, будто хоронят её собственную дочь, да девушка-волонтёр, прикипевшая к молчаливой маленькой художнице всем сердцем. Она положила Кате в ручки новый набор ярких фломастеров, похожий на букетик цветов. Анжелика не спрашивала, как умирала дочь, но несколько раз Матвей находил её ночью на балконе, оцепеневшую, с текущими по щекам слезами. Он пытался увести её в комнату, но встречал сопротивление, тело Лики становилось негибким, холодным, будто деревянным. Она оставалась на ночном холоде белых ночей, как часовой, которому нельзя покинуть пост. Лишь, когда начинали громко дребезжать первые трамваи, Лика возвращалась в комнату, ложилась и мгновенно засыпала.
Невольно, Матвей сравнивал Лику с женой. Он уже понял, что тяга к мечтательным, тревожным женщинам, – это его крест. Но жена, глубокую вину перед которой он переживал, убегая в свои параллельные пространства, всегда слышала голоса близких, зовущих её обратно, нуждающихся в ней. Тома летела обратно, и грудью кидалась на любую амбразуру пришедшей беды. Лика была неспособна оказать сопротивление. И Матвей с ужасом чувствовал, что не может прервать странную связь, не может бросить женщину, которая нуждается в нём как больной ребёнок. Ведь от стояния на ночном балконе до могилы – всего один шаг. Шаг вперёд.
Тома ничего не знала об отношениях с Ликой, хотя что-то почувствовала на похоронах Русалочки. Какую-то необыкновенную душевную связь Матвея с умершей девочкой. Как всякая глубоко любящая женщина, она не допускала и мысли о неверности, но чувствовала, что муж отдаляется. Матвея это медленно разрушало изнутри, хотя физической измены, по сути, и не случилось. Он стал тихим и угрюмым. Ласкал дома Лешку и погружался в диссертацию, которую как раз тогда писал. На все расспросы отвечал – много работы, устал. И Тома верила. Только постепенно спрашивать перестала, словно боялась услышать что-то страшное. Стала раздражительной, частенько они выясняли отношения, хотя Тома не выдвигала никаких обвинений. Она ждала его по вечерам, старалась приодеться и приготовить что-то вкусное, предлагала послушать музыку, которую они вместе слушали раньше. Но Матвей ускользал и уклонялся. А когда Тома молча уходила в другую комнату, смотрел ей в спину с болезненной печалью. Ему мучительно хотелось положить руки ей на плечи, погладить пушистые волосы, убранные в хвостик, поцеловать особое местечко на шее, где чувствовалось биение её сердца. Матвей знал, что терять Тому нельзя – это всё равно, что потерять самого себя. И всё же продолжал ходить в квартиру около узкой речки, жмущейся к роскошному Ботаническому саду. Хотя каждый взгляд на этот сад, немилосердно вскрывал память, и он видел их с Томой юными, двадцатилетними, гуляющими по его потаённым, окраинным аллеям.