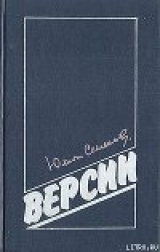
Текст книги "Смерть Петра"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Угощение было отменно простым: поначалу рюмка анисовой водки, затем кислые щи, поросенок в сметане, холодное мясо с кислыми лимонами, любимая государева каша, солонина, блины; сам Петр пил французский «Эрмитаж», способствовавший для желудку; намедни перекупил сорок бутылок у английского купца Эльстона по рекомендации своего лейб-медика Арескина; гостей угощал токайским или сладким рейнским; к «каве» подавали сладкое липучее вино португальского производства – темное, отдает виноградом, склеивает пальцы…
В берг-коллегии Виллим Брюс, добрый островитянин, разумевший по-русски так же хорошо, как и на прежнем, родном, английском, гневный вопрос государя о помощи Татищеву в горном деле выслушал спокойно, с достоинством; ответил, не тая некоторого раздражения:
– Сделайся президентом коллегии, государь, а я останусь в помощниках! Сил у меня более нет, и взяться им неоткуда!
– Силы я тебе прибавлю, этого жди, а вот деньги для Татищева есть?
– Деньги, – усмехнулся Брюс. – Больно просто вопрос ставишь, Петр Алексеевич. Я поначалу, перед тем как наложить реляцию своему вице-президенту, должен собрать предварительное мнение всех господ сенаторов, а их у нас в присутствии постоянно восемь, каждому его адъютанты готовят отзыв, – гляди, месяца четыре ждать потребно. Я в реляции своей написал – «помочь», хотя генерал-фельдмаршал возражал: «Пусть перевертится и склонит шведов за дружбу радеть, а не за ефимки». Слава Христу, Петр Иванович Ягужинский, про его инородческое забыли теперь; он – не я, не Брюс, счастливый человек, ему в нос родительской кровью не тычут, – высказал иное мнение: «Только русские склоняют к дармовой работе словом, да надолго ли? И как велик от такой работы прок?» Мой вице-президент передал письмо Татищева с положительною реляцией по столам – собрать сведения, сколь стоят такие же чертежи в Англии, Саксонии, Голландии, Франции, – на это уйдет еще поди семь-восемь почт, то бишь полгода, а то и более. Засим – проверить надобно, нет ли таких же умельцев у нас, им вменить задание изобресть свои чертежи, не платя шведу денег вовсе. Еще полгода отбрасывай. Не каплет ведь! Только у нас деньгу за должность платят, а не за работу. У нас важно день пересидеть, ничего самому не решать, отнести все бумаги на стол начальнику, что рангом поболе, а тот – в свой черед – то же самое проделает. Рабье иго в людях, государь; ждут указу; самости своей бегут; ведь проверка им – не результат дела, а твое слово!
Петр задергал шеей, отошел к окну:
– А ежели ты своим мерзавцам – вкупе с почтовым и дорожным ведомствами – от хорошей татищевской работы отдашь часть прибыли?
– Тогда Россия станет первой державой мира, государь. Да разве тебе бояре этакое позволят?! «Басурманство, суета, торжище, так Лондон живет, а он – болтлив и много вер терпит, да еще государей своих позволяет господам парламентариям открыто бранить, не страшась тайной канцелярии…»
…У Фельтена за обедом, покончив с квасом (кислых щей сегодня не давали, зато квас был отменный, на меду, с острым хреном, шипучий, шибал в нос, а ежели прибавить ложку свежетертой свеклы, делался бордового цвета и совершенно нового вкуса), Петр сразу же набросился на холодную телятину с огурцом (знал, что за употребление этого мяса его тоже за спиною обличали басурманом: виданное ли дело, есть телков, специально под нож кормленных! Другое дело корова, в ней от жизни усталость, а коли усталость видна, так и жалости нету). Покончив с бело-розовым, со хрящом, мясом, но перед тем как приняться за блины, поднял взгляд на князя Голицына, только-только приехавшего из Киева:
– Дмитрий Михалыч, это ты мне подсунул монашка для переводческих работ?
– Коли б мог подсовывать, государь, я б не только одного монашка подсунул.
Генерал-прокурор Петр Иванович Ягужинский посмотрел на Петра, ожидая реакции на дерзость, но государь словно бы пропустил ответ мимо ушей.
– Пресмешное дело случилось давеча, – как-то странно усмехнувшись, продолжал Петр, бросив на большую тарелку десяток тонких, как японская бумага, блинов (ажурны, будто бы кто кружева по ним вязал). – После того как нашим радением перевели и напечатали на российский язык «Фортификацию» Вобана, «Историю Александра Великого», писанную по-латыни Курцем, «Искусство кораблестроения», «Непобедимую крепость» немца Борксдорфера и «Географию» Гибнера, решил я дело сие продолжить – ныне заканчиваю чтением «Гражданскую архитектуру» Леклерка и «Точильное искусство» Плюмера. И та и другая книги – отменны, дам в перевод, но, князь, не твоему монаху.
– Что так? – спросил Голицын.
– Да потому как Пифендорфово «Введение в описание европейских государств» я именно ему дал, и он в три месяца и семь дён сделал пересказ; слог хорош; слова чувствует, я было хотел даровать его милостью, но, заглянувши в конец перевода, остолбенел от недоумения, которое есть – в этом я равен со всеми – не что иное, как путь ко гневу. Дело в том, что твой монах самолично выбросил все те места в Пифендорфовом сочинении, где про россиян говорилось со злою колкостью.
– Значит, монашек достойно блюдет нашу честь, – сказал Голицын.
– А про мою честь ты не думаешь? – тихо спросил Петр, – я ведь не в поругание моему народу велел сию книгу перевесть и напечатать ко всеобщему чтению, а для того лишь, чтобы подданные узрели, как о них ранее смели писать в просвещенных Европах, каковы представления о них были, – тем лучше б стал контраст, какими они на самом деле ныне являются. Я начал отсчет по новому календарю, но от старого не отрекаюсь, вижу путь, дабы и в нынешнем новом истинно старое – но лишь то, что профитно делу и благородно душе, – сохранить в назидание потомкам. Лишь слабый может дух свой потерять; сильный – сохранит; слабый – неуч; силен тот, кто знает…
– И я о том же, – сказал Голицын.
– He задирайся, князь, – еще тише произнес Петр и, обернувшись к повару, попросил подавать сыры; со времени своего первого путешествия в Голландию он приучился сам и приучал своих близких вместе с «кавою» угощаться маслом и сыром.
Когда Фельтен принес – на деревянном блюде – сыры, Петр вдруг побледнел, достал из кармана циркуль, промерил «Лимбургский», самый свой любимый, сыр и загремел:
– Сукин сын! Я ж велел никому «Лимбургский» не давать! А здесь – всего лишь половина! Где остальной?
– Сколько было, столько и подал, государь!
– Врешь!
– Может, кто ненароком и взял маленький ломтик…
– Ломтик?! – Петр достал записную книжку, раскрыл ее, приравнял циркуль к прошлой своей отметине. – Плут! Плут и дрянь! Больше половины самого дорогого сыра ужрали!
Он стукнул тростью об пол, но, увидав слезы в круглых голубых глазах метрдотеля, подниматься со стула не стал, вздохнул только:
– Все – жулье, ей-богу, все до одного… И чего людям не хватает?
– Веры, – ответил Голицын.
Андрей Иванович Остерман замер – как был с блином на вилке у рта; а Ягужинский – человек бесстрашный, особливо после трех рюмок анисовой, – поразился тому, как ответил государь:
– При чем тут вера, Дмитрий Михалыч? Просто-напросто ты Гоббсом перечитался, а он для Англии хорош, для нас – не всегда.
…Петр знал (не только служивые фискалы доносили ему обо всех; отбою не было от желавших написать на ближнего, дабы самому подняться), что Голицын хранил огромную библиотеку в своем подмосковном поместье, чуть ли не десять тысяч томов. Когда государь отправил его губернатором в Киев, Дмитрий Михайлович приблизил к себе наиболее талантливых студентов духовной академии, гораздых в иностранных языках (оттуда, кстати, молодого монашка и рекомендовал ко двору, – государь не зря гневался на его самовластье в цензуре), и за неполных два года собрал у себя переводы Макиавелли, Вольфа, Локка. Был у него и экземпляр переведенного Пифендорфа, – потому-то Петр и завел разговор об этой книге на обеде, специально пригласивши Голицына, чего тот удостаивался в последнее время нечасто, особенно по причине своего – чем дальше, тем больше – неуживчивого норова.
Вообще-то Петр предпочитал говорить с ним с глазу на глаз: чаще всего приходил к старику сам; по утрам терпеливо ждал: «Дед молится всерьез, вершит свои дела неспешно, меньше часа в красном углу не стоит»; тем не менее эта прилежность исстари заведенному порядку была Петру – в глубине души – приятней, чем ловкость Толстого, который в своем кабинете одну стену держал старорусскую (иконы новгородской школы, два лика, писанные древним умельцем Андрюшкою по прозвищу «Рупьлев»), а напротив повесил бесстыдный портрет голой бабы, что вывез из Венеции, столь полюбившейся его сердцу еще в конце прошлого века.
Петр знал, что Голицын был недоволен публичным изданием Пифендорфа, но при этом в узком кругу молодых последователей из духовной академии соглашался с немецким ученым, особенно когда тот обрушивался на нашу леность.
– Нашему мужику палка потребна постоянно, – говорил князь, – без понука никто работать не станет, слишком страна богата.
Когда один из молодых монахов, кончивший стажировку в Венской академии, возразил, что, мол, никто еще – после новгородских времен – не позволял русскому человеку получить свой интерес в деле, Голицын разгневался и монашка услал на север, в опалу.
– Не тебе, молокососу, учить меня пониманию русской души! За мною род, а за тобой?!
Что касается зависти, грубости и упрямства, о которых писал немец, то Голицын почитал это за клевету, ибо – судя по трудам Макиавелли, весьма ему полюбившимся, – именно на католическом Западе зависть (как некое следствие духовного затворничества) была одной из определяющих черт общества; упрямство же – коли оно разумно – казалось князю качеством достойным, а никак не зазорным: «Не будь упрям Александр – не стать бы ему Македонским; не был бы груб Владимир – быть нам по сю пору язычниками и Перуну молиться!»
Особенно тщательно в последнее время Голицын работал над переводами законоположений Швеции, Голландии, Англии и Франции.
И само собою вышло так, что вопросы государственного устройства в других странах, интересовавшие Голицына, могли найти толковый ответ у знатока по басурманским уложениям, а человеком, который начал давать князю ответы такого рода, был саксонец Фик – тайный и самый доверенный осведомитель государя.
Именно он и сообщил Петру, что Голицын, несмотря на свой консерватизм, не станет противиться сути новых реформ, коли их провозгласят, – более всего князя занимают вопросы формы: Голицына пугала возможность растворения русского духа, который, полагал он, ярче всего выражается в православии, единственном вероучении, могущем противостоять холодным схоластам папского двора.
«Что ж, выходит, до православия мы истинно русскими не были? – подумал Петр, выслушав донос Фика. – А собиратель России, Иван Третий, обвенчанный с Софьей Палеолог, не был истинно русским, отправив послов в Ватикан и пригласив к себе немецких и итальянских умельцев? Куда ведет Голицын? Откуда такая упрямая прилежность к тому, что уходит? Отчего страх перед тем, что грядет? Это ведь как отцу ребенка не жаждать! Ведь не избежать людям нового дня, хоть под землю упрячься, – неужли непонятно сие? Отчего он почитает за благо для себя книги собирать, в коих бранят нас, и Макиавелли с Гоббсом с пером в руке исследовать, а другим русским норовит запретить эту же – благостную для ума – работу?»
Голицын выслушал государя, когда тот однажды пришел к нему ранним утром с добрым разговором и ответил с болью и безысходностью:
– Я про наш народ не менее тебя, государь, знаю, и то, что ты науки ему даешь, почитаю благом, и то, как армию с флотом наладил, вижу с истинной радостью, и то, как ты смог в мире уважение к Руси поставить, – зову чудом. Никому до тебя не удавалось, дабы Россия в глазах европейцев сделалась воистину великой. Но ведь то, что быстро, – то преходящее! Ну, в Петербурге тебя, страшась, слушают, и дома по твоему фасону строят на голландский манер, и камзолы короткие носят, и рукава обрезали, и бороды сбрили. Ну, ладно, Воронеж тебя боится, и в Архангельск ты наведываешься. А Рязань? Калуга? Смоленск? Псков? А деревня? Россия словно бы надвое разрублена. Питербурх и Москва, это ж два разных государства! Два в одном! А ну как устанешь? А ну – кто на смену тебе придет и начнет вспять поворачивать? Или – господь спаси – еще круче брать к новому, что нам вчуже?
– Ты меня зачем хоронишь? Рано, – ответил тогда Петр. – Я еще к делу гож, а престол мой возьмет Катя, Анна или Елисафет. Кто ж еще?
– А почему не внук? Почему не Петр Алексеевич? Зачем не Петр Второй?!
– Так за ним же все те стоят, кто меня желтой ненавистью ненавидит! За ним те стоят, кто Толстого с Ягужинским на плаху потащат. За ним те стоят, которые и тебя не помилуют, хоть ты дома в боярском халате шлындраешь! Так кто ж останется тогда возле трону из моих?
И вдруг, после долгой паузы, князь ответил:
– Меншиков – из твоих – останется.
Петр с живостью возразил:
– А он – мой? Он не мой, князь. Он – свой. А вся сила его для меня в том, что простонародная Русь в его лике воплотилася; своим умом все постиг: и чужой язык, и маневр в бое, и навигацкую науку.
– По твоей подсказке, – отрезал Голицын. – А ты попробуй, не говоря ему – как; ты попробуй, чтоб он – с а м… Не сможет он сам, без тебя, чтоб ты сверху не указал…
– Выходит, что для тебя, – заметил Петр, – всякий русский – если только он не родовит – пень и дурень? Как же ты против меня смеешь голос подымать? Как же смеешь ты трепать языком, что, мол, я веду политику супротив обычаев родного племени? Не я, выходит, против народа, Дмитрий Михалыч, а ты – со своею боярской дремучестыб, – нет разве?!
– Гоббс – не русский и не боярин, – ответил тогда Голицын, – а я его высоко чту, тревожно думая и об нашем былом, и о твоем будущем…
Петр тогда смолчал, ушел; несколько дней провел в работе; исчеркал пометками книги англичанина; понял, что именно привлекло в Гоббсе князя Голицына: «Законы, уложенные государством, понять нельзя, а посему предметом исследования они быть не могут. Подданные обязаны усвоить эти законы, то есть свято в них поверить, так же безропотно, как больной глотает снадобья, предписанные ему лекарем, – не разжевывая».
Однако этот постулат Гоббса, столь угодный Голицыну, никак не сопрягался с системой доказательств, которые следовали дальше, ибо англичанин утверждал, что научным, то есть рациональным, можно считать лишь такое объяснение, в котором изложена причина действа, сиречь войны или работы.
«А как же тогда понять и объяснить причины, приведшие к тому, – думал горько Петр, – что наш человек велик в бою, в песне, в полете мысли, а вот в торговле – либо дурень дурнем, которого любой вокруг пальца обведет, либо мелкий плут, не чувствующий дельной выгоды; как понять причину того, зачем мы по сю пору представляем одного лишь хлебопашца главным империи спасителем – на изумление просвещенной Европе, а он живет в избенке чуть ли не без окон, безграмотен, гол и нищ?! В чем причина того, что наш человек не радеет о дорогах, а в них – смысл государственного единения? Терпит голод, дурью безмозглость помещиков, кои не умеют – по тщеславной своей темноте – хозяйствовать, на корню разоряют империю, – но в то же время легко и гордо принимает голод и смерть во имя защиты отечества?! Где в этом логика, о коей так радел угодный князю англичанин Гоббс, почитая за науку наук геометрию, ибо лишь она объясняет суть движений в пространстве?! Как сопрячь симпатию князя Дмитрия Михайловича к лондонскому философу в поиске примирения старого с новым, коли тот полагал высшим смыслом развития «индивидуальное существование личности, ее независимость и силу»?! А для князя наш народ – понятие нерасчленяемое, общее!»
…Петр как-то натолкнулся на любопытное примечание у Гоббса, которое вдруг высветило для него Голицына совершенно в новом свете – беспомощным, добрым дедом (как же он мечтал о таком в детстве! Кругом были мамки, ни одного доброго старика! Все, кто хранил его и следил за каждым шагом, были затаены и молчаливы, – ведь он им был, государем, хоть и дите, игрушками баловался, а они р а с с ч и т ы в а л и его, будто фигуру в индейских «шах и матах», сердца и слез в нем не видели, лишь зачарованно смотрели на корону).
«Страх, – отметил Петр в работе Гоббса, – который возникает из-за тех причин, которые нельзя объяснить, понудил людей выдумать себе богов».
Отсюда англичанин (во многом отрицая самого же себя, как казалось Петру) сделал вывод, что власть существует, поскольку каждый подданный поступился своим правом на личное могущество, отдал его добровольно монарху и почитает закон лишь оттого, что согласился с наказанием за преступление.
…Петр, управившись с блинами, откинулся на спинку стула и, обращаясь словно бы к повару Фельтену, а не к Голицыну, заметил:
– То, что хорошо Англии, для России непотребно. Твой монашек, князь, не просто перекладчик с чужого языка, он – лицо, прилежное церкви, а ты его против меня, светской власти, наставляешь, полагая, что он лучше самодержца и церковного отца может блюсти русский дух.
– Подговору не было, – сказал Голицын.
– А к чему подговор, когда глаз есть, мимика да слово? – усмехнулся Петр. – У нас господа вельможи будто музыканты: слух отменный, любой нюанс сразу поймают; это Гоббс объяснение каждому факту требует, а нам лишь намекни – голову своротим, от всей нашей широкой души. Знаю, куда тянешь, князь! Не столько за угодную твоему сердцу старину, сколько против моей, государевой новизны. Умен ты, Дмитрий Михалыч, подумай лучше, как старое с новым примирить? Не то рассержусь я, князь, ибо коли начнем русскостью считаться, то я побежу: тебя поскоблишь – либо литовина отыщешь, либо татарина, а уж варяга – то бишь шведа – наверняка!
– В чем винишь меня, государь? – Голицын португальского вина не пил, к «каве» не притрагивался – басурманская горькая гнусь; сидел выпрямившись, будто перепоясанный широким татарским поясом с серебряной пузырчатой чеканкою.
– В том, что стар, сиречь – устал! Всего медлишь! Так другим поспешать не мешай! Старина тебе любезна оттого, что хоромы твои сказочны, дома теплы, книги всеязычны, еда отменна! А об сиром и бесправном горожанине, об темном холопе ты словно б через слюду думаешь! За них твоей боли нет! Ты себе самому норовишь жизненную усладу продлить, – пусть все по-привычному будет, тогда ни об чем думать не надо и страшиться нового действия нечего!
– Действо – это когда каждый к себе тащит! А сие нашему духу противно, нам вчуже это, народ не примет!
– А ты откажи ему пару своих дворцов, – зло хохотнул Петр, – может, и примет! – Молчал долго, а потом горько произнес: – Только одно людишки радостно делят друг с другом – страх. Будь то смерти страх, побоища, недорода, хворобы… Лишь мать ломоть хлеба делит неровно – большую часть дитю отдает… Так это ж – мать, другого такого понятия в мире нет…
– Такими словами недолго мужика к бунту супротив древних родов поднять, – сказал Голицын, отодвинувши от себя потухшую трубку Ягужинского нескрываемо брезгливым жестом.
– Преображенцы подле нас – чего ж бояться пьяной темной ярости? Угомоним, не впервой. Да и поднимали мужиков к непокорству людишки вроде твоего монаха, чванливые, для них и дерьмо – сладко, коли свое…
– Ты, государь, похлеще монашка разрушаешь своими словами основы. Наш народ – особый…
– А ты чего за весь народ говоришь, князь? Ты за себя говори, за свой род, за Голицыных.
Голицын упрямо повторил:
– Зовешь к бунту, коли на благородные фамилии замахиваешься…
– Когда к делу зовут, бунтов не бывает, князь. Бунт только супротив застою подымается. Съезди на Ладыженский канал, там тебе объяснят закон шлюзов; из Голландии, столь тебя тайно интересующей, пришла к нам сия наука… Но я тебя позвал неспроста, не стал бы вокруг твоего монашка ходить, коли б гневен был без предела. Я тебя, Дмитрий Михалыч, позвал, дабы спросить при всех: не возьмешься ли разработать закон об льготах для торговцев и ремесленников, наподобие тех, которые были в Великом Новгороде, чтоб не мешали работникам мои коллегии бумажными приказами, а лишь способствовали пользе дела, которое исчисляться будет не тем, чего из казны не дали, отказавши в просьбе, а тем, сколь в казну прибыли принесли. Тогда станем с профиту платить жалованье государевым людям, а не с места, на коем человек сидит, руками вцепившись в стул, будто в мамкину цицку, – отыми, с голоду помрут, бездельники.
Петр достал червонец, положил рядом со своей тарелкой. Ему последовали Остерман, Ягужинский, адмирал Апраксин; Голицын долго шарил по карманам, нашел лишь мелкие медные деньги; никто не произнес ни единого слова.
Поднялись все разом, как по команде…
3
В недостроенной мастерской придворного живописца Ивана Никитина пахло так же, как на первом государевом ботике: скипидаром и белилами; табачный дым слоился серо-голубыми дрожащими листами – художник любил распыхать толстенную сигару из Америки, что привозили ему в дар вельможи во время сеансов, полагая (не без справедливости), что это подвигнет живописца сделать их лица еще более значительными, красивыми, исполненными мудрости.
Однажды, наблюдая за работою Никитина, когда тот пописывал портрет Елисафет, государь заметил:
– Ты с живства пиши, а не из ума, Иван. В уме у тебя мы все, видно, на одну харю.
– Хари разные, – ответил Никитин, – только каждый норовит придать одно и то же выражение.
– Какое?
– Большого умствования, но притом ангельской кротости.
– А Ягужинский?
– Тот – нет, – ответил Никитин. – Тот всегда на сиянс четверть привозит и целиком ее выхлестывает: пьющий человек – открытый, в нем лукавства нет.
Петр любил приезжать к живописцу. Он садился возле огромного, словно парижского, окна, подолгу наблюдал, как тот стоял возле картины, потом, отбежав к окну, начинал делать что-то пальцами перед глазом, будто кому жесты строил.
– Ты это зачем? – спросил Петр, когда Никитин, решив передохнуть, отложил кисти, устроился в кресле и, вытянувши короткие ноги, раскурил сигару.
– Препорцию проверяю, Петр Алексеевич. От нее весь расчет. Великие, как Рембрандт, зеркало для сего дела держали.
– Ну?!
– Именно так. В нем свое словно чужое видишь. Себе-то ведь ошибку простишь не токмо в живописи. Себе все простишь. А в зеркале – как на торговых рядах: коли не привезли битых зайцев, так и не ищи, а лежит солонина – ею и довольствуйся. Говорят, наш Симон Ушаков для сего дела окно приспособил, отражение со своих парсун разглядывал, но зыбко это, стекло легкое слишком, будто сквозь чердачную паутину подглядываешь.
– Какого ж размеру тебе потребно зеркало?
– Чем больше, тем лучше, да ведь така дорога штука, не по карману мне.
– Скажешь, что я тебе малое содержание положил после твоих италийских вакаций?
– Мало, государь. Краски приходится на свои деньги покупать, казна прижимает; мастерскую эту третий год строю, а, кроме как в этом зале, пол еще не настелен, сплю на чердаке, на стружках; Ромку, младшего, в Москву отправил, там в Измайлове двор щедрей денег дает.
– Урежу дьяволам! Бездельничают, в потолок плюют, а портреты заказывают, хотят чумырла свои в покоях иметь…
– Урежешь – живописи не будет, а государство ценят по тому, что написано да нарисовано, да еще какая песня сложена…
– Ничего, тебе, говорят, светлейший за всех нас отваливает, только чтоб ты его дочерей херувимами рисовал…
– Платит хорошо, бога гневить нельзя, да ведь и моя работа того стоит.
– Слушай, а где те парсуны, что у папеньки моего в Кремле висели?
– Это Вухтина и Вартора, что ль?
– Как же ты немецкие имена помнишь, Иван? – удивился Петр. – Нет, больше мне нравилось разглядывать картины поляков… Запамятовал я их имена…
– Все вы так, цари: картину помните, а кто ее создал – не считаете нужным знать… Поляков, государь, звали Василий Познаньский и Киприан Умбрановский…
– А этот… горец? Армянин? Как его?
– Иван Султанов. Хорошего цвета мастер, очень ярко видел красное, бесстрашно клал краску, не то что мы ныне…
– Это – как? – не понял царь.
– Чем больше мастеров появляется, тем больше школ, а чем их боле, тем разностнее суждения, каждый норовит свое отстоять, передав себя ученикам. Помнишь, предку твоему из Парижа был прислан портрет Людовика Четырнадцатого? Знаешь, сколь он среди нашего брата родил споров?! «Отчего так много синего?!», «Да зачем такой густой черный?!», «Да откуда падает свет?!»
– Какая разница, откуда свет? – удивился Петр. – Важно, чтоб было похоже.
– Э, – махнул Никитин рукою. – Похожесть – дело наживное, коли есть у тебя от бога дар. И вот как передать сказку?
– Какую сказку? – снова не понял Петр.
– Простую, – несколько даже рассерженно ответил Никитин. – Какие тебе мамки сказывали. И про медведя, что на дерево влез, и про Бабу Ягу – костяную ногу, и про ту красавицу девку, которая тебе всю жизнь грезилась, да так и не встретилась, и про пир, на котором ты никогда не бывал, а до смерти самой грезишь попасть. Чем больше художник не осуществил себя, чем в нем более сказки, тем он надежнее прилежен времени; в памяти людской останется… А вот Вартора я тоже хотел найти, – рука была у мастера отменная, да как в воду его полотна канули. Порядка нет в державе, Петр Алексеевич, нет порядка, и ждать его неоткуда.
– А – от меня?
– На одном человеке порядок не станет, мочи на это нет.
– Испортился ты, Иван, разъезжая по басурманским Европам, – усмехнулся Петр. – Кнут по тебе скучает.
– Не задирай мастера, – в тон государю ответил Никитин, – а то таким тебя изображу, что внуки ахнут. В нас – память человеческая, нас холить надо.
– В холе разнежишься, мастеру надобно ощущать вечное неудобство, как ручью, что путь к реке ищет; поиск – та дорога, по которой можно жизнь пройти в радости и без страха смерть увидать, потому как она мигом жахнет; ее тогда страшно, коли ждешь, медленно затаившись, и химерами всяческими стараешься избечь…
– Не зря Василь Васильич Голицын в своих хоромах держал твой портрет, писанный в отрочестве, наравне с парсунами князя Владимира и с Иваном Грозным, – хитер старик, чужой ум загодя чувствовал…
– При чем тут ум? Просто-напросто боялся, оттого и держал. Софье служил, не мне. Думал портретами гнев отвести; политик загодя себя обставляет, потому как ежели умен – более о поражении думает, чем о победе. Привел бы Соньку на трон, меня б похоронил и следа б не осталось… Да и в уголку я у него висел, на самом невидном месте; у «царственного большия печати и государственных посольских дел сберегателя» нюх лисий… На самом видном месте что он держал, не помнишь?
– Помню, как не помнить.
– А ведь за те немецкие листы, что он хвастливо на всеобщее обозрение представил, плачено было по пять рублей за штуку; деньги – при его-то скаредстве – большие. И королей вывесил басурманских, а ведь при людях плевался на Европу, жидовинью корил…
– Такое уж у него было иностранное дело, Петр Алексеевич, – ответил Никитин, пристально охватив чуть раскосыми глазами лицо царя. – А память у тебя как у художника… Страшная у тебя память: что раз увидал, того топором не вырубишь.
– Потому мы с тобою и любим стакан выпить поутру, Иван, – вздохнул Петр, – сие мысль, а она благостной бывает редко, в ней чаще всего грусть сокрыта али какой подвох, понятный одному тебе старому и не всесильному… Уже…
– Ты истинную силу только сейчас и набрал, Петр Алексеевич…
– Истинная сила исчислима тем, каким ты просыпаешься поутру, Иван… Сколько звонности в тебе и радости: как птиц слышишь, хлопья снега, шум дождя… Сила – это когда постоянная в тебе игра, Ванюша, беззаботность, а потому – вера в удачу, ожидание счастья, чуда, новизны, нежности…
– Чего грустен сегодня, государь? Не по тебе это.
– По мне. Только раньше хватало сил скрывать, а теперь – устал. Ты прав, порядка в державе нет; а это душу терзает, лишь порядок дает спокойствие… Когда все вокруг трещит и сыплется, а ты – один; когда других понимаешь, а они тебя – нет, тогда вот…
– Что? – после долгой паузы спросил Никитин, так и не дождавшись последних слов Петра.
Тот махнул рукой, поднялся, погладил художника по голове, вышел.
…И вот сегодня, заехав от Фельтена в Адмиралтейство, Петр велел Суворову погрузить – только осторожно, палку получишь, коли кокнешь! – тонкую доску, завернутую в рогожину, и повелел везти себя к Никитину.
Возле моста сказал остановить коляску и долго смотрел на то, как чайки собачились над полыньями возле берега.
– Любишь этих птиц? – не повернув голову, спросил денщика.
– Белые, – ответил Суворов после недолгого раздумья.
– А попугай желтый! Коли я про Матрену спрашиваю, ты мне про Глашку не отвечай!
– Гневны вы, государь, оттого и отвечаю побоку.
– Плохая птица чайка, – убежденно сказал Петр. – Попусту мается, нет в ней работы во имя гнезда своего.
…В холодной, вот уж второй год не достроенной мастерской было сумрачно, хотя Никитин, как обычно, жег много свечей.
– Принимай подарок, – сказал Петр. – Говорил, что свое только в чужом правдиво предстает, со всеми ошибками, – держи венецианский шпигель на память.
Никитин зачарованно наблюдал, как Суворов разворачивал зеркало; поцеловал государеву руку; потом словно бы забыл о нем; зеркало перенес к креслу, начал его так и сяк вертеть, подвинул поближе портрет дочки светлейшего и – словно ударили его под дых – аж выдохнул:
– Гляди, Петр Алексеевич, гляди-ка! У ей левый глаз в стороне и словно бы плачет!
– А я в прошлый раз и без Шпигеля заметил, – удивился Петр.
– Чего ж мне не сказал?
– Я полагал: такова мысль твоя – передать разность чувств, сиюмоментно пребывающую в человеке.
– Как ты сказал? «Разность чувств в человеке, сиюмоментно пребывающую»?
– Ну…
– Зачем же ты согласился своему Танауэру да парижанину Караваку позировать?! Разве могут они тебя понять? Ты ж в каждый момент разный; у тебя речь рваная, а за словом – фраза сокрыта! Они ж глазыньки твои малюют для шику и на удивленье зрителям, – чудо что за глаза, красота! – а они у тебя круглые, птичьи; они ж дают подмастерьям латы рисовать или Александровскую ленту помуаристей, чтоб взгляд привлекало, им до твоей тоски дела нет!
– А ты зачем на них прешь, Иван? Мою тоску тот до конца поймет, кто наш с тобой язык от отца с матерью взял, всякому тонкость в полслове чует… Разве они повинны, что не русскими родились? Разве плохо они мне служат?
– Служат – хорошо! Поклон им за то, что науку нам передали, только не давай ты более им себя писать! Не понимают они тебя! Я Людовика видел, – он рябой, с носа каплет, а ведь они его на картинах Аполлоном изображают, юношей беспорочным!
Остр усмехнулся:






