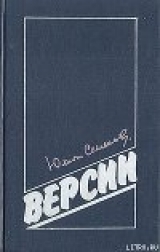
Текст книги "Гибель Столыпина"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Богров рассмеялся:
– Да уж, увольте!
Щеколдин, продолжая улыбаться, закончил:
– А ведь придется, Дима… Наша акция не будет успешной, коли вы не сможете нащупать кого-то в охранке…
– То есть?!
– Царь со Столыпиным поедут этим летом в Киев, Чернигов и Ялту. Только там возможно проведение акта. Охранников будет более двух тысяч… Сквозь их кордоны не пройти… Акт может провести лишь тот, кого охранка знает и не боится. Готовы на то, чтобы попробовать приблизиться к ним?
– Вербоваться, что ль? – брезгливо спросил Богров. – Новый Азеф, от которого затем отрекутся как Чернов с Кропоткиным, так и Столыпин с царем?
– Погодите, не злитесь… Ваш отец – звезда на киевском небосклоне… Он бывает в дворянском собрании, где собирается и жандармский корпус, и даже Кулябко, Николай Николаевич, кровавый мракобес, глава охранки… А ну, попробуйте подкрасться, не вербуясь? Наладив добрые отношения… Вербовку партия вам не разрешит, а о т н о ш е н и я – что ж, это – другое… В конце концов великий поэт Некрасов во имя святого дела с главным охранником в карты играл… Ну? Как?
Богров ничего не ответил, достал из кармана деньги, присланные Кулябко, протянул их Щеколдину:
– Благодарю вас; здесь четыре тысячи.
Деньги эти Щеколдин вернул Кулябко; тот подержал пачку в руке, улыбнулся:
– Тяжесть эко приятна, а? Оставьте себе, детишкам на конфекты.
– Благодарю, – сдержанно поклонился Щеколдин.
– Это не стоит благодарности… Это – мой долг за время, потраченное вами.
Благодарить будет ваш учитель, он ищет вас и ждет, какое-то, как он говорит, крайне важное дело…
Щеколдин знал об этом: н а к о л к а на воротилу-сахарозаводчика была богатой, афера могла принести не менее ста тысяч одномоментной прибыли.
– Значит, вы убеждены, что Богров пойдет на безумие? – задумчиво повторил Кулябко. – Решится поднять руку на святое?
– Вполне.
– А – не играет?
– Исключено. Поверьте, все-таки моя профессия приучает к точности, риск слишком велик.
– Вы расстались на том, что Николай Яковлевич прибудет к нему в поместье?
– Да.
– Именно вы или – как мы и уговаривались – любой человек с таким псевдо?
– Как уговаривались.
– Где вы будете летом? В России? Или поедете в Париж?
– Там сейчас сложно… Я буду в Киеве… До начала сезона дождей, во всяком случае…
– Я обращусь к вам за помощью, коли разрешите?
– Конечно. В порядке тренинга – крайне полезная работа.
– Благодарю вас, мой друг, от всего сердца благодарю.
…Асланов, убивший Орешка той же ночью, когда он вышел из кафе после беседы с Богровым, убрал и своего друга Щеколдина; тело почетного потомственного гражданина, «зверски зарезанного налетчиками-гастролерами», было предано земле; на панихиду приехали коллеги из Москвы и Баку; поминки гуляли красивые, закуски готовил лучший кулинар Киева Микола Ровный; было сказано много слов о покойном; представитель судебной палаты пообещал найти преступников, совершивших это злодейство, поцеловал руку щеколдинской матери; затем разбились по группам; началось обычное в таких случаях обсуждение будущего и осмысление прошлого, а Щеколдина будто бы и не было на земле вовсе…
«Только б дети жили иначе…»
11
Отец социал-демократки Анны, варшавский предприниматель, хоть и страшился дочери, избравшей путь бунта, тем не'менее сделал все, что мог, дабы получить разрешение на вызволение из тюрьмы своего внука Адама, сына Франека, родившегося в камере недоношенным, сморщенным, крошечным.
В дом к себе, однако, младенца не взял, но помог устроить его в приют известного врача доктора Корчака.
Именно туда, к Корчаку, поздним вечером и пришел Франек.
Корчак знал, что отец больного ребенка – нелегальный, близок к лидерам социал-демократии Люксембург и Дзержинскому, живет по чужому документу, объявлен к розыску по всем городам и весям империи; поэтому когда услышал в телефонном аппарате чистый, чуть ломкий голос, назвавший себя другом пани Анны, доктор все сразу понял, сказал, что к нему можно приходить в любое время, он будет в приюте допоздна, так что часы встречи совершенно не лимитированы.
…Франек был одет, как всегда, в роскошный костюм, с жабо, – к барам полиция не приглядывалась, а пунцовый румянец на выпирающих скулах объясним – при такой-то внешности – разгулом, шальной бессонницей, кутежами.
– В приюте никого, кроме меня, – сказал Корчак, пожимая длинную, сухую ладонь Франека. – Чувствуйте себя в безопасности, я понимаю ваше положение, пан…
– Домский.
Он провел Франека по коридорам, крашенным легкой зеленой краской; глаз отдыхал, закрой веки, услышишь шум березовой рощи, остановился возле двери на втором этаже особняка, осторожно открыл ее, пригласил кивком головы Франека следовать за собою; тот привалился к косяку, силясь сдержать сердцебиение; почувствовал удушье, испугался, что вот-вот забьет кашель.
Корчак достал из колыбели маленький белый конверт, поднял, коснулся губами выпуклого лобика младенца, протянул Франеку:
– Держите красавца… Ваша копия.
Франек подошел к Корчаку, принял на руки сына, заглянул в его смуглое истощенное лицо, тихо сказал:
– Пан доктор, у меня чахотка… Я могу поцеловать сына?
Тот резко взял мальчика, словно бы защищая его от отца, сокрушенно покачал головою:
– Ну, как же вы так, право?! Пожалуйста, выйдите отсюда, пан Домский…
– Мне так хочется полюбоваться маленьким…
– Я понимаю, но погодите же, я опрошу вас, послушаю стетоскопом, а потом, если найду возможным, сделаю вам марлевую повязку… Смотрите, какой красавец у вас родился, какой прекрасный человечина, разве можно рисковать его здоровьем?
Корчак отвел Франека к себе, заставил снять рубашку, долго слушал его, сокрушенно качал головой, вздыхал.
– В общем-то все в порядке, – бодрым голосом солгал он. – Вас кто постоянно наблюдает? Франек усмехнулся:
– Охранка.
Корчак вдруг ожесточился:
– Для того чтобы бороться с охранниками, надо быть мало-мальски здоровым человеком! А у вас не легкие, а кузнечный горн! Вам надо уехать в горы, на два-три месяца! И лишь потом рисковать спускаться к нам, в долину! Нельзя же так, право! Я могу позволить вам лишь издали любоваться сыном… Давайтетка примерим марлевую повязку… Трудно дышать? Говорите честно?
– Трудно…
– Я вам дам чесноку и лука, – сказал Корчак, – как каждый еврей, я держу в достатке и здесь, и дома… Переносите чеснок?
– С трудом.
– Придется перенесть… Я нарежу вам мелко, перенесете… И тогда я позволю вам побыть в одной комнате с Адамеком… Чеснок и лук убивают заразу…
Франек сидел на стуле, в пяти шагах от Адамека, который спал недвижно, маленький, туго запеленутыи конвертик; ротик квадратом, лишен материнской груди, поэтому, верно, такой обиженный…
Материнство… Какая огромная тайна сокрыта в этом понятии… Мать – символ святой доброты и одновременно – прародитель общества ужаса, где нет ни права, ни чести… Какая страшная противоестественность… Имени в образе матери сокрыт смысл смены поколений, преемственности, бесконечность, надежда на продление памяти… Но любовь к ребенку неразрывно увязана с жестоким принципом наследования, который есть альфа и омега семьи, а она – фермент государства, живущего гнусными законами, совершенно отличными от тех, каким изначально предана мать… Жестокий парадокс; поддается корригированию или нет – вот в чем вопрос? Древние греки не понимали высокого значения кормящей матери, у них не было ни одной скульптуры, посвященной материнству, – сплошной культ плодородия, сытость, довольствование минутным наслаждением… И – в противовес этому – насилие времен инквизиции вознесло культ матери, когда пронзительная, чувственная Мария стала сдержанной божьей матерью, когда забота о ребенке соединилась с выражением идеи длительности, которое тем не менее надобно было подтвердить кровным династическим правом… Вот какие игрушки, мой Адамек…
Чтобы тебе стало хорошо и спокойно, я должен три месяца жить в горах, тогда я смогу прижать тебя к сердцу, и услышать, как ты спишь, и прикоснуться губами к твоему лобику, и ощутить твое тепло… А чтобы все это стало доступным мне, я обязан отринуть самого себя, отказаться от своей идеи, и твоя мама тоже, и мы вкусим спокойного счастья, и будем рядом, и нам не страшны станут годы, потому что ты будешь расти, а потом у тебя появится любимая, и после ты принесешь в наш дом своего маленького, и мне будет совсем не ужасен мой последний час, оттого что я буду видеть, слышать, а потому – знать, что я о с т а л с я в тебе и твоих детях… И как невелика плата за это: жить подольше в горах, пить козье молоко, дышать студеным синим воздухом ущелий и не думать про то, что какие-то другие матери рожают рабов, без права на мысль, хлеб и на честь, будь же ты проклято, сердце, которое и есть на самом деле кровоточащая память человеческая… Я бы мог обратиться с молитвою к Христу, мой Адамек, но как же мне просить его, если он, пришедший в этот мир с идеей Добра, с материнской идеей, стал ныне суровой моралью повелевания и всевластвования? А если Бог человеку не в помощь, то кто же? Надежда на соседа, добрая надежда, но ведь ты – тоже сосед людям, мой сын…
Ты простишь своего отца, Адам? Вправе ли ты простить мне то, что ты лишен меня и мамы? Кто даст мне это прощенье? Но ведь не себе я ищу счастия, не себе!
– Пан Домский, – ладонь доктора Корчака легла ему на плечо. – Пойдемте ко мне…
Вы задерживаете дыхание, это – плохо… Вы отдохнете у меня, а потом позволю вам подняться к Адамеку еще раз… Пошли…
В кабинетике Корчак поставил на спиртовку кофе, по-интересовался, не голоден ли гость; недоуменно, наново обсмотрел Домского, когда тот сказал, что ему всего тридцать три, вполне можно дать пятьдесят, потом спросил:
– Вы боретесь оттого, что это стало для вас привычкой, или действительно верите, будто жизнь можно изменить хоть в малости?
– Действительно верю… Доктор, а отчего у мальчика ссадина на виске?
– Трудные роды… Его сюда привезли ко мне, словно стебелек, в чем только жизнь… Нет, нет, сейчас он набирает, сейчас все позади… Это пройдет, очень красивый ребенок, он – ваша копия…
– Мне кажется, сейчас еще об этом преждевременно говорить, комочек, разве можно понять, каким он станет?
– Я готов нарисовать портрет будущего человека в первый миг рождения дитяти, пан Домский… Именно в первый миг ребенок имеет то самое лицо, каким оно станет в конце его отрочества… Вообще мне кажется, что физиогномика – не что иное, как тайна портрета, спроецированная на область высокодуховного, тайного… Мадам Бовари и Санчо Панса – это портреты эпох… Их можно было понять, эти портреты, даже в первый миг их бытия…
– Только эпохами они стали благодаря случаю, – улыбнулся Франек.
– Так и не так, – ответил Корчак. – Мириады образов, существовавших в мире, являли собою эпохи, и – если подняться над миром и глядеть сверху – картины, казалось, будут торжеством случая. Но ведь рождаются Толстой, Шопен или Сервантес и своим гением вычленяют из этой бесконечности портретов те, которые и становятся определяющими эпоху… Случаен ли Пушкин, Флобер или Сенкевич? Не знаю, полагаю все же, что закономерны, как закономерно добро…
– То есть вы хотите сказать, что протекание истории невероятно трудно для обозрения?
– Именно. Именно так я и хотел сказать, – Корчак улыбнулся. – Доброта человека яснее всего делается понятной, если он ставит такие вопросы, которые помогают тебе самому утвердиться в своей значимости, а отнюдь не малости… Вы – умный…
Поэтому ответьте, что готовит нам история – в ближайшем будущем?
– История – категория прошлого, пан доктор Корчак, – мягко поправил Франек. – А что касаемо будущего, то оно рисуется мне примерно следующим образом: после того как уйдет Столыпин, на его место придет либо военный диктатор – что, в общем-то, маловероятно, ибо царь страшится любого второго подле себя, – либо, скорее всего, какой-нибудь послушный специалист, креатура землевладельцев или банкиров… Заметьте, как газеты Гучкова начали костить Столыпина за его «аграрные привязанности и забвение судеб отечественной промышленности»… Но все это ненадолго…
Корчак вздохнул:
– Не выдавайте желаемое за действительное, пан Домский. Во-первых, кто вам сказал, что Столыпин уйдет? Во-вторых, после нашего восстания тоже говорили, что Петербург победил ненадолго, а уж полвека прошло, и мало кто помнит то время…
В этой империи все надолго, пан Домский, тут сильна пуповина, то есть инерция таинственных связей прошлого с будущим, поверьте… У меня ведь не только грудные, пан Домский, я воспитываю детей вплоть до пятнадцатилетнего возраста…
И учебные программы мне утверждают в северной столице… И у меня волосы шевелятся от ужаса от того, как мне предписывают лгать маленьким… Костюшко – наемник Лондона, побуждавший поляков за фунты восстать против власти славянского государя… Людвиг Варыньский вообще не существовал, его вроде и не было на свете… Не было зверств над разгромленными поляками, никто не погиб, не был повешен и не сгнил на каторге… Не хотят, чтобы был девятьсот пятый год…
Хотят, чтобы я учил детей тому, что у нас – самая счастливая жизнь, что мы – богаты духом, что мы – опора человеческой мысли, что мы – светоч добра в мире гомонливого капитала… Как мне быть? Уйти отсюда, чтобы не лгать? Тогда приют кончится, пришлют другого попечителя, который вытравит мою душу, приведет новых людей, узаконит страшную бурсу… Лгать! Но тогда мои питомцы предадут меня презрению, выйдя из этих стен и столкнувшись с практикой нашей страшной, имперской жизни… Как быть?
– Вы задали мне горький вопрос, пан доктор Корчак… Я не знаю, как ответить вам… Вообще-то, если рискнуть заглянуть вовнутрь, в таинственную суть проблемы, то возникнет страшнейшая гипотеза: а не уничтожает ли человек самого себя, производя потомство? Познавая – он уничтожает прекрасные иллюзии, остается один на один с правдой бытия… Дав жизнь новому человеку, он самим этим фактом утверждает смерть как финал жизни… Я живу верой свободы, она проста, как формула: пока есть право одного человека быть хозяином над другим, пока закон может казнить меня за то, что я смею выразить свое несогласие с существующим, я обязан быть, чтобы бороться с несправедливостью. Потом, когда моя идея свободы восторжествует, я стану думать над философией нового периода человеческой истории. Мне легче: я несу ответственность перед многими; вы смотрите в глаза детей, а им нельзя лгать – это преступление, которое не подлежит прощению…
Если вы уйдете, будет, по-моему, хуже… Попробуйте выработать какую-то пограничную линию между ложью и правдой; продержаться надо совсем недолго.
– Это невозможно, пан Домский. Во-первых, ждать надо долго, очень долго, век, а то и два, пока народится психология свободы личности, во-вторых, на меня сразу же напишет донос один из тех пяти нестойких, кто есть в приюте… В-третьих, дети чувствуют лучше, больнее и тоньше, чем мы, способные на поиск пограничности в решении…
(Доктор Корчак так до конца дней своих и не смог найти эту линию: когда гитлеровцы загнали его, старца, в Освенцим и в мире началась кампания протеста, а он был Нобелевским лауреатом, и Гитлер не хотел рвать все контакты со Швецией, там был марганец и бензин, доктору предложили освобождение. «Только с моими воспитанниками», – ответил Корчак. «Тогда освобождение в небо», – сказал комендант лагеря, и доктора сожгли вместе с украинскими, русскими, польскими и еврейскими детьми…)
V
Август 1911 года
Время решений.
«Пусть лицедеи учатся у меня искусству интриги!»
1
Отправляясь на встречу с Богровым, Кулябко дважды проверился: чист абсолютно.
Спиридович рассказывал, как однажды филеры, сдуру, от чрезвычайного усердия, п о в е л и Азефа, а потом и вовсе задержали; самый ценный провокатор империи оказался на грани провала из-за того, что родная обломовщина сработала – поленились вовремя сообщить службе наружного наблюдения отработанный годами приказ: «Урода, проходящего по кличке „Роза“ или „Незабудка“, с ярко выраженной внешностью, вывороченными губами, чрезмерно жирного, страдающего одышкою, в дорогом костюме нерусского производства, ни в коем случае не задерживать, вести наблюдение крайне осторожно».
Вывести Азефа – после того ареста – из-под удара его же друзей-эсеров стоило огромного труда.
(Впрочем, Спиридович выдвинул версию, что этот арест был следствием глубокой интриги, проводившейся новым шефом петербургской охраны генералом Герасимовым в борьбе за приобретение Азефа в свое безраздельное пользование. «Родная обломовщина» – с неотправленным приказом – была разыграна как спасительное прикрытие в схватке честолюбивых, а потому кровавых амбиций во время подготовки охранкой очередного террористического акта против членов августейшего дома.) Кто знает, как себя ведут ныне самые близкие к Столыпину люди?
Столыпин не может не чувствовать, что кольцо вокруг него стягивается, а он не таков, чтобы уходить без боя. Значит, его люди задействованы против тех, кого он считает противниками. Гучков и Милюков пока еще не имеют реальной силы; он понимает, что главный противник – Царское Село, значит, н и т к у от Спиридовича сюда, в Киев, протянул наверняка; ходит и смотрит за Кулябкой кто-то неизвестный, стоглазый, страшный и отчеты Столыпину пишет.
– При свечах станем ужинать, – сказал Кулябко, – романтично, в духе драматических произведений Чехова.
– Чем вызвана такая секретность, Николай Николаевич?
– Столыпиным, Дмитрий Григорьевич, Столыпиным – Чем больше я думаю про то ваше письмо, что мне прочитал ваш посланец в Ницце, тем больше оторопь берет…
– Дантон начал со службы революции, а кончил на плахе под топором палача, призванного на казнь революцией. Извивы истории, ничего не попишешь, борьба за власть, одно слово…
– Неужели Столыпин и впрямь считает, что может стать над государем? – спросил Богров. Кулябко пожал плечами:
– Отчего нет? Англия – пример заразителен; есть король – нет короля, все решают Даунинг-стрит и парламент. Думаете, Столыпин не лелеет мысль о создании подобного рода конструкции на русской почве? Как доехали? Глаз ничьих за собою не чувствовали?
– Нет вроде бы…
– «Вроде бы» – негоже в нашем деле, Дмитрий Григорьевич. Что похудели?
– Так это хорошо, – грусто усмехнулся Богров.
– А вот и нет. Истинно здоровый человек обязан быть толстым. Голодны?
– Совершенно сыт.
– Жаль. Я сказал, чтоб приготовили ляжку молодого барашка с чесноком; мигом из погребка принесли…
– Нет, нет, спасибо, тем более на ночь глядя, не искушайте, Николай Николаевич…
Кулябко достал из шкафа рюмки, бутылку шартреза (пил только сладкое, особенно любил тягучие ликеры), разлил з е л е н ь, чокнулся:
– С благополучным возвращением.
Выпил быстро, налил еще; снова выпил, не чокаясь, заел шоколадкой:
– Знаю, вы – непьющий, не стану неволить… Ну, так что ж станем делать?
– Комбинация может получиться любопытной, Николай Николаевич… Глава эсеровской боевки, Николай Яковлевич, предложил мне войти в контакт с охраной, можете себе представить?!
– Ну да? – подивился Кулябко, играя искреннее удивление. – Так ведь это ж на ловца и зверь бежит?! Погодите, а если – игра? Если путает он вас?
– Поверьте – нет. С х в а ч е н намертво. Он убежден во мне совершенно, проверка продолжалась слишком долго… А венцом была встреча с Орешком. Я провел ее – без хвастовства скажу – здорово, красиво все разыграл…
– Ах, милый, коли б Орешек один вас подозревал…
– Это серьезно? – побледнев, спросил Богров.
– Пока сдерживаю.
– Но прямой опасности нет?
Кулябко вздохнул, ответил вопросом:
– Скажите честно: вы для себя, внутренне, уже решились на д е л о?
– Да как же вы мо… – начал было Богров, но Кулябко положил свою мягкую ладонь на его руку, перебив:
– Не надо, друг мой… Не надо… Смотрите правде в глаза…
– Этого разговора я ждал, Николай Николаевич, мучительно ждал, – после долгой паузы ответил Богров. – Тут нельзя втемную, это вам не карты. Я до сих пор не могу взять в толк: неужели вы решаетесь даже думать такое против премьера…
– Да будет вам, – поморщился Кулябко. – «Думать»… Вся империя не думает уже, а говорит… Во весь голос… Дома, в обществе, в прессе…
– Но он же глава государства!
– Глава государства у нас император, Дмитрий Григорьевич, а не Столыпин… Он – узурпатор и погромщик, возомнивший себя спасителем отечества! Для него я – хохол, вы, простите – жид, а князь Шервашидзе, достойнейший член Думы, – кинто, жулик, грузинский недоносок! Он развалит империю, Дмитрий Григорьевич! Не зря от него все отколыхнулись, начиная с Милюкова и Гучкова, кончая Пуришкевичем и графом Бобринским! Он нынче один остался, а отсюда – путь к диктатуре! И обернется на против нас! Кто не на «ов» или «ин» кончается, а на «о», «дзе» или «ман»…
– Я-то кончаюсь на «ов», – пошутил Богров.
– Черная сотня бьет не по паспорту, а по морде, первым ваш дом разрушит, родных искалечит, мне с десятком полицейских чернь не удержать, сами знаете, что это такое – наше неуправляемое, пьяное быдло.
– Вы действительно считаете возможным а к т?
– Я считаю его спасительным для нас с вами, Дмитрий Григорьевич. Мы стоим на грани погромов, военного положения, беззакония, а спрос потом будет с меня, стрелять станут не в него, в нас с вами, в тех, кто внизу…
– Но меня же растерзает толпа, Николай Николаевич…
– Толпа – на улице, а там, где его можно ликвидировать, – не толпа, но группа наших единомышленников. Он в театре будет, Дмитрий Григорьевич, я туда пропуска выдаю, я уж подберу туда контингент, будьте-будьте. Словом, после вашего выстрела свет в театре будет выключен. Убежите. Вспрыгните в экипаж, нанятый мною заранее, и – на вокзал! Оттуда – в Ялту, шаланда будет ждать вас; Америка примет борца с тираном; живите, как Засулич, в лучах славы, вы ее заслужите…
– Ну, хорошо, а если меня схватят?
– Нет. За это отвечаю я, ибо мой риск больше вашего. Вам-то всего лишь пятнадцать лет каторги, как Егору Сазонову за Плеве, а мне – по закону жандармской чести – пуля в висок.
– А если? – тихо повторил Богров.
– Если допустить, что вас схватят, – я-то не допускаю этого, – грядет суд. Побег я вам устроить из тюрьмы не смогу, это – ясно. На суде вы открыто скажете, что стреляли в тирана России, воспользовавшись моей доверчивостью, войдя специально в доверие ко мне; подчеркнете, что государь стоял рядом, но вы не считаете его ни в чем виноватым, а обвиняете в реакции именно Столыпина. Получите каторгу. А может, и смертный приговор… Если так, то на плацу, в последний момент, вам зачтут помилование – как Достоевскому. Из каторги я организую вам побег. Но если вы скажете, что я подсказал вам акт, – тогда меня казнят, понятное дело, а вам как моей жертве не пятнадцать лет влупят, а восемь, не больше, то кто организует вам побег – не знаю…
– Вы говорите: помилование объявят на плацу… А – нет?
– Тогда чего вы вообще со мною разговор-то ведете? Нет нужды беседовать с мерзавцем…
– Николай Николаевич, напрасно вы так… Я ж не котлету иду есть, а стрелять премьера России… Вывели меня на плац, и – что?
– Когда Петрашевскому саван надели, на помост поставили, веревку на шею накинули, примчался фельд… Почитайте, советую, Федора Михайловича надобно часто перечитывать, там на все случаи жизни есть ответы…
Кулябко выпил еще, шоколадкой закусывать не стал, закурил:
– А то – плюньте, Дмитрии Григорьевич, считайте, что этого разговора не было.
Дело-то действительно отчаянное, невероятной храбрости требует… В конце концов над вами не каплет, в крайнем случае, когда уж вовсе станет невыносимо, уедете в Ниццу, проживете, отец не оставит в полной бедности, как-никак родной человек…
– Николай Николаевич, вы не так поняли меня…
– Так, так, именно так я вас понял и ни в чем вас не виню… Я все, что мог, – сделал… Особо серьезных подозрений против вас у революционеров нет, коли от Орешка отмазались; что-то пытается против вас в я к а т ь Надя Обухова, требует вашей казни; помните, шла по интернационалистам? Я уж послал шифрограмму в Енисейск, там с ней быстро управятся… Нет, я все посмотрел, опасности со стороны эсеров и анархистов, отданных вами мне, – месяцев пять-шесть ждать не приходится… Если, конечно, у Коттена, в петербургской охранке, упаси бог, не наследили…
«У меня только один выход, – подумал Богров, снова ощущая вокруг себя какую-то тяжелую липкость. – Он прав, надо все рубить махом, с одного разу… И версия готова, которая все мои старые дела спишет: я постепенно, на свой страх и риск, без санкции в л е з а л в охранку – во имя коронного дела, во имя казни сатрапа… Теперь же Николай Яковлевич дал санкцию, Виктор Чернов одобрил идею… Все те, кого я о т д а л, перестанут быть страшны мне… Действительно, единственный выход… Притом имя мое запишут на скрижали; всемирная известность, куда там Каляеву, Засулич и Сазонову…»
– Когда начнем готовить дело в деталях? – спросил Богров.
Кулябко вздохнул:
– Теперь вы на меня сомнения нагнали, страх взял… Может, и вправду – ну его к черту, а?! Доскрипим, даст бог…
– Скрипит телега, человек петь должен, – ответил Богров, подумав при этом, что фразу следует записать, пусть потомство знает, красивая фраза, как в романе…
– Хорошо сказали, – заметил Кулябко, будто услыхав затаенные мысли Богрова, – как словно в драматическом произведении, типа Ибсена или Островского…
Богров не сдержал усмешки:
– Совершенно разные авторы.
«Пойдет на дело, – убедился лишний раз Кулябко; про Ибсена и Островского сказал намеренно, прекрасно знал театр, но как человека проверить, не подставляясь ему?
Никак не проверишь; стоит дурака сыграть – собеседник вмиг откроется, это ведь такой стереотип родился: раз полицейский, – значит, дуборыл и неуч, мятущуюся дущу интеллигента не поймет! Не понимай мы вашу душу, Дмитрий Григорьевич, не удержали бы империю в девятьсот пятом, дали б растащить, под обломками б задохнулись, раздавленные… А ты брезгуй и сожалей, сожалей и брезгуй, я перенесу, я все перенесу, милейший, оттого, что учен выдержке и математике, фигуру черчу в уме, без циркуля, а все равно на прочность выверена, и в этой фигуре за основание взято твое честолюбие, лапа».
– Ну, тут я – пас, – вздохнул Кулябко, – тут вы меня на лопатки. Теперь вопрос по делу, Дмитрий Григорьевич… Муравьев, он же Бизюков, боевик из Коломны, убивший полицейского, не пересекался с вами?
– Коломна? Это под Москвою?
– Именно.
– Вряд ли. Каков из себя?
– Нервное, интеллигентное лицо, хотя сам рабочий (снова проверил, дрогнет ли Богров, выявит свое внутреннее несогласие с такого рода противопоставлением, неприемлемым для революционера, или же пропустит мимо слуха как человек в с е п о з в о л е н н о г о тайного братства; пропустил). Брюнет, острая, французского типа бородка, красивые зубы, родинка на переносье, длинные, ниспадающие волосы, а-ля Леонид Андреев, глаза очень черные, цыганистые, выше среднего роста, худой, обликом похож на провинциального актера.
– Такого я не знаю, Николай Николаевич.
– К вам домой он не наведывался?
– Наверняка нет.
– А в ваше отсутствие? У него, говорят, есть ваш адрес. Не от Николая ли Яковлевича?
– Мне это легко выяснить.
– Сделайте милость… А пока напишите-ка мне рапорт, надо подстраховать себя, этого самого Муравьева-Бизюкова, московская охрана ведет, полковник Заварзин, я вам про него говорил – акула, челюсти – автоматы, схарчит любого, кто на пути, и костей не выплюнет…
Богров знал, что Заварзина остро не любят как в столице, так и на местах, но сделать ничего не могут, имеет р у к у.
– Что надо написать, Николай Николаевич? – спросил Богров.
– Что-то связанное с угрозою террора… На ваше мотрение… Муравьев в бегах, скрывается под фамилией Бизюков, истинное свое имя никому не открывает…
Заварзин про Бизюкова ничего не знает… Заварзин подозревает его, а мы на стол не подозрение, но факты…
– Скрывается – в связи с террором против полицейского чина?
– Темное дело. И уголовщину можно вертеть, и политику… Пофантазируйте, я ж, говоря честно, у вас порою учусь изобретательности мысли, Дмитрий Григорьевич…
Богров отошел к столу, открыл папку с листами плотной бумаги, вывел каллиграфически:
«Полковнику Кулябко
сотрудника „Аленский“
Рапорт
Вчера на Крещатике я встретился с боевиком-эсером Бизюковым, известным в кругах московской организации социалистов-революционеров под фамилией Муравьев. Он рассказал мне, что живет здесь на нелегальном положении, ищет связи для «интересного дела», просил дать надежную квартиру под складирование оружия. Я спросил его, отчего он обращается с такого рода чрезвычайным делом столь неконспиративно, на что Муравьев ответил, будто имеет обо мне сведения из Парижа от людей, связанных с цекистами, высоко обо мне отзывающихся. Договорились, что он выйдет ко мне на связь, зайдя поздно вечером домой через черный ход, сказав дворнику Рыбину условное слово: «К молодому барину с правоведческого факультета на коллоквиум».
Кулябко пробежал текст, изумленно покачал головою:
– Аппетитно, лихо, браво! Добавьте только следующее: «Муравьев сообщил мне, что, вероятно, д е л о будет приурочено к концу августа – началу сентября. О „существе дела“ он в настоящий момент беседовать отказался, своей явки также не назвал, сказав только, что его друг, бывший метранпаж, а ныне чертежник Владислав Кирич обеспечивает его всем». Годится?
– «Существо дела» – слишком уж наш термин, Николай Николаевич, уши торчат, я найду что-либо поинтереснее, согласны?








