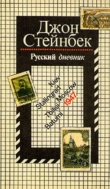Текст книги "Ледовая книга"
Автор книги: Юхан Смуул
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
24 января 1958
Очень сильный ветер, вернее, шторм. На юге – на Пионерской, на Комсомольской, на Востоке – хорошая погода. В Оазисе тоже хорошая погода, но над Мирным воет и свистит буря. Есть в этом что-то родное, хотя из-за неё и откладывается моя поездка в Оазис. Завтра-послезавтра туда улетят три последних самолёта, и потом связь с Оазисом прервётся надолго, поскольку вертолёт возвратится обратно в Мирный. Сгорбившись от ветра, я по десять раз на день хожу к лётчикам и спрашиваю, не устанавливается ли погода и не полетим ли мы. Но погода не устанавливается.
Да, в сегодняшней буре есть что-то родное. Придя к нам с юго-востока, она сумела наконец привести в движение лёд на море Дейвиса, точнее, на рейде Мирного. Там, где вчера была только узкая, видная лишь с самолёта трещина, уже чернеет между кромками белого льда расширяющаяся полоса чистой воды. Сколько раз я видел ледоход на море, нагромождение льдин на берегу, но тут все иначе, движение здешних льдов исполнено медлительности и величавого спокойствия, тяжёлые, словно бы чугунные айсберги упрямы, и на глаз кажется, что они не перемещаются. И всё-таки лёд тронулся, – значит, лето пришло, хотя вода, выглядывающая порой из-под пляшущей завесы шторма, на вид совсем ледяная, такая же, какой она бывает в мелких эстонских проливах с середины ноября до конца декабря.
У-хуу! У-хууу! У-хууу! – плачет над Мирным буря. На спине вертолёта дрожат лопасти подъёмного винта, на метеорологической площадке гудят натянутые провода, порывы бури расшвыривают птиц, пустые ящики переворачиваются с боку на бок. Но все тут, сотрясаемое сейчас бурей, уже пропитано духом человеческого жилья. Если бы ещё пустить по ветру несколько осенних листьев да обломков камыша и посадить на крышу каркающую ворону с распростёртыми крыльями, то была бы полная картина октябрьской непогоды в эстонской деревне. Только море в Мирном другое, более свирепое и холодное, – оно выглядит необычайно могуче со своими белыми ледяными обрывами, со своими плоскими айсбергами на чёрной воде.
Сегодня в девять часов вечера были похороны Чугунова.
Мы собрались у метеорологической площадки. Люди в ватниках с опущенными на шапки капюшонами шли, сгорбясь, против ветра. Шли так, словно несли на своих плечах весь лёд Антарктиды и всю тяжесть смерти. Гроб, обитый кумачом, поставили на тракторные сани. В почётном карауле стояли товарищи Чугунова – метеорологи и аэрологи. Буря рвала на них ватники и капюшоны.
Выступали Бугаев, Толстяков и Трёшников. Это мужественные люди, знающие, что такое риск и во имя чего стоит рисковать. Если бы я записал их речи слово в слово, они показались бы холодными. Но смерть всегда угнетает, она всегда тяжела, а в нашем небольшом коллективе она втройне тяжелей. И особенно тяжела для тех, на кого возложена большая ответственность.
Гроб с телом Чугунова отнесли на морену неподалёку от Мирного. Мы погребли его здесь до той поры, когда лёд на море Дейвиса снова окрепнет. Тогда гроб перенесут на один из островов на рейде Мирного, где уже спят двое товарищей покойного, погибшие под обломками барьера.
Салют из охотничьих ружей. Из-за воя ветра он слышен слабо.
Вспоминаю название книги Зегерс «Мёртвые остаются молодыми». И потом, уже в комнате Якунина и Яковлева, долго ещё думаю о смерти. Я надеюсь, что она пока очень далека от меня. А может быть, она и поблизости – в расстоянии двух-трех дней. И если я в самом деле принёс какому-нибудь человеку несколько дней или часов счастья, если я протянул ему руку в тяжёлую минуту, то пусть в награду за это на душе у меня в последний час будет светлее, чем сегодня.
Буря плачет над Мирным.
25 января 1958
В Антарктиде надо быть терпеливым. Этот большой материк требует большого терпения. Полетишь куда-нибудь на денёк, а погода испортится – вот и просидишь там неделю или даже месяц, если не повезёт, и сколько ни мечись, сколько ни нервничай – толку не будет. Здешние расстояния, длиной в сотни километров, пешком не отмахаешь, а от ругани ни теплей, ни холодней не станет.
Самолёт «Ли-2» ещё утром был загружен и подготовлен к отлёту в Оазис, но сильный ветер все не унимается. Проходит время завтрака, часы тянутся и тянутся, словно нить из клубка шерсти, и вот наступает время обеда.
В 14.15 самолёт всё-таки стартует. Пилоты – Рыжков и Григорьев. Пассажиров трое: начальник гляциологического отряда Закиев, врач Мирного Лифляндский, направляющийся в Оазис к больному радисту, и я. Прямая нашего курса пролегает почти прямо на ост, к сотой восточной долготе.
Все ещё очень сильный южный ветер начинает трепать самолёт уже над Мирным. Справа от нас простирается Земля Королевы Мэри, слева и прямо под нами – море Дейвиса. Оно полно айсбергов и белеющих льдин, оторвавшихся от берега. Между ними темнеют большие участки чистой воды. Видимость хорошая, отчётливо различаешь резко очерченную кривую материкового льда, то сплошную, то рваную.
Летим над ледником Хелен. Он находится чуть восточнее Мирного. Корявые, складчатые, потрескавшиеся айсберги – где сгрудившиеся в одно место, а где разбросанные как попало – образуют внизу чудовищный, невообразимый хаос. Что за силища, что за тяжесть! А место рождения всех этих айсбергов, отчётливо видных с самолёта и похожих на гигантские белые паромы, плавающие по летнему морю, – ледник Хелен, залитый сверху донизу ослепительно ярким солнцем. Почему таким красивым в своей дикости и мощи местам даются женские имена?
Хелен остаётся позади. Теперь под нами спокойный и белый морской лёд: слева океан со своими айсбергами и тёмной холодной синевой, а справа крутой барьер материкового льда и пологий купол Антарктиды, на котором лежат облака. Внизу по кромке льда ползают тюлени, которых здесь много. В одном стаде я насчитал двадцать два тюленя.
Ледник Роско. Он выглядит более спокойным, чем ледник Хелен, хотя на карте он кажется более пространным и диким. Ледник Хелен, очевидно, потому произвёл на меня впечатление такой мощи и, можно сказать, активности, что курс наш пролегал над его выступающим в море мысом.
Справа по-прежнему материк – Земля Королевы Мэри, но с глаз уже скрылась чистая вода на севере и под нами простирается огромное и однообразное белое ледяное поле. Внизу шельфовый, то есть плавучий, ледник Шеклтона, один из крупнейших ледников во всей Антарктике. Я представлял его совсем иным, более беспокойным, хаотичным и живым, сильнее изборождённым трещинами. Оказывается, ничего подобного. Даже остров Массона, находящийся посередине этого ледника, в ста пятидесяти километрах от Мирного, и тот не может оживить белой пустыни. Он, правда, большой и, вздымаясь, образует огромный горб, но и его земля совершенно погребена подо льдом и снегом. Кажется, что это вовсе и не остров, а сугроб гигантских размеров. Мы не видим его затенённой стороны, и это ещё более увеличивает сходство острова с сугробом.
15.30. Кое-где справа виднеются выступающие из материкового льда тёмные обнажённые скалы. В мёртвом царстве, где единственными проявлениями жизни являются перемещения льдов, игра ветра со снегом и сверкание солнца, эти круглоголовые, словно тюлени, тёмные скалы кажутся какими-то живыми и дружелюбными.
Летим над ледниками Денмана и Скотта. А затем перед нами Оазис Бангера. Где-то там, посередине, расположена наша станция Оазис, но мы её не видим. Оазис Бангера окружён ледниками. Между ними вздымаются, словно на фантастическом или лунном ландшафте, бурые конусы приземистых скал. Сверху этот ландшафт выглядит диким, бездушным, угрюмым и унылым – оазис, где жизни не больше, чем на ледниках.
Но через несколько минут Оазис Бангера уже скрылся из виду. Мы не смогли приземлиться. Там бушевал шторм – двадцать пять метров в секунду. Нас болтало так, что весь Оазис слился в одно сплошное бурое пятно.
Пришлось повернуть назад. Завтра полетим снова.
Сегодня «Кооперация» прибыла в Порт-Луи.
26 января 1958
Утром снова отправились на аэродром, чтобы лететь в Оазис. Ветер был сильный, стоявший самолёт содрогался от его порывов. Сидели, курили, ждали. Но так ничего и не дождались. Как нам сообщили по радио, вертолёт, вылетевший из Оазиса на аэродром, расположенный в двадцати пяти километрах от Оазиса, вернулся обратно, так как над скалами слишком сильно болтало. Но попасть в Оазис с аэродрома близ него можно только на вертолёте, если же его не пришлют за нами, лететь бессмысленно. Дорога там трудная и опасная, вся в трещинах. Ещё позже нам сообщили, что у вертолёта при посадке сломалась одна из лопастей подъёмного винта. Вернулись домой.
В Мирном уже несколько дней находится Павлик Сорокин из Комсомольской. Я не раз встречал его в кают-компании и сегодня встретил опять. Павел похудел и побледнел, весёлости у него поубавилось, глаза стали серьёзнее.
Мы разговорились. Я спросил, что с ним. Сперва он помрачнел, но потом рассмеялся, весело и от души, и рассказал мне свою грустную историю. Лицо его при этом выражало крайнее удивление.
Сорокин прилетел в Мирный главным образом за медикаментами, и его поселили у наших врачей Лифляндского и Шлейфера. А это отчаянные зубоскалы. С самым невинным, отзывчивым и сочувственным видом они тебя так обведут вокруг пальца, что над тобой будет потешаться потом вся экспедиция.
Шлейфер – круглый и крепкий тяжеловес с намечающимся брюшком, с солидным и спокойным, словно у спящего Иеговы, выражением лица. Взгляд его карих глаз, прикрытых большими тяжёлыми веками, кажется исполненным равнодушия и апатии. По национальности он еврей, по образованию – зубной врач, по специальности – медик полярных экспедиций. Последнее означает, что его знания должны намного превышать (а они и превышают) узкие рамки стоматологии.
Лифляндский моложе Шлейфера. Это хирург, восемь лет проработавший на Дальнем Севере, полный человек с глазами мечтателя и простодушной внешностью. Но внешность обманчива. В здешней больнице и в здешней «латинской кухне» вынашиваются ядовитейшие каверзы и розыгрыши.
Вот вам пример.
К Шлейферу и Лифляндскому является молодой, только что окончивший университет специалист, впервые попавший в полярные условия. Ему предстоит лететь на какую-то дальнюю станцию. Он безо всяких к тому оснований беспокоится за своё здоровье. Дав несколько деловых советов, врачи рекомендуют ему взять с собой утеплитель, которым пользуются во время морозов для одной весьма нежной части тела. Не знаю, кто из врачей добавил, что существуют утеплители двух типов: одни, шерстяные и попроще, – для рядовых участников экспедиции, а другие, посложнее, – для руководства. Главными деталями последних являются собачий мех и электрическая грелка. Врачи настойчиво рекомендовали требовать утеплитель для руководства, поскольку перед смертью, законом, поваром и морозом все равны. Думаю, что при этом были ещё сказаны громкие слова о равноправии и демократии.
Разумеется, ни шерстяных, ни меховых утеплителей не существует. Но юноша клюнул на удочку и написал длинное заявление, на котором заместитель начальника экспедиции по хозяйственной части написал лаконично резолюцию: «Отказать!». Однако Толстиков, не сразу понявший суть дела, сказал:
– Если и вправду есть такие чудеса техники, почему же их не выдают?
История эта продолжает передаваться от человека к человеку, с каждым днём совершенствуясь и пополняясь новыми деталями, – она уже стала достоянием изустной хроники Мирного.
Но вернёмся к Сорокину. Врачи провели его следующим образом. В их квартире живёт медик второй экспедиции Тихомиров – парень с виду холодный и угрюмый. Сорокина поселили с ним в одной комнате.
По уговору с Лифляндским и Шлейфером, Тихомиров разыгрывал помешанного – не буйного, а тихого. Он втянул Сорокина, уже предупреждённого обоими друзьями о возможных неприятностях, в заговор против врачей: на глазах у Павла он выбрасывал в окно какие-то таблетки, заклиная его молчать об этом. Он показывал Павлу на большой картонный ящик под кроватью и, имея в виду его содержимое, говорил:
– «Кооперация» – бу-бух!
Это означало, что корабль взлетит на воздух.
Сорокин поверил в то, что он сумасшедший. «Тихий помешанный» Тихомиров полностью убедил его в этом своей манией к украшениям. По вечерам, когда поблизости не было ни Шлейфера, ни Лифляндского; он повязывал свою голову полотенцем на манер корсиканского разбойника, вешал на шею апельсин на верёвочке и прикалывал к груди английской булавкой шестёрку червей. И в таком виде, наряжённый и мрачный, он бродил по тёмной пустой больнице, вселяя в душу Сорокина тёмный страх. А утром, не отрывая от Павла взгляда, говорил:
– Ночью все думал, откусить тебе ухо или нет. Решил не откусывать, ты мне пока нравишься. Поживём – увидим.
Испуганный Сорокин побежал жаловаться на беду к своему другу, начальнику строительного отряда Кунину. Тот ничем не сумел помочь Павлу, лишь дал ему для самозащиты большой рашпиль. Павел страдал ещё две ночи и на всякий случай спал с рашпилем в руках.
А сейчас он сам удивляется:
– Как они меня провели! Ну, полотенце – ладно. Порошки в окно выбрасывал – ладно. Хотел ухо откусить – тоже не штука: один великий художник сам себе ухо отрезал, чтоб интересней выглядеть. Но апельсин и шестёрка червей – какой сумасшедший до этого додумается? Ведь никакой логики, а я поверил, Юрьевич, ей-богу, поверил!
И он с сожалением добавляет:
– Обидно, что улетать надо. Я уже придумал для этих докторов один номерок. Гениальный номерок!
Но как бы то ни было, такие розыгрыши делают здешнюю жизнь более лёгкой и весёлой, особенно если сам не являешься их объектом и твоим ушам не грозит никакая опасность.
На Восток уже прибыло то звено тракторного поезда, которое должно было отвезти туда припасы. Расстояние от Комсомольской до Востока оно преодолело сравнительно быстро. Тракторов было больше, чем обычно, и каждый шёл с меньшим грузом. Сам поезд стоит в Комсомольской и ждёт возвращения тракторов с Востока. Потом начнётся трудный рейд к Советской.
27 января 1958
Чудесный, тёплый, метельный день. Никакие самолёты не летают. Непрерывный вой ветра. Заглядываю во все двери – тут их не запирают – и в каждом помещении нахожу знакомых. В моем таллинском доме девять небольших квартир, но я знаком лишь с владельцем одной из них, о тех же, кто живёт рядом со мной или этажом ниже, совсем ничего не знаю. А здесь знаешь довольно многих людей, с которыми жил вместе, хоть и недолго, на корабле и в Мирном, которые поселились недавно в соседних квартирах в Оазисе – на 100-й восточной долготе, в Пионерской – на 69-й южной широте, в Комсомольской – на 74-й южной широте, на Востоке – на 78-й южной широте. Знаешь даже тех, чья зимняя квартира в Советской ещё не готова. Море связывает людей – хотят они того или нет – в десять раз крепче, чем, земля, а полярная жизнь, особенна на маленьких станциях, связывает их ещё крепче, чем море.
Но все эти лица, все эти характеры, все эти разные люди с разным отношением к жизни и с более сходным, но всё-таки неодинаковым отношением к труду, люди, у каждого из которых своя осанка, каждый из которых идёт сквозь года своей поступью, – всех их я либо ещё не разглядел как следует, либо они покамест слишком близки мне, чтобы описывать их; изображать и анализировать более тщательно. Антарктида, континент больших расстояний, как бы требует того, чтобы я изобразил здешний народ, отойдя на дистанцию времени, по прошествии которого забудется то, что сперва мне показалось существенным, что маячило где-то на первом плане, но потом исчезло, а осталось лишь то, что является для человека самым значительным, что безусловно свойственно только ему, что выделяет его среди большого коллектива и в то же время связывает с ним.
Порой трогательно слышать, как говорят о тебе на выступлениях: родился в рыбацкой деревне, после окончания начальной школы не смог продолжать учения из-за отсутствия средств, ловил рыбу, пахал землю. Поистине трогательно! Но то, что я не мог ходить в школу, что я учился так мало и безо всякой системы, что у меня нет политехнического образования и, в силу этого, понимания современной исследовательской техники, – это совсем не трогательно, а просто плохо. Сегодня я побывал в доме геофизиков, где Гончаров и Сафронов старались терпеливо и как можно проще и понятнее объяснить мне устройство приборов, предназначенных для исследования космического излучения, определения земного магнетизма, сейсмических измерений и т. д. Ушёл от них с ощущением, что я тёмный человек, который ещё может разобрать цифры на шкале, но смысла этих цифр постичь не в силах. После этого полчаса просидел у собак. Ибо сколь ни поэтична твоя душа, в каких бы высоких слоях атмосферы ни парили твои чувства, но без технического образования и без подлинного понимания техники в Антарктике ты будешь годен только на то, чтоб таскать сани.
Техника, техника, техника – от самой сложной до самой простой. Приборы в тиши помещений. Регистрирующие и передающие дальше сведения приборов на снегу. Дни и ночи гудит электростанция, грохочут гусеничные трактора, «Пингвины» и бульдозеры. Дни и ночи сидят у аппаратов радисты с надетыми наушниками и держат связь со всем миром. Сегодня ночью радист Владимир Сушанский переговаривался с каким-то таллинским радиолюбителем. Далёкое перестаёт быть далёким. Но тут же, пригнувшись и тихо притаившись за складами, расположилось здание, где техника самая что ни на есть деревенская. Это свинарник. В отличие от всех свинарников в истории, в его сенях живут четыре пингвина. А внутри аккуратные загончики, и в них – упитанные розовые свиньи разного возраста. Из-за спины одной матки выглядывает шестёрка полугодовалых черно-пёстрых поросят.
28 января 1958
Сильный ветер, все бушует и бушует буря. Летом в Мирном не обойтись без ватника, шерстяных носков и тёплого белья. Самолёт, правда, вылетел сегодня в Оазис и даже приземлился там, но не было смысла отправляться с ним. От аэродрома, на котором он выгрузил свой груз, до станции пешком не добраться. И на Восток, где я мечтаю побывать, тоже давно не летают самолёты, – даже те, которые закреплены за тамошней станцией, ещё стоят в Мирном. Антарктика требует терпения. Я налетал здесь четыре тысячи километров, и возможно, что этим дело и ограничится. «Кооперация» выходит в обратный рейс, а с каждым полётом связан риск застрять где-нибудь и тем самым остаться тут на зимовку.
Как различны люди! Сегодня утром один временный участник третьей экспедиции, с которым я приплыл сюда и поплыву обратно, долго спорил с начальником складов Шакировым. Он уже дня два как вынашивает план остаться тут на зимовку и даже подыскивает себе мысленно место. Где устроиться? У метеорологов, у гляциологов, у геофизиков или в каком-нибудь другом отряде? По своей профессии он может пристроиться к кому угодно: ни один отряд на этом ничего не проиграет и не выиграет. Желание зимовать объясняется проще простого: суточными. И сегодня утром он был настолько неосторожен, что начал рассуждать о том, как их заработать. Оказывается, вот как. Он себе интеллигентно посиживает в комнате. Более того, он начинает переводить с английского языка – ведь ему, как участнику экспедиции, будет легче, чем другим, опубликовать свои переводы в Москве. И даже ещё лучше: имеется один сенсационный французский романчик, бестселлер, вполне, как я понял, порнографический. Для перевода ему требуется месяц. Он перевёл бы его не для издательства, а просто-напросто для себя и для своих друзей. Для этого ему требуется месяц, в течение которого ему платили бы антарктические суточные.
Шакиров слушал его, все более ощетиниваясь.
– Тысячи!.. – сказал он наконец.
– Какие тысячи? – раздражённо спросил мечтатель, округляя свои большие, по-женски красивые глаза.
– Тысячи придётся платить государству за перевод этого борделя для личного пользования, – ответил Шакиров.
Мечтатель, шокированный грубым выражением, начал что-то говорить о политической нейтральности литературы, о том, что культурный человек даже в Антарктике не должен терять своих культурных, сугубо французских интересов, и о том, что раз уж он попал в Антарктику, то пусть ему и платят как полярному исследователю.
Шакиров вспыхнул словно трут. Прибегая порой к выражениям не совсем литературным, он объяснил, что миллион складывается из рублей, что государство, отпускает средства на экспедиции не для того, чтобы в их состав включали охотников за длинным рублём. Он сказал о том, как надо работать в Антарктике, о том, какая каша может завариться здесь, в самом Мирном, из-за пурги, скорость которой иногда доходит до тридцати пяти – пятидесяти метров в секунду, а потом с той же последовательностью и яростью обрушился на тех, кто рассчитывает жить среди льдов в шёлковых перчатках. Как хозяйственник, хорошо знакомый с калькуляцией, он перевёл мелочность и безответственность подобных людей в рубли, которые придётся уплатить государству, а рубли в свою очередь перевёл в квартиры, в которых могли бы поселиться рабочие. И все вновь и вновь возвращался к переводу французского романа, к переводу «этого борделя». Атакуемый, все более сникая, лишь повторял голосом умирающего:
– Я имею право получать деньги.
Шакиров камня на камне не оставил от этого «права». По правде говоря, мне редко приходилось слышать столь пылкие, столь безукоризненно аргументированные, столь государственные и столь патриотичные, в самом серьёзном смысле этого слова, выступления, как это откровенное выступление Шакирова в каюте прессы. Между прочим, Шакирова характеризуют здесь как очень вспыльчивого, но и как очень трудолюбивого человека. Тех, кто с ним не согласен, он считает своими противниками, то есть противниками его взглядов на человеческие обязанности, на чувство долга перед своей страной и своим народом. Таким лучше держаться от него подальше.
Существует выражение, до предела насыщенное мещанским содержанием – чёрствостью, равнодушием, низостью, стремлением пробивать себе дорогу локтями: «патриотизм персонального оклада». Шакирову явно неизвестно это выражение, тем не менее он целый день объяснял своему противнику, что тому свойствен именно такой патриотизм.
Вскоре «апостол уютной Антарктики» заявил, что он все же вряд ли останется на зимовку. Здесь, мол, попадаются грубые люди, от которых можно услышать неприятные вещи, зима же и вправду может оказаться трудной, так что его, возможно, заставят работать не по специальности, и т. д.
После обеда начальник метеорологического отряда второй экспедиции Кричак сделал доклад о климате Антарктики, опирающийся на данные, собранные второй экспедицией. Роль Антарктики, этого огромного холодильника, в воздействии на климат южного полушария очень велика. Её ледяные рога выступают далеко на север, её дыхание достигает далёких районов океана. Вокруг неё вертятся циклоны и антициклоны, лишь изредка врывающиеся с океанов на материк. Антарктида как бы окружена гигантской и беспорядочной линией фронта, на которой происходят схватки масс тёплого и холодного воздуха.
Но климатическая карта Антарктики ещё неполна, континентальные станции расположены далеко одна от другой, о громадных пространствах не имеется ещё ни метеорологической, ни аэрологической информации. Это оставляет большой простор для споров, гипотез и научных фантазий. В Антарктике пока что много неоткрытого и неразгаданного.
Говорят, что через день-два в Мирный должен прибыть американский ледокол.