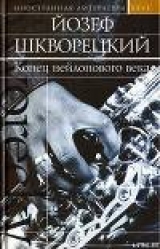
Текст книги "Семисвечник"
Автор книги: Йозеф Шкворецкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Здесь я познакомился с Квидо Пиком, Аликом Мунелесом и Павликом Бонди – набожной троицей: в Праге они ходили в английскую гимназию, были обрезанные и на гектографе издавали журнал «Звезда Давида», который пропагандировал религию среди потомков Моисея.
Эта троица молилась со страстной увлеченностью, – или, по крайней мере, подобную страстность разыгрывала. Каждый вечер перед сном все трое доставали из тумбочек черные шестиуголънички и прикрепляли их ко лбу, пальцы переплетали чем-то похожим на вышитую епитрахиль, смиренно сгибались на своих постелях и принимались истово кланяться на восток, выкрикивая при этом одно за другим еврейские слова.
Черт его знает, может, они просто устраивали спектакль. Скорее так оно и было, но я страстно завидовал богатству и гласности их ритуалов, против которых моя коленопреклоненная молчаливая медитация выглядела бледно.
Особенно усердствовал толстяк Квидо Пик, который также стал главным авторитетом пансионата в вопросах еврейской веры или скорее религиозной практики. От него я узнал о фантастически сложной жизни еврея, опутанного сетью различных запретов, повелений, обычаев, обрядов, молитв и, главное, и прежде всего постов.
О постах толстяк Квидо Пик говорил с особым вдохновением. Он перечислял бесконечность их продолжительности, рассказывал о главном посте года, который якобы тянулся целый месяц: во время этого поста дозволяется есть не более ста граммов мацы утром, днем и вечером и запивать несладким чаем. Он говорил о мясном посте, когда целый месяц нельзя есть мясо, и о мучном, когда можно есть только картошку; о посте жирном, сладком, соленом и целом ряде других образцов религиозного садизма. Я слушал, страстно завидовал и, может быть, именно поэтому не думал о том, что мальчик Квидовых габаритов едва ли может придерживаться всех этих варварских предписаний; не пришло мне в голову, что как раз на летние месяцы не выпадает ни один из этих мясных, мучных или фруктовых постов и Квидо без всяких ограничений набивает брюхо колбасой, мясом и фруктами. Мне же оставался наш единственный убогий католический пятничный пост, который, – хоть я и соблюдал его в пансионате Онкла Губерта так ревностно, что в пятницу практически ничего не ел, – казался мне в сравнении с гаргантюанской голодовкой еврейской веры просто упражнением для начинающих.
Поскольку меня три этих неарийских дервиша прямо-таки достали, я придумал отчаянный план, как их переплюнуть.
Конечно же, над нашим религиозным усердием остальные мальчики – и христиане, и евреи – откровенно насмехались. Среди них особенно выделялся некий Эмиль Голас, сын владельца транспортного агентства из Праги. Религиозный интерес молодых христиан, говоря откровенно, исчерпывался особым состоянием половых органов некоторых еврейских мальчиков, и по настойчивому требованию христиан феномен этот был тайно исследован – ночью в спальне, когда погасили свет.
Я, конечно, в смотре не участвовал, так же, как и Квидо Пик; в тот момент, когда это происходило, а из соседней спальни доносился приглушенный гогот, мы усердно молились, стоя на коленях в своих постелях: Квидо с черным шестиугольником на лбу, который он называл смешным словом цицитл, и я, с образцово сомкнутыми руками и перекрещенными пальцами, взывали к одному и тому же Господу Богу, несогласные лишь в том, кем был его сын, и никто из нас не хотел закончить молитву раньше другого, никто не хотел показаться менее ревностным.
Поэтому часто случалось, что Квидо просыпался утром со своим черным шестиугольником на носу, обмотанный длинной вышитой шабесовой штолой.
Когда я почувствовал, что Квидово хвастовство становится невыносимым, мне пришла в голову одна идея. Мы лежали в своих постелях, изнуренные двухчасовым молением, время близилось к полуночи, и Квидо в полусне еще бормотал о каком-то великом посте, который совершается раз в пять лет и длится семь месяцев; в этот пост чередуются один день совсем без пищи и день только со ста граммами мацы и половиной литра несладкого чая. И в этом уродливом представлении мне засветила вдруг возможность превзойти Квидо: я заявил, что у нас, католиков, тоже есть пост, когда нельзя пить воду, и этот пост длится три дня, и начинается он уже завтра. В течение этого времени, заявил я, никто из христиан-католиков не должен пить ни воду, ни какие-либо другие напитки, содержащие воду: фруктовые соки, например, лимонад, минералку, содовую, а также алкогольные напитки. С завтрашнего утра, заявил я, мне всего этого нельзя пить. Квидо, пораженный, умолк, а я заснул с блаженным чувством триумфа.
Но уже на следующий день стало ясно, что водяной пост окажется делом нелегким. Августовская ночь была жаркой, а когда утром христианские и нехристианские мальчики наливали себе кто сколько хотел из большого кофейного кувшина, стоявшего на середине стола, я, жуя булку с маслом и джемом, испытывал странные чувства. Меня как-то особенно раздражал Квидо, который лопал от пуза, и кофе – чашка за чашкой – с провокационным бульканьем исчезал в его бездонном животе.
После завтрака была легкоатлетическая программа – метание диска, в котором я преуспевал. Я метнул его дальше других мальчиков, но когда в десять часов принесли второй завтрак и с ним большую бутыль газировки в ведерке со льдом, я ушел за кусты, где оказался большой муравейник, и там из кусков своего хлеба устроил муравьям золотой век изобилия.
В полдень мне уже казалось, что больше не выдержу, но я все же решительно отказался от бульона, потому что Квидо рассудил, что бульон – тоже напиток на воде, и мне пришлось это признать.
После обеда полагался двухчасовый сон. Для меня это значило два часа бдения с мучительной жаждой; потом наступила напряженная, страшно долгая вторая половина дня: волейбол и бесконечная прогулка к скалам; день завершился ужином: сосиски с картофельным пюре.
Вы когда-нибудь ели сосиски с картофельным пюре после двадцати четырех часов без единого глотка жидкости? Если нет, то вы ничего не знаете. Я заталкивал еду в себя маленькими кусочками, которые становились все меньше и меньше, но пюре не убывало; все уже отужинали, и Квидо Пик злорадно булькал холодным чаем из стеклянного кувшина, заливался им сверх меры и выпученными глазами следил за моими мучениями.
Заметил их и Онкл Губерт и подошел ко мне с вопросом:
– Ist dir was, Daniel?
Но я гордо заявил, что все в порядке, а потом сказал, что в меня больше не лезет; остатки сосисок я отдал Квидо Пику, который их охотно доел, ибо с таким же уважением относился к религиозным обычаям христиан-католиков, как к своим собственным. Тарелку с пюре я отнес на кухню.
Но худшее меня ждало после ужина. Онкл Губерт объявил, что завтра мы идем на весь день в поход к Скальным воротам, в Грженск и утром каждый получит пакет с сухим завтраком и обедом; вернемся к ужину.
Выслушал я эту весть Иова и отправился в спальню, где провел ночь, полную видений, какие бывают у умирающего от жажды в пустыне.
За завтраком я ограничился несколькими ложечками кислого джема. Высохшее горло не могло проглотить ни кусочка твердой пищи.
И мы отправились.
В этот прекрасный жаркий августовский день нам предстояло пройти километров десять по скалистым тропинкам, которые к десяти часам утра уже накалились от солнечного жара.
К половине одиннадцатого наш отряд выпил всю жидкость из термосов, и мы все чаще останавливались. Вдоль дороги к Скальным воротам было много ресторанчиков, киосков и лотков с освежающими напитками, к которым и арийцы, и неарийцы бросались крикливой толпой и упивались лимонадом.
В каждом таком случае я всегда отходил в сторону, в тень дерева, и сцеплял руки, а когда ко мне приближался Квидо с бутылкой – спросить, не стало ли мне плохо, – я мотал головой и возводил глаза к небу, чтобы он понял: я погружен в молитвы. Квидо каждый раз деликатно удалялся, но сначала шумно, с бульканьем отпивал два-три глотка из бутылки, отрыгивая при этом со староеврейской непринужденностью.
Шипящие газировкой бутылки преследовали меня всю дорогу до Скальных ворот. Там отряд обедал, но я съел лишь огурчик из бутерброда со шницелем. Шницель же поделили Квидо и Алик Мунелес, а распитие лимонада снова загнало меня под ближайшие елочки. Но вместо молитвенной сосредоточенности мною овладели кощунственные мысли и непреодолимое раздражение, по какой-то странной причине направленное против набожного семита Квидо Пика, который к этому великому католическому водяному посту не имел ни малейшего отношения.
После обеда мы отправились в мучительный обратный путь. И снова ряды будок, киосков, ларьков и закусочных, пиво, лимонад, фруктовая вода, газировка; снова вокруг меня лакающие мальчишки. А рядом Квидо – с брюхом, раздутым от углекислого газа из необозримой батареи бутылок, содержимое которых он влил в себя с благочестивым злорадством.
Колени мои начали подкашиваться, от жажды кружилась голова, и я начал отставать. Квидо сопровождал меня, но, как мне казалось, не ради того, чтобы помочь мне нести тяжкий крест христианской веры, а для того, чтобы с еврейской непосредственностью все время спрашивать, не стало ли мне плохо; когда же я заверял его в обратном – мол, я теперь, преодолев телесные потребности, вознес свою христианскую душу к Богу, Квидо начинал красочно перечислять последствия еврейских постов для человеческого здоровья. Он рассказывал о болезнях живота от ссыхающихся кишок, о приступах безумия, когда постящиеся ребе громко кричат о корочке хлеба, о болезнях, вызванных резкой потерей веса или недостатком витаминов. При этом он все время прикладывался к запотевшей бутылке зеленого лимонада, а я набожно вздымал глаза к небесам, чтобы не смотреть на белые фарфоровые пробки еще двух бутылок, торчащих из его рюкзачка.
Все это происходило под горячим, нечеловечески жестоким, безжалостным солнцем, и мне казалось, что среди известняковых скал летают маленькие огненные черти и показывают мне кроваво-красные языки, с которых капают ледяные капли воды. Святой Алоиз, бормотал я, святой Алоиз, ох, святой Алоиз, – но на большем сосредоточиться я не мог.
Это было страдание, действительно достойное католического мартиролога, большее, чем страдания пресвятого великомученика, к которому я в своем страхе взывал. Все теперь уже вертелось перед глазами: небо, скалы, тропинка, деревья в лесу и Квидо Пик, хлопающий глазами и убеждающий себя в необходимости еще раз приложиться к теплой бутылке.
Наконец мы спустились в долину, где в тени сосен стоял старый деревянный трактир – полуселянское строение с коровой, морда которой торчала из дощатого сарайчика, и с двумя рядами деревянных столиков и лавок, вкопанных в землю.
Мальчишки и девчонки сразу же с криком уселись за столы – и я вместе с ними. Из дома вышла толстая пожилая женщина с пятью бутылками газировки и заявила, что сегодня туристы выпили весь запас освежающих напитков, о которых г/гасила вывеска трактира, до последней капли. Но если барышни и молодые господа пожелают, она может принести из погреба свежего молока.
Молоко!
Чертенята, давно прыгавшие перед моими глазами, начали ухмыляться, а Дух Святой нахмурился. Но я уже не думал о Духе Святом. Я жадно ухватился за дьявольскую увертку. Молоко, сказал я Квидо, не относится к напиткам, сделанным из воды. Это естественный продукт коровьего вымени, Божий дар, возникший без человеческих усилий, поэтому на него великий католический водяной пост не распространяется.
И Квидо, прошедший через страшные еврейские посты, согласился со мной.
Молоко! Я налился им до отказа. Перед самым приходом домой мне стало плохо, я раз пять быстро уходил в кусты, теперь уже не ради молитв. Но жажда меня отпустила.
Таков был первый мой религиозный компромисс. Кто однажды поддастся греху, тот начинает опускаться. И я не был исключением. На следующий день, когда меня снова начала мучить жажда, а на кухне молока мне не дали, я пошел в ванную, и там, тайно и обманно, утолил свою жажду из крана. Я глубоко пал – и еще глубже в конце третьего дня, когда за ужином я попросил добавки горохового пюре и завел с Квидо разговор о том, как очистителей пост для тела и души человека, каким чистым и свежим чувствует он себя, исполнив обет, который требует его вера.
Вот так и становится человек религиозным лицемером, а его душа попадает в лапы дьявола.
Так и я согрешил против Бога, который, однако, в бесконечной доброте своей принял, наверное, во внимание невинность ребенка и отпустил мне мою гордыню, а Квидо – его злорадство.
Но только Он один знает, отпустил ли. И только Он знает, действительно ли Квидо так же ревностно молился и потом, в терезинском гетто, где для меня кончаются следы его жизни.
Но такова Божья воля, а человеку не подобает углубляться в тайную волю Создателя.
– Ты совершеннейший поп, Даничка, – сказала Ребекка и задумалась. В окно по-прежнему бубнил дождь. Потом она снова заговорила: – Но эти бедные дети – что их ждало? Ты ничего не знаешь, а я прошла через все это. – Она задрожала: – Как ты говорил? «Лучше было тем, кто уже мертвый». Как-то так? Нет, когда я вспоминаю об этих детях – и об этих печах…
А я вспомнил еще один случай…
Мифинка и Боб Ломовик
В большой трехэтажной вилле возле нас жили два брата Лёбла. У третьего брата, Роберта Лёбла, за городом было крупное поместье, где выращивали хмель; этот Роберт ходил в грязных сапогах и ездил в город на бричке, вонявшей навозом. Его называли Мочилёбл.
Второй брат, Арно, держал оптовую торговлю скотом и мясную лавку на главной улице и был известен под именем Мясолёбл; у него был сын Роберт, почти двухметровый детина, который посещал торговую академию. Роберт отличался интересами и склонностями, настолько характерными для южночешского поземельного крестьянства, что уже с раннего детства утратил облик сынка из состоятельной еврейской семьи и ничем не отличался внешне от челяди своего дяди Роберта. У Мочилёбла же была дочь, которую звали Мифинка, – длинная тощая угреватая девица, она училась в частной школе, в местечке. Чтобы не ездить каждый день в школу из поместья, расположенного в двадцати километрах от местечка, она жила у своего дяди Мясолёбла.
Третьего брата звали Моше Сучилёбл.
Никто не скажет, что дела у него шли плохо. Когда-то он торговал ценными бумагами, но давно. С тех пор он ничем не занимался – в этом не было необходимости, ибо он достаточно накопил и в обращении с деньгами не отличался строгой целесообразностью. Высокий элегантный мужчина с бледным еврейским лицом, большие губы цвета запеченного до румянца банана, замусоленного слюной. Он отличался какой-то странной походкой – боком, а когда сидел за столиком в кафе, его пальцы с рыжеватыми волосками мелко подрагивали. Мясолёбл, строгий ортодоксальный еврей, которого никто никогда не видел в лавке по субботам, не одобрял образа жизни своего брата. Тот был атеистом, и временами летом, когда все окна в доме были открыты, мы слышали его резкий, скрипучий смех и ветхозаветно гневный голос Арно Мясолёбла.
Разнеслось известие, что силач Роберт Лёбл, Боб Ломовик, как его называли в кругу спортивных молодых людей, вот-вот попросит руки угреватой Мифинки. Каких-либо признаков этих особых отношений не замечалось, разве что Боб по собственной воле проводил в доме своего дяди Роберта почти каждое воскресенье, а также весь Праздник жатвы. Кроме субботы, потому что шабат в доме его отца был не словом, а делом.
Боб Ломовик особой набожностью не отличался. Когда в наше местечко приезжала борцовская труппа, он, надев черную маску, играючи победил Рандольфи, чемпиона Европы, и Паноху, чемпиона мира во всех весовых категориях, так что борцы стали избегать нашего местечка.
Но имелся у Мифинки еше один поклонник – бледный и тоже угреватый Арноштек Лем, ариец с красивыми семитскими чертами лица, сын владельца единственного в местечке торгового дома. Арноштик и Мифинка были постоянной парой на танцах, иногда их вместе видели на центральной улице. Время от времени Мифинка устраивала праздник в саду при вилле своих дядей Арно и Моше, и тогда рядом с нею сидел в тени яблонь и черешен с одной стороны Арноштик Лем, а с другой – ее кузен Боб Ломовик.
Шепотом говорили, что вовсе не любовь притягивает угреватого Арноштика к угреватой Мифинке, а всего лишь непреодолимая стыдливость перед особами другого пола, которая исчезала только вблизи Мифинки. И в этом ничего странного не было, ибо Мифинка, если и была женщиной, то абсолютно без вторичных половых признаков, зато ее верхняя губа несла на себе вполне отчетливые мужские усики.
Как-то раз, еще давно, отец послал меня к Моше Сучилёблу со срочным письмом. Я перемахнул через забор, разделявший наши сады, погладил по голове ласкового бульдога Перелеса и поднялся по мраморной лестнице виллы на третий этаж. Там я приложил ухо к двери из красного дерева и прислушался. Изнутри доносились женский смех и скрипучий голос Сучилёбла. Я позвонил, и после приглушенного шепота и хихиканья дверь отворил сам Моше Сучилёбл, весь красный и возбужденный, а когда я пробормотал что-то о своем поручении и вручил письмо, он взял меня за руку и втащил в квартиру.
В комнате на диване сидела полная женщина в зеленом шелковом халате, раскрытом на обширной груди, и было понятно, что никакой другой одежды на ней нет. На стенах висели большие картины, от которых у меня захватило дух. В золотых рамах сверкали на темном фоне розовые женские тела с сосками, похожими на большие круги печатного воска, а кружевные шторы, закрывающие французское окно комнаты, еще более углубляли полумрак, отчего розовые тела светились только ярче.
– Пан Даниэль, наш сосед, – весело представил меня Моше Сучилёбл и толкнул на диван рядом с пышной дамой.
– Как дела, молодой человек? – певуче спросила на, громко чмокнула меня, потом забросила ногу на
ногу, открыв не только туфельку с большим пуховым шариком, но и массивное белое бедро, которое поспешила прикрыть халатом, убедившись сначала, что я пялюсь на ее ногу во все глаза. – Вы посмотрите на этого юношу! – воскликнула она. – Смотрите не ослепните, молодой человек!
Моше Сучилёбл подал мне граненый бокал с золотисто-красным вином.
– Ваше здоровье, пан Даниэль! – произнес он; дама тоже взяла бокал, мы чокнулись, и я, сгорая от смущения, в замешательстве выпил до дна.
– Вы любите женщин, молодой человек? – спросила дама.
Я вспыхнул, но ничего не сказал.
– Конечно же! – добавил Моше Сучилёбл. – На прошлой неделе я видел, как он совращал одну в парке.
Он имел в виду некую Алису, дочь портного; ее косички, пахнущие розовым маслом, действовали на меня тогда совершенно эротически.
Я снова покраснел.
– Вы ее любите? – спросила дама.
– Нет, – хрипло ответил я.
– Но за ее здоровье выпьете? – Она снова наполнила бокалы из бутылки с заграничной этикеткой. В том же смятении я снова выпил до дна и почувствовал, что мне уже достаточно.
Она уже начинала мне нравиться.
Потом женщина обняла меня и прижала к своим податливым грудям; помнится, я выпрашивал у нее поцелуй; она долго хихикала, скрипуче смеялся Моше Сучилёбл, а потом она меня поцеловала. Помню еще холодный душ в ванной, где я стоял голый и нисколько не стеснялся этой пышной дамы, которая губкой терла мое лицо и тело, а халат ее при этом распахивался по всей длине.
Домой меня – с ужасным похмельем – отвела наша старая домработница. И ночью, когда я лежал в постели, слышались мне в полусне звонкий смех этой дамочки и скрипучие звуки из горла Моше Сучилёбла.
Боб Ломовик, хотя и старше меня на семь лет, был моим товарищем и защитником. В буковом лесу, где стоял охотничий домик, его избрали царем ацтеков, и он в этом звании водил наше войско в длительные, но не кровавые войны с испанскими конкистадорами из Гадрниц, которые вопреки истории закончились абсолютным поражением Конкисты и изгнанием пришельцев из букового леса вокруг местечка К.
Боб Ломовик во время этих событий вооружался томагавком из старой хоккейной клюшки, разрисованной акварельными красками; на голову натягивал повязку с крашеными гусиными перьями, а на груди его, за подтяжками с картинками самолетов и автомобилей висел главный элемент его экипировки, предмет зависти всего ацтекского войска – металлический панцирь с привинченной медной пуговицей посередине.
Этот блестящий жестяной панцирь, который так царственно возвышал грудь Боба, был взят из имущества его дяди Моше Сучилёбла, в холостяцком хозяйстве которого он первоначально служил грелкой для облегчения желудочных недомоганий бонвивана.
Но все это было очень давно; после моего приключения с пышной дамочкой я все чаще заводил в присутствии Боба разговор о дяде Моше и даже возненавидел Боба за его равнодушие к этой теме. Боба же гораздо больше интересовала стельность коров в имении дяди Мочилёбла, чем любовница второго дяди, Моше, так что я ничего не выжал, кроме куцей информации о том, что дядя Моше – распутник и у него сифилис. Так, по крайней мере, сказал Боб, и я далеко не все понял. Потом он мне сказал еще, что его отец Арно разорвал с Сучилёблом всякие семейные связи. И мотивы были очень серьезными…
Ибо Арно Мясолёбл был человеком строгим и «старозаконным». Он обычно стоял в белом фартуке у витрины мясной лавки, здоровался с прохожими, заводил разговор с постоянными клиентами, а глаза его постоянно следили за всем происходящим в лавке. Магазин был вполне современным: белый кафель, хромированные крючки для мясных туш, в задней части – огромный застекленный холодильник, где можно видеть розовую ветчину, перевязанные шнуром жирные колбасы и копченые окорока. Здесь хватало всего, в том числе и свинины: в строго гигиенической витрине цинично улыбались вымытые головы поросят с лимонным кружочком в рыльцах. Но в левом углу была в магазине особая стойка, где продавалось только кошерное.
Арно Мясолёбл был уважаемым человеком в синагоге, и когда я в старой еврейской школе прислушивался к вечерним молитвам, то четко различал его жалобный голос, которым он строго и укоризненно взывал к своему Богу.
Летом Моше Сучилёбл обычно ездил на Французскую Ривьеру, а на зиму – в Париж. У нас он пребывал главным образом в конце лета и осенью. Однажды он оставался за границей особенно долго, а когда вернулся, по местечку разошлось, что в Париже он ложился на операцию к самому Воронову.
Звучало довольно таинственно. Я спросил у Боба, с какой болезнью связана операция, которую делал Воронов, но Боб Ломовик хмуро ухмыльнулся и сказал, что дяде вживляли обезьяньи железы. Спрашивать дальше я постеснялся.
В эту зиму Сучилёбл остался в местечке, и, когда я морозными днями после обеда следил от скуки за воробьями в саду Лёблов, устав от уроков, которые у меня в этот день не получались, я часто видел на ведущей к вилле заснеженной дорожке длинноногих дам в шубках. Их привозил черный лимузин, на нем же Моше иногда ездил в Прагу. Той же зимой, в сезон карнавалов, разразился скандал, связанный со студенческим союзом «Бром» и с садовой беседкой спортивного зала, где проводился карнавал.
Главную роль, кажется, сыграла в нем некая Кристина Губалкова, дочь академического художника, картины которого украшали общественные здания местечка и салоны частных собирателей. Он рисовал натюрморты, напоминающие вывески гастрономических магазинов; обнаженную натуру, похожую на пластилиновые статуи, и портреты, которые очень нравились гражданам местечка, ибо человек на них смотрелся как после длительных визитов в салон красоты.
Эта Криста Губалкова, веселая девушка с ямочками на щеках, заядлая теннисистка и королева красоты всех балов текущего года, возбудила, очевидно, в обновленном нутре Моше Сучилёбла нежные чувства. Беспардонно пользуясь своим преимуществом, она в карнавальную ночь заманила старика, которого терзали обезьяньи железы, в беседку спортивного комплекса, где с помощью высокопрофессионального кокетства принудила его к действиям поистине патетическим. Все это она делала вовсе не по какой-то своей испорченности, не из стремления к развлечениям, которые бывший маклер мог бы ей предоставить, а исключительно на потеху толпы гимназистов, которая пряталась под открытыми окнами беседки. Когда Моше Сучилёбл начал бросаться на Кристу в ее белой шубке, а потом, отвергнутый, театрально пал на колени, обещая брильянты и поездку на Французскую Ривьеру, в окнах беседки вдруг появились серьезные лица над смокингами и белыми манишками, и мужской хор в тихой ночи запел предостерегающий хорал на мотив известной песни «Соня, Соня, одна ты у меня»:
Жиде, жиде, вары, вары, вары!
Даже с Вороновым ей ты не подарок.
Стыдно, дедка, ты уж слишком старый,
Брось таскаться иль пойдешь на нары!
На несчастного Моше обрушился град снежков, и он, подпрыгивая и смешно, боком вперед, хромая, бежал. Во фраке, без цилиндра, через все местечко, до самой мраморной лестницы своей загородной виллы.
Это и стало его концом. Он прекратил не только посещать балы, но и свои поездки в Прагу, и по местечку быстро разнеслась весть, что он тяжело болен.
– Третья стадия, – сказал за обедом матери мой отец, и я уже знал, что это такое, хотя и не очень определенно.
Но у местечка в то лето на языках была уже другая тема. Арноштик Лем, угреватый наследник крупного торгового дома, попросил руки Мифинки, но получил отказ. Говорили, что главной причиной была вера и решающее слово при сватовстве произнес Арно Мясолёбл. Мочилёбл, который на своей вонючей бричке спешно прибыл в местечко, был якобы не против, но хриплый невыразительный голос маленького селянина не мог соперничать с Моисеевыми аргументами достопочтенного мясника. Рассказывали также, что папа Лем очень рассердился и высказался в том смысле, что, очевидно, кровосмесительство пахнет для этих вонючих евреев так же приятно, как и моча, в которой перед шабесом купается его племянник, и что он, коммерсант Лем, благодарит Бога за то, что Арноштик не попал в сети этой семьи, где один уже разлагается от разврата, а остальные вот-вот дойдут до кровосмешения…
Действительно ли так беззастенчиво высказался папа Лем или красочность его высказывания следует приписать фантазии местечковых сплетниц, история умалчивает. Несомненным было лишь то, что Арноштик перестал быть гостем на Мифинкиных садовых праздниках, а сама Мифинка ходила какое-то время по городку с заплаканными глазами.
А тем временем старый Моше Сучилёбл разлагался от разврата.
Около десяти часов вечера из его комнаты начинали раздаваться жалобные причитания и стоны, которые доносились через выходящее в сад окно ко мне в спальню, даже если оно было закрыто. Сначала звучал протяжный, долгий вой, который затем распадался на отчаянное «ай-йаай-йай-йай-ай!», потом два, три, четыре часа длилось монотонное причитание – иной раз до самого рассвета, когда он, обессиленный, затихал с почти детскими стонами. Но до последнего момента каждую минуту, снова и снова, из него вырывалось болезненное и отчаянное «ай-йаай-йаай-йай!»
Моя светловолосая сестричка приходила к завтраку с кругами под глазами, жалуясь, что ночью ни на минуту не может заснуть. Это ужасно, жаловалась она, почему этого человека не отвезут куда-нибудь; но Моше Сучилёбл оставался и продолжал разлагаться в своем мраморном доме. Где-то в конце второй недели я вдруг ночью услышал из ее комнаты истерический плач. Потом – стук двери, и из коридора донесся голос: сестричка рыдала, заикаясь от ужаса; затем я услышал глухие голоса отца и матери – они ее успокаивали, – и снова истерические судорожные всхлипы.
Но Моше Сучилёбла никуда не увезли. Так и дострадал он среди своих розовых картин до позорной смерти. Тянулось это почти полгода, и каждую ночь звучали монотонные, все более пронзительные стенания – над кронами садовых деревьев, сквозь запах черешневого цветения, в легком дуновении августовской ночи. А потом, когда в саду начало пахнуть яблоками, его крик раздался в последний раз – самый отчаянный и болезненный, потом он затих и исчез.
«Перст Божий», – шептали местечковые дамы, однако в извещении, которое появилось на следующий день после смерти Моше Сучилёбла, о нем говорилось как о дорогом брате и дяде, который усоп после долгих страданий и будет похоронен на новом еврейском кладбище в К.
Были торжественные похороны, и на свежую могилу поставили деревянную табличку с непривычным именем Моисей Лёбл, которую должен был сменить большой мраморный памятник. Но этому уже не суждено было случиться…
Потому что в один из летних дней следующего года сняли вывеску над мясной лавкой Арно Мясолёбла и заменили ее другой, с именем арийца Гюнеке. В один из летних дней Роберт Мочилёбл перебрался в виллу своего брата, потому что имение перестало быть его собственностью. В другой из дней обе семьи оставили виллу и перебрались в старую школу на Еврейской улице. В вилле братьев Лёблов, в покоях с розовыми актами в золотых рамах, обосновался герр регирунгскомиссар[22]22
Регирунгскомиссар – окружной комиссар национал-социалистической партии.
[Закрыть] местечка Хорст Германн Кюль.
И в это же время произошло странное второе сватовство Арноштика к Мифинке.
Я был свидетелем лишь его несчастливого завершения и бесславного ухода панов Мочилёбла и Мясолёбла через сад Лемов. Возвращаясь на велосипеде с репетиции недавно организованного джаз-бэнда, я видел, как разъяренный красный пан Лем кричал им вслед:
– Теперь вам и христианин хорош, да? Жиды вонючие!
Оба еврея с поднятыми воротниками темных пальто спешили прочь, а пан Лем повернулся и затолкнул внутрь ошеломленного Арноштика, который вместе с ним вышел на веранду.
После этого Арноштик был отослан на практику к деловому партнеру пана Лема в Брно.
Рассказывают, что сразу после этого события пана Лема навестил преподобный пан Мелоун, и служанка в кухне слышала злобный голос своего хозяина – он рявкал на священника:
– И вы, преподобный, вы влезли в это дело?
Потом спокойный, но явно напряженный голос священника:
– Правильность или неправильность записи в брачном свидетельстве не докажет никто. Это можно было сделать.
И в ответ визгливый крик хозяина дома:
– Но ведь это обман, господин священник! Обман!
И потом гневный голос почтенного пана Мелоуна:
– Обман, мой дорогой, может в определенных обстоятельствах способствовать христианскому милосердию!
Об этом говорили шепотом. Человеческая фантазия, конечно, безгранична. Но шептались о сговоре, который должен был спасти Мифинку от той судьбы, которая перед нею уже ясно вырисовывалась; о сговоре, подобном тому, что сохранил жизнь толстому Бенну Огренцугу, который – возможно, в последний момент – взял в жены арийку Анку Воценилову, служанку в доме Огренцугов. Но участники этого сговора, если вообще таковой был, уже либо мертвы, как мертвы свидетели Кукушки, либо сидят в тюрьме как коллаборационисты, либо хранят тайну исповеди, так что правду уже никто не узнает.








