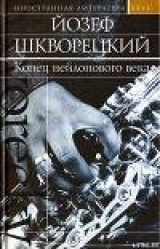
Текст книги "Конец нейлонового века"
Автор книги: Йозеф Шкворецкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
И тут Роберт прореагировал, но довольно неожиданно:
– Не пытайся, парень, не пытайся, я тебя прошу. Слышишь?
– Что? – поразился Сэм.
– Сам знаешь. Не надо передо мной разыгрывать из себя прогрессивного.
– Но я…
– Я не собираюсь тебя выдавать, не бойся. Такого с ним еще не было. И, в конце концов, всякому терпению есть предел.
– Я вовсе этого не опасаюсь, Роберт, – произнес он в манере киношного героя. – И ни к чему я не подмазываюсь.
– Не надо трепаться.
– Не собираюсь трепаться, Роберт.
Глаза Роберта светились злобой партийного активиста.
– Знаю-знаю. Ирена тоже считает тебя прогрессистом. Но я прекрасно знаю, что за этим кроется.
– Плохо ты знаешь, – терпеливо-элегично ответил Сэм.
– Нет. Хорошо знаю. Таких, как ты, – пруд пруди. Но хотелось бы знать, что бы ты делал, если б… Если б вернулись старые порядки.
– Ничего б не делал, – ответил Сэм. – То же, что и сейчас. – Он наперед знал, что этот разговор ни к чему не приведет, как и все предыдущие. Но приступ ревности толкал его к иронии. И он сказал: – Или стал бы коммунистом и подрывал авторитет властей.
– А что тебе сейчас мешает?
– Стать коммунистом?
– Ну.
Сэм рассмеялся.
– Могу сказать, но тебе это покажется притянутым за уши.
– А ты скажи.
– Ну так вот, – начал Сэм, поколебался мгновенье, потом продолжил: – Понимаешь, моя трагедия в том, что умом я – на стороне прогресса, но чувствами я – не ваш. Или, говоря иначе, нет у меня чувственного отношения к той форме прогресса, какая сейчас воплощается. И у меня нет своего мира, как у тебя. – Он посмотрел на Роберта, который слушал с непроницаемым лицом. – Или как у Гарика Метте, которого ты выгнал из Института. Его мир – на другой стороне, и Гарик никогда в нем не сомневается.
– Так, значит, – ухмыльнулся Роберт, – твоя прогрессивность – не от мира сего?
Сэм рассмеялся:
– Отлично сказано! Понимаешь, мне бы жить в Америке и иметь на шее неамериканский выбор или… Но здесь… – Сэм сделал паузу. – …здесь в большинстве коммунисты и…
– Что?
– И зло. – Он призвал свою старую добрую иронию. – Зло здесь удручающе бессильно.
Он посмотрел Роберту прямо в глаза и осекся. Закрой рот, Ватсон, зачем ты ему это сказал? Зачем… Роберт тем временем заговорил фамильярно и назидательно:
– Если тебе так хочется бороться со злом, то его еще хватает. Революция продолжается…
– В том-то и суть. Я революцию представлял себе иначе.
– Думаешь, имеет значение, как ты ее представлял?
– Пожалуй, нет.
– Ты еще увидишь ее во весь рост.
– Мне еще… – (Закрой рот, Ватсон!) – …очень бы хотелось знать, как большинство этих революционеров, которых я знаю, ну, этих митинговых борцов, – как бы они делали революцию, если б по ходу дела немножко стреляли.
– А мне хотелось бы тебя увидеть в той ситуации, – ядовито сказал Роберт.
Тебя, Ватсон? А действительно, что бы он делал, если б стреляли?
– Слушай, – начал он. Но тут в зеркале напротив появились танцовщицы, спешили в зимнюю ночь на следующее выступление. На кисейные костюмы были наброшены шубки под леопарда или под каракуль, в руках – балетки на длинных лентах. – Все это глупости, сказал он себе. Все это – черным по белому – совершенно ординарно: буржуазия, и пролетариат, и партия, и беспартийные, и политика, и красивые девушки, и жизнь, которую, при всей ее бессмысленности, так приятно проживать. Существует лишь одна проблема, и какой смысл рассуждать о ней с этим бараном Гиллма-ном. Одна проблема: как устроить, чтобы прожить жизнь получше.
Ему стало легче: он как-то выровнял все это в голове и видит ясно. Видит и Роберта Гиллмана, супруга Ирены, единственной и самой умной, – этого строителя светлого будущего, с его волосатыми руками, которыми он ее касается, и пухлыми губами, целующими ее в самые сокровенные места, – и перед этим Сэм был совершенно бессилен, и все снова стало на свои места.
– Или вот так: «Ты как стяг наступающих войск, губы твои словно роза Шираза», – говорил он с прикрытыми глазами, неестественно ущемленным голосом, а ей было скучно. Делая вид, что слушает, она поверх его плеча рассматривала танцующих девушек. Он не переставал болтать, решив почему-то делать ей комплименты на такой манер, какой, он знал, ей всегда нравился. Но он не знал, что сейчас она не в настроении их слушать. Он декламировал поэтов, Библию, Соломона, Бодлера и разных англичан, из всего по кусочку, а она в это время думала об Иржинке: как та пыталась ее расстроить убого придуманной интрижкой Сэма и как, собственно, жаль, что ее уже ничто не может расстроить или ранить. Противно все это. Да и жаль ей было Иржинку, потому и подыграла она ее театрику, сделав вид, что рассказ больно задел ее, но кто знает, достаточно ли ей этого для счастья? Нет, пожалуй. А может быть, и да. Но ей самой все равно, абсолютно. Зачем этот Монтислав так трещит? Оркестр играл буги, и он под этот ритм снова что-то декламировал, какие-то стихи, английские, непонятные. Она резко прервала его:
– Монти, чем ты сейчас занят?
– Смотрю на тебя.
– А еще?
– А еще думаю о тебе, – протянул он голосом какого-то актера, имени которого она не могла вспомнить.
– А когда не думаешь обо мне?
– Тогда сплю.
– Как это мучительно! – заметила она. По сути, он говорил то же, что и Сэм, и почти так же, как Сэм. Или как Педро. Наверное, она оставляла что-то от себя во всех своих поклонниках или, пожалуй, они быстро проникали в ее любовь к красивой речи, к поэзии и потом старались. И Монти почти так же готов быть для нее джинном из бутылки, как и Сэм. Но она выбрала Сэма. Он милашка. Дурачок, правда. Нет, дурачок скорее Монти. После той молоденькой девушки на балконе ее все еще томит сожаление. Жизнь – passe. No pasaran. Объект минования. Welcome на виселицу.
– Прочти мне стихотворение, Монти, – попросила она.
– Какое?
– Что-нибудь о тщетности.
– Омара Хайяма?
– Пожалуй.
– Так…
– Или нет. Лучше то из «Контрапункта».
– «Контрапункта жизни»?
– Да-да. То, что ты всегда читаешь.
– Так я его читал только что!
– Ну еще раз.
– Хорошо.
Она прикрыла глаза. Ей хотелось остаться молодой девушкой, но не осталась. Хотела стать балериной, а получила болезнь сердца. Хотела получить в мужья блестящего американского господина, а приобрела Роберта Гиллмана. Хотела устроить себе виллу с кафельной ванной, а живет в маленьком доме у родичей. Хотела побывать в Африке и в Китае, а на каникулы ездит в Тополов. Хотела блестящих, интересных вещей, но ничто ей не интересно. Монти, аффектируя, начитывал под «Boogie-Woogie Prayer» Аммонса:
Oh wearisome condition of humanity!
Born under one law, to another bound.
Vainly begot, and yet forbidden vanity.
Created sick, commanded to be sound.[14]14
Первая строфа «Священного хорала» английского поэта-романтика Фулка Гревилля (1554–1628):
О, этот тусклый человеческий уделМеняться от закона до закона,Родиться в боли от чужих тщеславных дел?И править бал без жалобы и стона.
[Закрыть]
Пани Ирену Гиллманову, прекрасную молодую пани Ирену Гиллманову из Либня томила – среди развлекающейся толпы на американском балу – тщета.
Он ждал полуночи. Глазами подталкивал стрелки часов, чтоб скорее пришло утро и можно было идти домой. Присутствие этого типа его раздражало, у него чесались кулаки, и он чувствовал, что может что-то сделать с ним, если они вовремя не уйдут. Он ненавидел его путаную болтовню, его смешение марксизма и революции с эротикой, фрейдизмом и прочей ерундой, чтоб скоротать время; да и все остальное в нем: от бачков до модного смокинга – вызывало отвращение. Ирена заслуживает обыкновенной порки, и вообще, решил он, хоть и запоздало: пора кончать! Пусть она считает его дураком, пусть все не так просто – он сам понимает, но как бы у них с Иреной ни складывалось, в любом случае ее поведение – супружеская измена. И точка. Жить так он больше не может и не хочет. Пусть Ирена прямо скажет, чего хочет она, – и потом он будет действовать… Когда он дошел до этого места в своих решительных размышлениях, снова включился его коварный, насмешливый внутренний критик. Где уж тебе, приятель, – ты будешь по-прежнему тащить эту муть в себе – всегда и всюду, притворяясь, что ничего особенного не происходит. Ты сидишь в этом, как те получеловеки у Сартра; где-то что-то треснет, и ты придешь в ярость, Ирена тебя успокоит или же просто ледяным холодом заставит молчать – и continuons![15]15
Здесь – и все пойдет по-прежнему (фр.).
[Закрыть]
Жесткий императив этой отвратительной игры какое-то мгновение сидел в его сознании. А потом он заорал самому себя, собственной душе: Нет! Нет, черт побери! Он выгонит его из дому, этого жалкого Геллена, а Ирену строго накажет, он останется настоящим марксистом, здоровым, принципиальным большевиком. Но решимость его взметнулась фейерверком и так же быстро погасла, он уже ни в чем не был уверен, сознавая, что в этой ситуации никогда не будет настоящим большевиком; все это промелькнуло в какую-то долю секунды, как кошмарный сон.
Что же это такое, черт возьми? Что с ним происходит? Он пытался читать книги соцреалистов, смотрел спектакли на производственную тему, но когда не нужно было защищать их от сарказма реакционной литературной критики, вынужден был признавать – и признавался самому себе, хотя и не совсем уверенно, – что это искусство ему не особенно нравится. Он был в восторге от Маркса, в еще большем – от Энгельса, от их полных презрения и ненависти, мужественных, блестящих, логически четких формулировок: «Вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить вашу собственность. Да, мы действительно хотим это сделать». Всякий раз на этом месте его продирало приятным морозом по коже. «Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет». Просто, как «Логика» Аристотеля. И такие великие, прекрасные, классические слова: «Пусть же господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих оков. Приобретут же они весь мир». Именно это он читал, именно это придавало ему сил, именно это сделало его большевиком. А в тех пьесах, в тех романах хотя и слова произносились почти те же, но… Что-то из них улетучилось, нет? Слово «революция» в текстах Маркса звучало, черт его знает, как-то совершенно иначе, нежели слово «революция» на сцене Реалистического театра. Он вспомнил, как впервые прочел «Манифест» в уголке склада за лавкой; его дала ему тетя Эстер, которую от Терезина спас брак с одним из Гелленов, который до свадьбы жил в основном картами и спекуляцией. Она была тогда красивой черноглазой еврейкой; его собственный отец, антисемит от рождения, презрительно называл ее салонной большевичкой; возможно, такой она и была. Явно не бедная, по-чешски говорила плохо, но вот потянуло ее на марксизм; она дала ему эту брошюрку, и он, одуревший от гимназии, от своих страшных, тайных мыслей, что фашисты правы, прочел ее на перевернутой бочке, сидя на ящике с гвоздями.
Сейчас Ирена вылетела из его головы, несчастье закрыло глаза перед приятным светом воспоминаний о радикальном чуде его жизни – проблеме национал-социализма. Он, ученик седьмого, потом восьмого класса гимназии, читал тогда статьи и статистику в «Сигнале». Читал брошюрки об Америке. Странную книгу «Земля без Бога» – как-то так она называлась – нацистского автора, но говорилось в ней о бедности безработных и о набобской роскоши господствующих кланов. В одной из глав было интервью с рабочим из Южной Каролины. «Свободная конкуренция? Демократия? – заявлял тот рабочий. – Я не верю в это. В мире есть системы получше». «Он имел в виду коммунизм, – добавлял автор, – но после этой войны он поймет, что коммунизм – такое же зло. После этой войны он поймет великую правду национал-социализма». Он читал, и ему явно не хватало аргументов. Города из жестянок, хищничество монополий, кризисы, необеспеченное будущее, чудовищные контрасты нищеты и сверхприбыли, совершенно абсурдное сжигание пшеницы, уничтожение яиц – все это правда. Его раздражало, что противопоставить этому он мог только свое инстинктивное ощущение их, нацистов, неправоты. И только. В конце концов, уже тут гораздо лучше та крикливая, неупорядоченная демократия, чем Новый Порядок. Он мало тогда знал о концлагерях, был избалованным сосунком и не понимал, что это такое. И потом: большевики допускают зверства, – говорил отец еще перед войной, а он резко не принимал нацизм. Демократия лучше по своей сути! Стократно. Это как раз то противоречие двух миров, которое описал Чапек в «Адаме Творце», в той сцене с памятником. На одной стороне приказ: «Смирно! Немедленно! Поднять! Положить!», а на другой – пререкания: «Черт побери, подними это, подожди, шевелись, не туда». И второе – лучше, потому что здесь люди, а там куклы. Но куклы накормленные, довольные, обеспеченные работой и отдыхом – ехидно нашептывал шут, живущий в его мозгу. Лучше быть голодным бродягой, чем сытым рабом, – упрямо отвечал он. Но эти люди Чапека роются в мусорных ящиках; их, умирающих от голода, питают любовницы своим молоком из груди. И все же – нет, нет, нет! Все равно демократия лучше! Да здравствует демократия! О демократия, та femme! А. что она дает безработным? – спрашивал тот же голос. Роберт приходил в ярость. Он ходил по улицам и ловил себя на двойственных чувствах к немецким солдатам. Они – отвратительные, проклятые оккупанты, но вот эти, без наград, в грубых солдатских ботинках, поют по вечерам сентиментальные песенки о Лили-Марлен… Нет-нет, они противны ему. Он ненавидел их. Немцев. Фашистов.
Роберт Гиллман, стоя у перил мраморной лестницы в «Репре», улыбался себе прошлому. Он тогда был маленьким животным. Изнеженным буржуазным отпрыском, перекормленным лакомствами, которому в наследство от неудачника дяди-учителя досталось обостренное чувство социальной справедливости. Ничего он толком не понимал. Концлагерь представлял себе как обыкновенную тюрьму, куда до войны сажали хулиганов, и в своей буржуазной ограниченности, в своем эгоизме дошел до того, что чуть не начал верить в Новую Европу и в национал-социализм. Сейчас, через призму лет, хотя это было и не так уж давно, ему видится тот полуфашистский Роберт Гиллман совершенно иначе. Его застрелили на баррикадах в мае. Точнее, еще раньше: того наивного чешского фашистика Гиллмана он убил в один из летних дней в складе отцовской скобяной лавки «Коммунистическим манифестом».
Он погрузился в блаженство воспоминаний. Как и тогда, зазвучали эти слова, безо всяких украшений прекрасные своей правдивостью: «Призрак бродит по Евроne – призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». И это уже рушило образ большевистских зверств. Призрак коммунизма. Призрак большевизма. «Буржуазия выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят против нее это оружие, – современных рабочих, пролетариат». Именно в этом – ключ к ответу. Он читал это после полудня, когда золотое солнце проникало в склад через небольшое окошко и зажигало над его головой мотки медной проволоки, и в голове его пылал жгучий огонек маяка личного спасения и личной победы: «Наконец, когда классовая борьба приближается к развязке, процесс разложения внутри господствующего класса, внутри всего старого общества принимает такой бурный, такой резкий характер, что небольшая часть господствующего класса отрекается от него и примыкает к революционному классу, к тому классу, которому принадлежит будущее».
Роберт Гиллман не видел раскрашенного бомонда, который поднимался, приподняв подолы платьев, вверх по лестнице, – его обуревали другие страсти. Он видел весенний медовый закат, когда ходил по набережной вокруг Народного театра, ошеломленный своим открытием; кишение одетых по-весеннему и по-военному людей и немецких мундиров; золотые отблески речной глади и окна домов на набережной, отражающие солнце. Шел новый Роберт Гиллман, восьмиклассник гимназии из Труглярны, коммунист.
Коммунист? Дома взорвался страшный скандал, когда обнаружилось, что он вступил в партию. Когда он решил оставить старый, обреченный мир и жить в новом, который только-только зарождался. Но коммунист?
А действительно ли он живет в новом мире? Телом и душой? Умом и сердцем? Умом? Да. А сердцем? В чем он здесь новый человек? Уходя из семьи со злом, не с миром, он думал, что перед ним только путь в будущее, только путь революции. И куда же он пришел? Где он сейчас? Читает социалистических реалистов, от которых несет скукой, поскольку они не отвечают на вопросы, которые он задает. Задает только сейчас. И что это за вопросы? О чем? Чушь какая-то. Конечно! Но, наверное, и Маркс задавал бы себе эти вопросы, если б его Дженни изменяла ему с каким-нибудь Самуэлем Гелленом. Вынужден был бы их задавать, и кто знает, не задавал ли. Но об этом он не писал. А если он себе эти вопросы задавал, значит, они были естественными, человеческими и, следовательно, – большевистскими.
Ну да. Маркс не писал об этих вопросах, но если задавал их себе, то наверняка находил ответ. Или же попросту игнорировал их: перетерпеть, не волноваться, не отвлекаться от работы; быть и в такой ситуации героем, цельным, не разложенным на составные части, как эти персонажи декадентских романов. А какой из него герой? Никакой. Да, в военное время он не трусил, когда немцы забрали половину товарищей из организации; боялся, но преодолевал страх и продолжал выполнять задания. Суть не в этом. Ультрареакционный фашист или же американский пилот бомбардировщика тоже умели быть храбрыми. Не в этом, выходит, дело, и ты, дорогой, хорошо знаешь, в чем: надо уметь быть счастливым вопреки личным проблемам и трудностям, находить радость в великой общей борьбе за народное дело и в этой общей радости личные печали растворять, как в царской водке. А он так не может. До сих пор не научился, и трудно сказать, научится ли.
Он выпрямился и сердито пнул перила острым носком ботинка. Ему нужна разрядка. Напиться в стельку или пойти к какой-нибудь сисястой бабе с приятной мордашкой – хоть на минуту испытать какую-нибудь вполне материалистическую, недвузначную радость. Избавиться на какое-то время от страшно изнуряющей Ирены. Он стал хищно осматриваться. Все эти буржуазные дамочки – шлюхи, всегда готовые к разврату.
Начал вглядываться в поток расфранченных женщин, что как раз вливался в зал Сладковского. Оттуда визжал ансамбль медных инструментов. Блуждающим взглядом Роберт искал среди женщин такую, что могла быть чем-то вроде успокаивающей таблетки. Увидел Жофию Бернатову и окликнул ее почти пижонски:
– Хеллоу, Жофочка!
Жофия Бернатова подняла свои фиалковые глазки и профессионально удивилась:
– Здравствуй, Роберт! А где Ирена?
Он доверительно взял ее под руку и махнул рукой:
– Потанцуем? Ты, я смотрю, тоже без Педро.
– Он тебе не попадался?
– Нет.
– Ну ладно. Наверное, снова где-то напивается. Я сегодня уже вытаскивала его из бара. Представляешь, пришлось влить в него почти литр черного кофе. А сейчас опять исчез.
– Оставь его в покое.
– Его оставишь… – ответила Жофка. – А у тебя как, Робочка? Что ты сейчас делаешь? Целый век мы с тобой не виделись.
Оркестр начал играть, но не то, чего он подсознательно ждал. Слоу-фокс. Ему же хотелось чего-то погорячее. «Tiger Rag», или как там это обезьянство называется. Но играли слоу-фокс, унылый певец уже готовился у микрофона. Роберт обнял Жофку и крепко прижал к себе.
– Но, Робик… – выдохнула она с искренним удивлением.
– Пошли! – сказал он сквозь зубы. – Черт, надо же было им завести эту нудную тянучку! – Жофка тесно прижалась к нему. Груди у нее крепкие, подумал он, как я и предполагал. Он почувствовал легкое возбуждение. – Что я сейчас делаю?… – Он вернулся к ее вопросу. – Ничего не делаю, Жофочка. Я нищий лентяй.
– Да здравствуют лентяи! – воскликнула она.
– Ах, Жофия!
– Что такое?
– Да так!
Он знал себя и понимал, что сейчас начнет трепаться. Не стоило, мелькало в мозгу, но он себя знал. И было ему все равно.
– Что тебя мучит, Робик? Доверься тетечке Жофе! – произнесла она по образцу английского разговорника. Он завертел головой. – Доверься же! – зашептала она, игриво гладя его рукав. Ему стало смешно. А почему бы и нет? Что во всем этом такого оригинального или даже святого, чтобы не рассказать Жофии? Какой смысл притворяться, будто он не знает, что ей все известно? Скольким знакомым, наверное, раззвонил об этом Сэм – так, как он это видит.
– Жофия, – театрально начал он, глядя ей в глаза. – Почему все женщины – такие чудовища?
Жофия вытаращила глаза:
– Ответь мне.
– Нет, вовсе никакие не чудовища. Как раз мужчины в большинстве – чудовища.
Она снова поставила себя в разыгранную позу. Sex quarrel. Некоторые идиоты в Америке решают эти проблемы интрижкой. Борьба полов. А женщины читают на эту тему лекции. Она сказала – мужчины. Он мгновенно представил себе буржуазных мужчин в пальто, с их интрижками, и желание исповедаться прошло молниеносно, как неуловимое мгновение кошмарного сна. Он видел перед собой тупые фиалковые глаза на праздной буржуазной рожице, и сквозь них проступило лицо его Ирены. И он стал самому себе противен.
– Ты со мной согласен? – настаивала Жофия.
– Да, пожалуй.
– Ты говоришь, как будто сам себе не веришь.
– Да, да, ты права.
– Конечно, права. Знаешь, мы, женщины, – продолжала она (его передернуло), – мы, женщины, в принципе, абсолютно нормальны. Мы вовсе не чудовища, как ты говоришь. Если бы не было мужчин, которые считают, что любой ценой должны быть донжуанами, если бы они к нам не приставали…
– Сдаюсь! – воскликнул он с деланным юмором. Глупая корова! И он хотел с ней откровенничать! Поделом. И предложил: – Давай переменим тему.
Она с минутку помолчала, глядя на него пустыми глазами, похожими на обсосанные леденцы. Потом рассмеялась.
Ох, Роберт! – вздохнула она и противным голосом попробовала напеть: – «Love, oh love, oh careless love – you brought the wrong girl into this life of mine!»[16]16
Американская народная песня «Беспечная любовь»:
Любовь, любовь, беспечная любовь,Ты подарила мне девчонку без души…(англ.)
[Закрыть]
Какая корова! Все у них начинается и кончается английским. Цитируют шлягеры, как раньше люди цитировали Библию. Корова! Он молчал – и своим ледяным безмолвием доводил ее до отчаяния. Не болтать нужно, а выбросить Геллена, отмолотить Ирену, потом ей все простить и снова ужасно любить ее.
Унылый эстрадный певец у микрофона сопроводил это решение идиотским английским:
– «I can 't use no woman, if she can 't help me lose the blues…»[17]17
Мне не нужно женщин,Кроме тех, что разгонят мой блюз…(англ.)
[Закрыть]
Жофия – над этим? – рассмеялась квакающим смехом.
Общение с Иреной Гиллмановой его не очень вдохновило. Поклонившись, он удалился, и ему было неприятно, ибо он ощущал, что не смог развлечь ее. Но потом он услышал, как его зовут волшебным голосом мечты:
– Монти! – и он, узнав голос Ренаты, быстро обернулся. Ему навстречу шла дьявольски прекрасная девушка с брильянтовым колье на шее, с темными глазами на ухоженном лице, нью-йоркская дива в модельном красном платье.
– Хелло, Рената!
– Монтик! Не думала застать тебя здесь!
– Я как раз тебя искал, Рената!
– В самом деле?
– Да!
Они стояли, улыбаясь, друг против друга: он, сельский учитель на воскресной побывке в Праге, и она, англо-американская барышня из Института. Но в ту минуту он об этом почти не думал. Его ошеломила непосредственность идеальной красоты Ренаты. Как будто они всегда были влюбленными. Она улыбалась ему и была прекрасна, но что-то печально ностальгическое висело в воздухе. Ладно, по фигу, кто такая Рената в остальном, кто ее отец, а кто его. И предстоящий понедельник тоже. Они внезапно оказались без кожуры, натянутой на них обществом, судьбой, официальными административными документами. Они были наги, молоды, сексуальны. Как у Хемингуэя. Перед ними жизнь, которую нужно прожить за несколько часов. За несколько минут. Как у Хемингуэя. Но это неважно, так и в самом деле иногда бывает.
– Идем походим внизу, там меньше народу, – произнес он и предложил ей руку. Она сунула свою ему подмышку. Они смотрелись, как на миниатюре из слоновой кости в золотистом свете комнаты Ренаты, увешанной теннисными ракетками. Рената, как всегда, великолепна, янтарные волосы гладко зачесаны и собраны в узел. Прелестная белая шея. Они медленно спустились по ступенькам и остановились в самом низу, у гардероба. И там она повернулась к нему и спросила:
– Ну, как же у тебя сложилось, Монти?
С минуту он не отвечал, купаясь в целительных глубинах ее черных глаз, – и внезапно это его завтра стало в тысячу раз более отчаянным, смертельно трагичным. Он ответил туманно и кратко:
– Еду.
Она молчала, потом почти шепотом спросила:
– И ничего нельзя сделать?
Он покачал головой. Рената смотрела на него серьезно, и его даже тронула эта ее серьезность, не знавшая трагики.
– Рената, мне там будет очень грустно.
– Я понимаю. – Она взяла его за руку.
– Я… – Он чувствовал, что вот-вот заплачет. – Я… Рената, у меня такая идиотская жизнь.
Она сжала его руку.
– Не печалься, Монти.
– Такая идиотская жизнь!
Он ответил на ее пожатие. Ведь он любит ее! Новое горе! Ведь у него было столько времени, а он растратил его в своих колебаниях: любит он ее или не любит, пряча от себя же дурацкую робость перед мейеровской виллой с фонтаном. А сейчас – поздно, это ему смертельно ясно. Страшная, коварная жизнь! Конечно же, он любит ее. Бархатные пальчики прохладно коснулись его руки.
– Ренка, мне хочется застрелиться.
– Но почему, Монти? Ведь ты приедешь.
Он покачал головой.
– Это невозможно.
– Глупости! Через четырнадцать дней ты будешь здесь.
– Да, на воскресенье. Я знаю. Но я не хочу на воскресенье. Я хочу всегда быть здесь. Здесь моя жизнь.
– Но ведь ты же будешь здесь.
Он улыбнулся.
– Конечно, будешь.
– Когда?
– Это не надолго. Увидишь!
Они стояли в углу, в стороне от людей, идущих в гардероб. Он погладил ее руку.
– Очень мило, Рената. Но не надо меня утешать.
Он осмотрелся. Нужно поцеловать ее. Он все еще не поцеловал ее, а теперь, наверное, это будет в последний раз.
– Ренка, пошли!
– Куда?
– Там видно будет. Уйдем отсюда. Рената, это моя последняя ночь.
Она колебалась. Он настаивал:
– Последний день жизни.
Она приложила пальчик к его губам:
– Тихо! – и это возбудило его так, как никогда никакой petting с ней в прошлом. Это уже не рецидив прежнего флирта. Fucking, нежный и страстный – куда бы с ней деться, чтоб наверняка? Почасовые гостиницы эти идиоты закрыли. Да и не пошла бы она с ним туда. Деревенская это выходка, вдруг с ужасом понял он и снова почувствовал смертельную жестокость судьбы. Да и ляжет ли она с ним, даже в своей вилле с фонтаном – это тоже вопрос. Раньше надо было начинать. Гораздо раньше. Надо было наплевать на свои комплексы и попасть к ней в постель еще тогда, в летнем лагере в Крконошах. А сейчас – поздно. Разве что милый старый petting где-нибудь за углом…
– Пошли, Рената! – настаивал он.
– Ну пошли!
Он почти бегом понесся к гардеробу. Казалось, вечность прошла, пока принесли ее шубку. Пока он помогал ей одеться, белая шея в вырезе платья какое-то мгновение принадлежала ему, на миг ему удалось забыть о завтрашнем дне и думать только о ближайших минутах. Пока он сам надевал пальто, Рената завязывала черный кружевной шарф. Потом она повернулась к нему, дьявольски красивая, взволнованная: в молчании предварительной игры, за которой не должно быть ничего, они прошли к выходу и оказались в морозной, заснеженной ночи. Не произнесли ни слова. Сразу же за углом он жадно поцеловал ее. Он хотел, чтобы… нет, не хотел… не хотел уезжать, хотел остаться здесь в Праге – навсегда. И Рената Майерова обострила это желание.
Тщетность, тщетность, тщетность… Потом появился Педро Гешвиндер и поклонился ей, как лорд. Глаза его красны с похмелья, но Ирену обрадовало его появление. Она уже собиралась домой, думала о руках Роберта, о том, как она обопрется о него в трамвае, и Роберт даже не пошевелится, радуясь, что она с ним, – и вдруг появился Педро.
– Можно пригласить тебя на танец, Ирена? – произнес он галантно – все такой же, как и семь лет назад в Тополове, такой же педантично светский, хотя и давно уже без таинственного очарования: все-таки первый мужчина, кто поцеловал ее, там, у пруда, а в Задворжи, на лесном мху, расстегнул ей блузку. Гешвиндер. Они смешались с толпой, и Педро серьезно, старательно, хоть и не очень успешно принялся выделывать фигуры для престарелых. Она творила с ним тогда что-то страшное, и ему, бедняжке, приходилось все вытерпеть, но он был дурачок и заслуживал этого. Она определенно знала, что в конце концов отдастся, ведь он так добивался ее. И она была бы потом с ним всю жизнь, если бы он умно и нежно нашел бы где-нибудь комнату с замком на двери и с кроватью. Но вместо этого он неистовствовал в лесах, где она бы никогда этого не сделала, и был агрессивен, строя из себя мужчину, дурачок. Бедняжка Педро. Он мог бы стать ее мужчиной, не Роберт. Блестящий молодой человек, с его двенадцатью костюмами, сплошь из английских тканей темных тонов, он не сумел сделать то, что удалось потом Роберту: выманить родителей и привести ее к себе домой. Лунной ночью в Задворжи он расстегнул ее клетчатую блузку, и она не сопротивлялась, потому что под нею уже носила элегантный черный лифчик, и позволила ему целовать свое плечико, и еще ниже, но потом ей стало жаль, что она уже не девочка, и она глупо расплакалась. А Педро был тогда страшно предупредителен, он поспешил вернуть бретельку на место, застегнул блузку, обнял ее: «Хорошо, хорошо, моя девочка, не будем, если не хочешь», – и потом, наверное, у него так же болело, как у Сэма. Только он молчал об этом. Педро – господин и джентльмен, не такой грубиян, как Сэм, который все ей выбалтывает и все время как-то странно подчеркивает, что она ему нравится потому, что выглядит как мальчик, а Ренату он, мол, отверг из-за ее обильной женскости. Болтун и трепач. Гешвиндер откровенно пялился на нее, как тогда в Задворжи, у реки, когда она показывала ему себя, медленно, по частям снимая купальный халат; сейчас он вдруг вытанцевал сложную фигуру и спросил:
– Ты счастлива, Ирена?
– В чем?
– В своем супружестве?
– Вполне. А ты в своем жениховстве?
Гешвиндер заморгал:
– Жофия – хорошая девушка.
– Ты на ней женишься?
Он покачал головой:
– Нет. Пока нет. Еще есть время.
– Когда закончишь институт, да?
– Может быть.
Она видела, что ему хочется поговорить о старых временах. Но, подумав, она решила не трогать прошлое, хотя очень приятно слушать слова любви, и от давно оставленных полулюбовников – пожалуй, даже больше, чем от других.
– А что собирается делать после института Роберт? – спросил Гешвиндер.
– Наверное, пойдет на радио.
– Еще не решил?
– Не совсем.
Пауза. Он обнял ее.
– А у меня уже все решилось, – сообщил он.
– Да?
– Для начала – девять тысяч в месяц.
– Вот как! – Она сделала большие глаза. – Поздравляю, Педро!
– Мне дают в свое распоряжение авто, – продолжал он небрежно. – Вот это будет жизнь!








